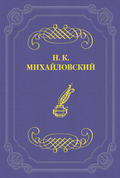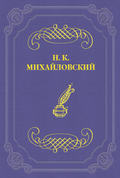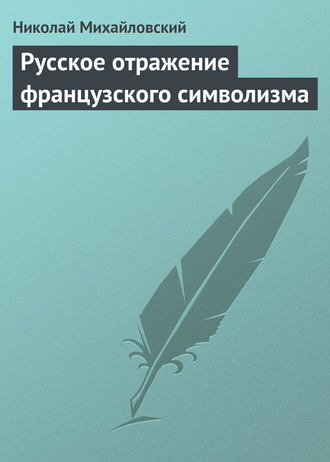
Николай Михайловский
Русское отражение французского символизма
Но позволительно усомниться и в гораздо большем, а именно в том, чтобы все занесенные г. Мережковским в список „современных идеалистов“ чувствовали себя в этих рамках и в этом соседстве как в своей тарелке. Я думаю, что они попали в список потому, что пользуются благосклонностью г. Мережковского и что благосклонность эта определяется не теми или другими их качествами, а исключительно настроением г. Мережковского. Иначе говоря, общая скобка, за которую они поставлены, совершенно произвольна. Странно, в самом деле, читать такое, например, заявление г. Мережсковского: „Так же, как и все люди нового поколения, Спасович – идеалист“. Как известно, г. Спасович принадлежит, напротив, к очень старому поколению. Г-н Мережковский, правда, оговаривает энергию и молодость духа г. Спасовича, но ведь эти качества равно доступны всем поколениям и, во всяком случае, г. Спасович не есть продукт тех особенных условий, среди которых и под влиянием которых зарождается „современный идеализм“ г. Мережковского. Он ведь только еще зарождается, этот современный идеализм, он выбивается из-под камня, „как младенчески слабые и беспомощные побеги молодого растения“. Как бы кто ни смотрел на г. Спасовича, но неужели же он может иметь какое-нибудь отношение к этой младенческой слабости и беспомощности? „Parlez pour vous[4], г. Мережковский!“ – думал, вероятно, г. Спасович, читая сравнения „новых течений“ с беспомощными ростками и Гомункулом.
Г-н Мережковский заимствует свой свет от того движения в современной французской литературе, которое известно под именем символизма или декадентства, – я не могу здесь распространяться об этом обширном предмете, так как уже начал о нем беседу в другом месте. Скажу лишь следующее. Движение это отвечает некоторыми своими сторонами на действительную и, может быть, важнейшую верховную потребность человеческого духа, каковая потребность существовала, однако, всегда. Но, во-первых, не один символизм, даже во Франции, пытается удовлетворить эту потребность, а во-вторых, из всех этих попыток символизм есть самая плоская и уродливая, не только не подвигающая к разрешению задачи, но компрометирующая ее. Символизм слагается из умственной и нравственной дряхлости, доходящей, по мнению некоторых, до психического расстройства, затем из шарлатанства, непомерных претензий и того, что французы называют блягой{9}.
Г-н Мережковский насчитывает „три главных элемента нового (то есть символистского или декадентского) искусства: мистическое содержание, символы и расширение художественной впечатлительности“. Это приблизительно верная программа некоторых символистов, как они сами ее понимают или по крайней мере излагают. Приблизительно верно также и другое замечание г. Мережковского: „Непростительная ошибка думать, что художественный идеализм – какое-то вчерашнее изобретение парижской моды. Это возвращение к древнему, вечному, никогда не умиравшему“. „К вечному“– это немножко сильно сказано, а возвращение к тому, что никогда не умирало – не совсем понятно. Но, во всяком случае, верно, что „новое искусство“ содержит в себе мало нового, и это новое не хорошо, чего, впрочем, г. Мережковский отнюдь не думает.
С художественной стороны символизм, поскольку в нем есть зерно правды, представляет собою реакцию против „натурализма“ и „протоколизма“ Эмиля Золя с братией. Со стороны философской – поскольку можно говорить о ней в применении к людям весьма мало сведущим и совершенно беспорядочно мыслящим – он реагирует против последней крупной философской системы, выставленной Францией: против позитивизма. Идеи, вырабатываемые, а иногда только перерабатываемые Францией, имеют ту особенность, что они быстро и шумно распространяются далеко за ее пределы и овладевают чуть не всем цивилизованным миром. Так было и с позитивизмом в научно-философской области и потом с натурализмом в области художественной. Реакция против односторонности, сухости и узости этих доктрин естественно должна была в той же Франции принять наиболее острый характер и уже оттуда распространиться, как из центра, к периферии. Сам Огюст Конт, провозвестник позитивизма, стеснялся узкими рамками доктрины и ее черствостью и первый, собственно говоря, восстал на нее своим „субъективным методом“ и „религией человечества“{10}. Но эта неудачная попытка ослабевшего и расстроенного ума не привилась и не могла привиться в сколько-нибудь широких размерах. Задача состояла и посейчас состоит для Франции в религиозном объединении разума, чувства и воли, в таком расположении системы все растущих знаний, чтобы при этом получило удовлетворение и нравственное чувство; чтобы далее это нравственное чувство, в союзе со знанием, с наукой, проникало человека до полной невозможности поступать несогласно с указаниями нравственного чувства. В этом и смысл, и задача всякой религии. Религиозное чувство есть тот великий действительный элемент, без которого мертвы и наука, и нравственная доктрина. Беспримерные несчастия, сыпавшиеся на Францию в течение многих и многих лет и доселе ее не оставляющие, конечно, не способствовали исполнению великой задачи. Разумею не бурные периоды французской истории, а, напротив, периоды затишья. Страшен погром, вынесенный Францией в 1871 году{11}, но это был, в известном смысле, благодетельный эпизод – он заставил встрепенуться. Г-н Мережковский, имея, конечно, в виду главным образом Францию, говорит: „XVIII век и его ограниченный скептицизм не правы. Нет! Людям нужна вера, нужен экстаз, нужно священное безумие героев и мучеников“. Ограниченный скептицизм всегда не прав, но о XVIII веке следовало бы, может быть, говорить осторожнее. Пусть г. Мережковский припомнит хоть, например, величественную смерть героя и мученика революции – Кондорсе{12}. Или, так как г. Мережковский поэт, пусть припомнит судьбу братьев Шенье{13}. Но бывали во Франции и другие времена, когда она действительно ни во что не верила и когда кокетливая, эпикурейски скептическая и, для меня лично, глубоко противная даже на портрете улыбка Ренана была, может быть, лучшим, что могла представить миру великая страна. В такое печальное время зародился и натурализм, или протоколизм, Эмиля Золя. Крупный художественный талант, но плохой мыслитель, ограниченный и самодовольный, Золя дал толчок мелочной, протокольной точности описания. Фразами, блещущими всеми недостатками полузнания, он и теоретически пытался отстоять эту незаконную форму поэзии: протокол, копия с натуры – больше ничего от искусства не требуется; идеалы, противополагаемые непреоборимому естественному ходу вещей, нравственный суд над человеческими мыслями, чувствами и поступками, которые столь же необходимы, как рост дерева или вращение земли вокруг солнца, – все это вздор, ненужный балласт, подлежащий уничтожению.