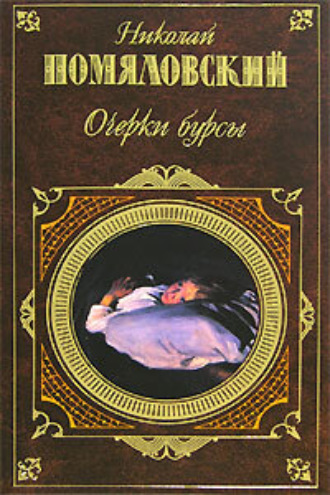
Николай Помяловский
Очерки бурсы
– Подставляй! – сказал он, расправляя в воздухе свою пятерню.
Омега выпятил свою лупетку (лицо).
– Надувайся! – сказал Чабря.
Омета надул щеки.
– Шире бери!
Омега до того надулся, что покраснел.
– Верховая, – качал Чабря, прикладывая свою руку ко лбу Омеги, – низовая, – прикладывая к подбородку, – две боковых, – прикладывая к одной и другой щеке. – Надувайся!
Омега надулся.
– И всеобщая! – торжественно вскрикнул Шестиухая Чабря.
После этого он забрал лицо Омеги в пясть, так что оно между пальцами проступило жирными и лоснящимися складками, и тряс его за упитанные мордасы и кверху и книзу.
Семенову было скучно. Он не знал, что делать…
– Леденцов, пряников! Пряников, леденчиков!
Это был голос Элпахи, который обыкновенно торговал пряниками и леденцами, отчего получал немалую выгоду, потому что покупал фунтами, а продавал по мелочи.
Семенов очутился около него.
– На сколько? – спросил его Элпаха, оглядываясь вокруг и около, потому что товарищество запрещало говорить с Семеновым, но купецкая корысть Элпахи взяла свое.
– На пять копеек.
– Деньги?
– Вот!
– Держись.
– Что ж ты обсосанных даешь?
– Лучший сорт.
– Перемени, Элпаха.
– Леденчиков, пряников! – закричал Элпаха, отворачиваясь в сторону.
Семенов, держа на ладони, рассматривал леденцы, не зная, съесть их или бросить, и уже решился съесть, как кто-то сзади подкрался, схватил с руки лакомство и быстро скрылся. Семенов со злобой посмотрел на товарищей, но бессильна была его злоба, и в то же время одурь брала его от скуки.
– Давай играть в костяшки, – сказал ему Хорь.
Семенов сам удивился, что с ним заговорил товарищ. Он недоверчиво смотрел на Хоря.
– Что гляделы –то пучишь? не бойся!
– Надуешь…
– Ну вот дурак… что ты!
– Побожись.
– Ей-богу, вот те Христос!
– Право, не надуешь?
– Побожился! чего ж тебе еще?
– Ну ладно, – ответил Семенов, от души обрадовавшись, что с ним заговорило живое существо, хоть это живое существо и было Хорь.
В училище была своя монета – костяшки от брюк, жилетов и сюртуков. За единицу принималась однодырочная костяшка; две однодырочных равнялись четырехдырочной, или паре, пять пар куче, или грошу, пять куч великой куче. Костяшки имели цену, определенную раз навсегда, и во всякое время за пять пар можно было получить грош. Огромное количество костяной монеты обращалось в бурсе. Ею платили при игре в юлу и в чет-нечет. Бывали владетели сотни великих куч и более; их можно узнать по тому, что они всегда держат руку в кармане и роются там в костяном богатстве. Употребление костяной монеты породило особого рода промышленников, которые по ночам обрезывали костяшки на одежде товарищей или делали это во время классов, под партами, спарывая бурсацкую монету сзади сюртуков.
Хорь был один из таких промышленников. У Хоря ничего не было своего – все казенное, и, если бы не казна, вы увидели бы в лице его возможность на Руси совершенно голого человека. У него почти никогда не водилось денег. В продолжении семи лет у него не перебывало и семи рублей, так что настоящая монета для него была менее действительна, чем костяшки. Это был нищий второуездного класса, и мастер же он был кальячить. Узнав, что у товарища есть булка или какое-нибудь лакомство, он приставал к нему, как с ножом к горлу, канючил и выпрашивал до тех пор, пока не удовлетворят его желание. Будучи без роду и племени, круглый сирота, он безвыходно жил в училище, на каникулы никогда не ездил и до того втянулся во все формы бурсацкой жизни, что, кроме ее, другой не существовало для него. Только в каникулярное время посещал он базар соседний, реку да лес: здесь был конец его света. Учиться Хорь терпеть не мог, но учился, потому что не мог терпеть и розги: из двух зол (а бурсацкое ученье – зло) приходилось выбирать меньшее. Он был страстный игрок в костяшки; но наживши кое-как великую кучу, он либо выменивал ее на деньги и проедал их с жадностью нищего, либо опять проигрывал, потому что играл не совсем счастливо. Тогда с перочинным ножом он промышлял под партами либо по ночам под подушками товарищей, куда ученики прятали свою одежду. У одного товарища таким образом он спорол с одежды все костяшки, так что не на что было застегнуться – все валилось долой, хоть умирай. Однажды Бенелявдов, первый силач класса, во время урока, при учителе, поймал его за волосы под партой и задал ему волосянку. Просить пощады нельзя было: заметит учитель. После долго смеялись над Хорем, говоря, что у него волоса распухли. Теперь у Хоря только и было полпары, то есть однодырочная.
– Чет аль нечет? – спросил он, загадывая.
– Пусть нечет, – отвечал Семенов.
– Твое. Теперь ты.
Семенов загадал, но лишь только открыл он ладонь, чтобы сосчитать, верно ли Хорь сказал «нечет», как хищный Хорь схватил костяшки и спрятал их себе в карман.
– Что же это, Хорь? – говорил Семенов.
– Я тебе Хорь?.. а в ухо хочешь?
– Оплетохом, – сказал один из товарищей.
– Беззаконновахом, – прибавил другой.
– И неправдовахом, – заключил третий.
– Отдай, Хорь; право, отдай.
– Опять Хорь?.. Рожу растворожу, зубы на зубы помножу!
Семенов не стал более разговаривать. Несчастный отошел в сторону. Нигде не было для него приюта. Он вспомнил, что у него в парте есть горбушка с кашей. Семенов хотел позавтракать, но горбушки не оказалось. Раздраженный постоянными столкновениями с товарищами, он обратился к ним со словами:
– Господа, это подло, наконец!
– Что такое?
– Кто взял горбушку?
– С кашей? – отвечали ему насмешливо.
– Стибрили?
– Сбондили?
– Сляпсили?
– Сперли?
– Лафа, брат!
Все эти слова в переводе с бурсацкого на человеческий язык означали: украли, а лафа – лихо!
– Комедо! – раздался голос Тавли.
– Иду! – было ответом.
Семенов еще после обеда подслушал, что у Комеды с Тавлей состоялся странный спор на пари, и потому поспешил на голос Тавли, забыв о своей горбушке.
– Готово? – спросил Комедо.
– Есть! – отвечал Тавля и развязал узел, в котором оказалось шесть трехкопеечных булок.
– Сожрешь?
– Сказано.
Толпа любопытных обступила их. Комедо был парень лет девятнадцати, высокого роста, худощавый, с старообразным лицом, сгорбленный.
– Условия?
– Не стрескаешь – за булки деньги заплати, а стрескаешь – с меня двадцать копеек.
– Давай.
– Смотри, ничего не пить, пока не съешь.
Вместо ответа Комедо стал уплетать белый хлеб, который так редко едят бурсаки.
– Раз! – считали в толпе. – Два, три, четыре…
– Ну-ка пятую…
Комедо улыбнулся и съел пятую.
– Хоть на шестой-то подавись!
Комедо улыбнулся и съел шестую.
– Прорва! – говорил Тавля, отдавая двадцать копеек.
– Теперь и напиться можно, – сказал Комедо.
Когда он напился, его спрашивали:
– А еще можешь съесть что-нибудь?
– Хлеба с маслом съел бы.
Достали ломоть хлеба и масла достали.
– Ну-ка попробуй!
Он съел.
– А еще?
– Горбушку с кашей съел бы.
Добыли и горбушку. Его кормили из любопытства. Он съел и горбушку.
– Эка тварь!.. Куда это лезет в тебя, животина ты эдакая! Скот! Как ты не лопнешь, подлец?
– А что брюхо? – спросил кто-то.
– Тугое, – отвечал Комедо, тупо глядя на всех…
– Очень?
– Пощупай.
Стали брюхо щупать у Комеды.
– Ишь ты, стерва!.. как барабан!..
– И что, два фунта патоки съешь?
– Съем.
– А четыре миски каши?
– Съем…
– А пять редек?
– А четыре ковша воды выпьешь?
– Не знаю… не пробовал… Я спать хочу…
Комедо отправился в Камчатку. Долго толпа ругала Комеду и стервой, и прорвой, и всячески…
Между тем Тавля, накормив на свой счет Комеду, по обыкновению озлился. Одному из первокурсных попала от него затрещина, другому он загнул салазки, третьему сделал смазь. Гороблагодатский видел это и в душе называл Тавлю скотиной. Потом Тавля посмотрел на игру в скоромные. Васенда наводил: он выставляет руку на парте, а Гришкец со всего маху ладонью бьет его по руке. Васенда старается отдернуть руку, чтобы Гришкец дал промах: тогда уже будет подставлять руку Гришкец. Это Тавлю не развлекло.
– Не садануть ли в постные? – пробормотал он.
Он стал оглядываться, желая узнать, не играют ли где в постные.
– А, вон где! – сказал он, отыскав то, что требовалось.
Около задних парт, подле Камчатки, собралось человек восемь. Один из них, положив голову на руки, так что не мог видеть окружающих, наводил: спина его была открыта и выпячена вперед. Поднялись над спиной руки и с треском опустились на нее. К ударам других присоединился и удар Тавли. По силе удара наводивший догадался, чей он был…
– Тавля ударил, – сказал он.
Тавля лег под удары.
Гороблагодатский между тем направлялся правым плечом вперед, по-медвежьи, к той же кучке. Увидев, что Тавля наводит, он присоединился к играющим.
Ударили Тавлю.
– Хлестко! – говорили в толпе.
– Ты восчувствуй, дорогая, я за что тебя люблю!
– Кто ударил?
– Ты.
– Вали его… вали снова!..
Тавля наклонился…
– Взбутетень его!
– Взъерепень его!
– Чтоб насквозь прошло!
Трехпудовый удар упал на спину Тавли.
– Гороблагодатский, – сказал Тавля, едва переводя дух…
– Растянуть его снова!
Опять повторился сильный удар…
– Бенелявдов, – указал Тавля.
– Вали еще!
– Что ж, братцы, эдак убить можно человека…
– Зачем мало каши ел?
– Жарь ему в становой!
Опять сильный удар, и опять не угадал Тавля.
– Что ж это, братцы?.. убить, что ли, хотите?
– Значит, любим тебя, почитаем, – сказал Гороблагодатский.
– Братцы, я не лягу… что же такое!.. других так не бьют…
– А тебя вот бьют!
– Жилить?
– Вздуем!
– Морду расквашу! – сказал Гороблагодатский.
– Братцы….
– Ну! – крикнул грозно Бенелявдов.
Тавля угадал наконец… Игроки захохотали, когда он сказал:
– Я не хочу больше играть…
– Отчего же, душа моя? – спросил Гороблагодатский.
Тавля взглянул на него с ненавистью, но, не сказав ни слова, удалился потешаться над первокурсными… Кучка продолжала игру в постные. Но вдруг один из играющих поднял нос и понюхал воздух.
– Кто это? – спросил он.
Поднялись носы и других игроков. Потом все подозрительно посмотрели на Хорька.
– Ей-богу, братцы, не я… вот те Христос, не я… хоть обыщите…
– Чичер!.. – провозгласил Гороблагодатский.
Человек десять вцепились Хорьку в волоса, а один из них запел:
– Чичер, ячер, на вечер; кто не был на пиру, тому волосы деру; с кровью, с мясом, с печенью, перепеченью. Кочена иль пирога?
– Пирога, – пищал Хорь…
– Не проси пирога, мука дорога. Чичер, ячер, на вечер; кто не был на пиру, тому волосы деру; с кровью, с мясом, с печенью, перепеченью… Кочена иль пирога?
– Кочена.
Снова почали и опять пропели «чичер»…
– Кок или вилки в бок?
– Кок! – отвечал истасканный Хорь.
После этого, отпустив в его голову несколько щелчков, отпустили его с миром, говоря:
– Не бесчинствуй!..
– Черти эдакие! – отвечал Хорь. – Я в другой раз еще не так!
Семенов, видя, как таскали Хоря, шептал:
– Так и надо, так и надо!
Но Гороблагодатский схватил Семенова сзади и положил на парту вместо того, кто должен был наводить; с другой стороны придерживали Семенова за голову. На спину его обрушились жесточайшие удары. Он шатался, когда поднялся. Не его спине было переносить такую тяжесть здоровых ладоней. Осмотрелся он бессмысленно кругом. Кто бил? за что?.. Семенов упал на парту и зарыдал. Темнело в классе; еще несколько минут, и зги не увидишь.
– Братцы, – заговорил Семенов, опомнившись, – за что вы меня ненавидите?.. все!.. все!..
Голос его был заглушен хоровою песней. Сумерки развивались быстро; едва можно рассмотреть лица; цвета и линии пропадают в воздухе, остаются одни звуки.
Семенов пробрался к окну и с гнетущей тоской и злобой на сердце смотрел на неприветливый двор, в непроглядную тьму зимнего скверного вечера. Припомнилась ему родная семья. Отец давно уже встал от послеобеденного сна; добрая мать, которой он был любимцем, вносит теперь самовар в гостиную; брат и две сестренки уже около стола, щебечут и смеются; звенят чайные ложки и блюдца, и легкий пар идет от живительной влаги. «Домой бы теперь!..» Он закрыл лицо руками, прислонился к стеклу и опять зарыдал… Но вдруг плач его пресекся… Ужас напал на него, и он задрожал всем телом. Страшна такая жизнь, какую он испытал сегодня. Он забыл физическую боль тела, лишь только в груди залегло что-то и мешало дышать. Отупел он от страху, и неотразимо ясно представилось ему: «Отверженец!.. тебя все ненавидят! и даже предвидеть нельзя, что с тобой сделают! быть может, сейчас ударят в спину, вырвут клок волос из головы, плюнут в лицо…» В классе совершенно темно, потому что начальство из экономического расчета зажигало лампу только в часы занятий. В этой темноте могут сделать с ним что угодно, и не узнаешь, кто над тобой сорвет гнев свой и отомстит за товарищество. «Не буду больше», – прошептал он, и не было тени злобы в его душе. «Того и стою!» – прокрадывалось в его сознание. Он желал примириться с товариществом и душевно просил пощады. Он уже ненавидел начальство, сделавшее его фискалом, и готов был сам вырвать клок волос из головы того товарища, который займет его место. Семенов решился просить у всего класса прощения и публично отказаться от шпионства. Но вдруг он услышал, что будто кто-то крадется к нему; он в страхе поспешно оставил окно и неизвестно куда скрылся в темноте.
В классе так темно, что за два шага не распознать лица человеческого. Всякие игры прекращались в эти часы, и бурсак мог развлекаться только звуками, странными и разнообразными. Общее впечатление было дико…
Звуки мешаются и переплетаются. Раздается крик какого-то несчастного, которому, вероятно, въехали в загорбок; слышен напев на «Господи воззвах, глас осьмый»; вырывается из концерта патетическая нота в верхнее ге; кого-то еще треснули по роже; у печки поют: «Отроцы семинарстии, посреде кабака стояще, пояху: подавай, наливай; мы книги продадим, тебе деньги отдадим»; слышен плач; грегочет какая-то тварь, то есть ржет по-лошадиному, выделывая «и-и-го-го-го-го!» Ругань висит в воздухе, крики и хохот, козлоглагольствуют, грегочут и поют на гласы и вкушают затрещины. В Камчатке, под управлением заматерелого Митахи, хранителя училищных преданий, поется стих, сложенный еще аборигенами бурсы:
Сколь блаженны те народы,
Коих крепкие природы
Не знали наших мук,
Не ведали наук!
Тут в столовую заглянешь,
Щей негодных похлебаешь,
Опять в свой класс идешь,
Идешь, хоть и воешь…
А тут архангелы подскочат,
Из-за парты поволочат,
Давай раба терзать,
Лозой его стегать…
Бедняги! недаром же так дико в вашем классе. Вас волочат, терзают, стегают!.. Сочувственно подстают к голосу Митахи голоса его товарищей. К сожалению, конец песни, которая пелась каким-то замогильным, грустным напевом, забылся и не дошел до нас…
В другом месте слышно:
На поповой-то на даче
Мужичок едет на кляче,
Хлибушку везе,
Хлибушку везе…
Мужичье к возью бежали,
Кулачьем в возье совали:
– Щё, бра’, продаешь?
Щё, бра’, продаешь?
Им сказали, щё овес;
Мужик вынул да потрес
На горсти своей,
На горсти своей.
Еще слышно:
А как взяли козла
Поперек живота,
Как ударили козла
О сырую мать-землю;
Его ноженьки
При дороженьки,
Голова его, язык
Под колодою лежит…
После каждого двустишия припевалось:
Ти-ли-ли-ли-ли-ли-ли, —
и потом повторение второго стиха.
А вот и еще отрывок:
Любимцы… Аполлона
Сидят беспечно in caupona.
Едят селедки, merum пьют
И Вакху дифирамб поют:
«О, как ты силен, добрый Вакх!
Мы tuum regnum чтим в мозгах;
Dum caput nostrum посещаешь,
Оттуда curas выгоняешь,
Блаженство в наши льешь сердца
И dignus domini отца.
Мы любим Феба, любим муз:
Они с богами нас равняют,
Они путь к счастью прокладают,
Они дают нам лучший вкус;
Sed omnes haec плод ученья
Conjunctae sunt всегда с томленьем…
Давно б наш юный цвет увял,
Когда б ты нас не подкреплял! [2]
Восьмипесенная «Семинариада» составлена давно и переходит по преданию от одного поколения к другому. В местных песнях и стихах отразилось, как товарищество смотрело на науку и на своих начальников…
Из общего же всем репертуара певались здесь либо жестокие романсы: «Стонет сизый голубочек», «Ночною темнотою», «Я бедная пастушка», «Уж солнце зашло, вверх горя» и т. п., либо чисто народные песни: «Ах вы, сени», «Вниз по матушке по Волге», «Как за реченькою, как за быстрою», «Полно, полно нам, ребята, чужо пиво пити» и т. п.
Но вот какой-то отпетый возглашает еще стих домашнего изделия:
В восьмом часу по утрам,
Лишь лампы блеснут на стенах,
Мужик Суковатов несется,
Несется в личных сапогах…
Повисли в воздухе хохот, остроты и крепкая ругань против начальства… Опять какая-то шельма грегочет… десятеро загреготали… двадцать человек… счету нет… Появились лай, мяуканье и кряканье, свист и визг… Ко всей этой ерунде присоединилась голосов в сорок бурсацкая разноголосица: участвующие в ней разбирают между собой все тоны, употребляемые в пении, и все ноты берут сразу. Между тем сырость и холод пронимают приходчину до костей; благим матом затягивается: «Холодно, холодно!» – это призывный к согреванию звук, после которого ученики начинают махать руками наподобие тому, как греются извозчики и стонут – душу надрывают: «Холодно, холодно!» – «Домового ли хоронят, ведьму ль замуж выдают?» Пастей во сто выработывается бесшабашный гвалт, и все это совершается в непроглядной темноте. Если бы привести в класс свежего человека, не слыхавшего стенаний бурсака, он подумал бы, что это грешные души воют в аду. Грегочут, тянут «холодно», дуют разноголосицу во все ноты; в вопиющих и взывающих звуках растут-разрастаются голоса и отдаются дрожью в оконных стеклах… Существует ли на свете еще какой-нибудь нелепый звук, который не отыскался бы в этой массе крика, пенья и гуденья! Но вот что-то новое зарождается в душном, промозглом воздухе кромешного класса; что-то встало над всеми голосами. Заслышали товарищи знаменитый громадный бас Великосвятского, гласящего «благоденственное и мирное житие»; с неудержимою силою оглушаются товарищи последними словами: «Благополучно ныне почивающему на лаврах курсу многая лета!» На необъятной нотище разрешается последний звук… В одно мгновение, точно по одному темпу, смолкли все… Товарищество наслаждается; оно страстно любит крепкий звук… Но минута – и стоголосое «многая лета!» отвечало басу… Надо заметить, что товарищество уважало, кроме отпетых, потом силачей, потом голов, выносящих многоградусный хмель, – уважало и обширных басов. Бурса любит хорошие голоса, бережет их, лелеет, выручает из всякой беды. Ученики еще дома привыкли петь в церкви, славить Христа, служить панихиды и молебны, читать часы и апостол, отчего у них развиваются голоса и любовь к пению. В училищах часто бывают превосходные певческие хоры. Около Великосвятского слышно одобрение.
– Господа, концерт! – предложил кто-то.
– «На реках вавилонских».
– Да нот нет!..
– На память!..
– Зови маленьких певчих.
Через несколько минут поется концерт. Ни одного дикого звука нет в классе. Дисканты плачут детскими голосами; бас, как подавленная сила, гудит и сдержанно ропщет; слышен крик вавилонянина: «Воспойте нам от песней сионских!»; чудится, как в гневе и нетерпении топает ногами грозный деспот… «Како воспоем на земле чуждей песнь господню?» – отвечают плачущие, робкие голоса детей; женские слезы слышны в грудных дискантах. Высокими, тихими и страстными нотами восходит плач и наконец переходит в сильные, грозные голоса: «Дщи вавилоня, окаянная! блажен, кто возьмет твоих младенцев и расшибет их головы о камень!»
После концерта все стихло. Ученики, укрощенные на время стройным пением, рассказывают друг другу сказки, вспоминают каникулы, толкуют о начальстве и товариществе. Изредка кого-нибудь треснут по шее. Митаха, хранитель преданий, поет заунывным голосом:
А как взяли козла
Поперек живота…
Но ученики недолго сидели скромно и тихо.
– Приходчину дуть! – раздался чей-то голос.
– Идет! – отвечают на голос.
Собирается партия человек двадцать, и ноябрьским вечером крадутся через двор, в класс приходских учеников. Приходчина, тоже сидящая в сени смертней, ничего не ожидала. Второуездные, сделавши набег, рассыпались по классу, бьют приходчину в лицо, загибают ей салазки, делают смази, рассыпают постные и скоромные, швычки и подзатыльники. Кто бьет? за что бьет? Черт их знает и черт их носит!.. Плачь, вопль, избиение младенцев! На партах и под партами уничтожается горезлосчастная приходчина. Больно ей. В этих диких побиениях приходчины, совершаемых в потемках, выражалась, с одной стороны, какая-то нелепая удаль: «Раззудись, плечо, размахнись, кулак!», а с другой стороны – «Трепещи, приходчина, и покоряйся!» Впрочем, в таких случаях большинство только удовлетворяло своей потребности побить кого-нибудь, дать вытряску, лупку, волосянку, отдуть, отвалять, взъерепенить, отмордасить, чтобы чувствовалось, что в твоих руках пищит что-то живое, страдает и просит пощады, и все это делается не из мести, не из вражды, а просто из любви к искусству. Натешившись вдоволь и всласть, рыцари с торжественным хохотом отправляются восвояси. Истрепанная приходчина охает, плачет и щупает бока свои.
Когда рыцари вернулись в класс, там шла новая забава.
– Мала куча! – кричало несколько человек.
Среди класса, в темноте, шла какая-то возня – не то игра, не то драка… Смех и брань раздавались оттуда.
Усиливается возня. Обыкновенно, когда кричали «мала куча», то это значило, что кого-нибудь повалили на пол, на этого другого, потом третьего и т. д. Упавшим не дают вставать. Человек тридцать роются в куче, сплетаясь руками и ногами и тиская друг другу животы. Успевшие выбиться из кучи и встать на ноги стараются повалить других, еще не упавших на пол, и постоянно раздается в несколько голосов:
– Мала куча!
Не окончилась еще эта возня, как затеялась новая.
– Масло жать! – кричали из угла у печки.
Слышно, как толпа пробирается в угол, напирает и давит своею массою попавших к стене, при криках:
– Михалка, вали!
– Васенда, при!
– Работай, Шестиухая Чабря…
– Тисни, Хорь, тисни!
Попавшие к стене еле дышат, силятся выбиться наружу, а выбившись, в свою очередь жмут масло.
Но обе игры неожиданно прекратились… Раздался пронзительный, умоляющий вопль, который, однако, слышался не оттуда, где игралась «мала куча», и не оттуда, где «жали масло».
– Братцы, что это? братцы, оставьте!.. караул!..
Товарищи не сразу узнали, чей это голос… Кому-то зажали рот… вот повалили на пол… слышно только мычанье… Что там такое творится? Прошло минуты три мертвой тишины… потом ясно обозначился свист розог в воздухе и удары их по телу человека. Очевидно, кого-то секут. Сначала была мертвая тишина в классе, а потом едва слышный шепот:
– Десять? двадцать? тридцать…
Идет счет ударов.
– Сорок… пятьдесят…
– А-я-яй! – вырвался крик.
Теперь все узнали голос Семенова и поняли, в чем дело…
– Ты, сволочь, кусаться! – Это был голос Тавли.
– Ай, братцы, простите!.. не буду! ей-богу, не бу?
Ему опять зажали рот…
– Так и следует, – шептались в товариществе…
– Не фискаль вперед!..
Уже семьдесят…
Боже мой, наконец-то кончили!
Семенов рыдал сначала, не говоря ни слова… В классе было тихо, потому что всячески совершилось дело из ряду вон… Облегчившись несколько слезами, но все-таки не переставая рыдать, Семенов, потеряв всякий страх от обиды и позора, кричал на весь класс:
– Подлецы вы эдакие!.. Чтобы вам всем… – И при этом он прибавил непечатную брань.
– Полайся!
– Назло же расскажу все инспектору… про всех…
Неизвестно от кого он получил затрещину и опять зарыдал на весь класс благим воем. Некоторые захохотали, но многим было жутко… отчего? Потому что при подобных случаях товарищество возбуждалось сильно, отыскивало в потемках своих нелюбимцев и крепко било их.
Между тем рыдал Семенов. Невыразимая злость на обиду душила его; он в клочья разорвал чью-то попавшуюся под руку книгу, кусал свои пальцы, драл себя за волосы, и не находил слов, какими бы следовало изругаться на чем свет стоит. Измученный, избитый, иссеченный, несколько раз в продолжение вечера оскорбленный и обиженный, он теперь совершенно одурел от горя. Жаль и страшно было слышать, как он шептал:
– Сбегу… сбегу… зарежусь… жить нельзя!..
Надобно честь отдать товарищам: большая часть, особенно первокурсные, в эту минуту сочувствовали горю Семенова. У некоторых были даже слезы на глазах – благо темно, не заметят. Второкурсные храбрились, но и на них напала тоска, смешанная со страхом. Все понимали, что такое дело даром не пройдет и что великого сеченья должна ожидать бурса. Тихо было в классе; лишь Семенов рыдал… Что-то злое было в его рыданиях… но вот они вдруг прекратились, и настала мертвая тишина.
– Что с ним? – спрашивали ученики.
– Не случилось ли беды?
– Да жив ли он?
– Братцы, – закричал Гороблагодатский, освидетельствовав парту, на которой сидел Семенов, – он пошел жаловаться!
– Опять фискалить! – раздалось несколько голосов.
Расположение товарищей мгновенно переменилось; посыпалась на Семенова злая брань.
– Смотрите, не выдавать, ребята!
– Э, не репу сеять!.. – слышались ответные голоса.
– А ты как же, Тавля?
– Я скажу, что хотел заступиться за него и в то время, как отдергивал от его рта чью-то руку, он и укусил мою.
– Молодец, Тавля.
Однако Тавля дрожал как осиновый лист.
– А что цензор будет говорить? Он должен донести, а то ему придется отвечать.
– А скажу, что меня не было в классе, – вот и все!
В это время раздался звонок, возвестивший час занятий. Отворилась дверь, и в комнату внесли лампу о трех рожках. От столбов полосами легли тени по классу, и осветились неуклюжие здоровенные парты, голые и ржавые стены, грязные окна, осветились угрюмым и неприветливым светом.
Второкурсные собрались на первых партах и вели совещания о текущих событиях. Начались занятия; но странно, несмотря на прежестокие розги учителей, по крайней мере человек сорок и не думали взяться за книжку. Иные надеялись получить в нотате хорошую отметку, подкупив авдитора взяткой; иные думали беспечно: «Авось-либо и так сойдет!», а человек пятнадцать, на задних партах, в Камчатке, ничего не боялись, зная, что учителя не тронут их: учителя давно махнули на них рукой, испытав на деле, что никакое сеченье не заставит их учиться; эти счастливцы готовились к исключению и знать ничего не хотели. Лень была развита в высшей степени, а отсутствие всякой деятельности во время занятных часов заставило ученика выработать этот элемент училищной жизни, который известен под именем школьничества, элемент, общий всякому воспитательному заведению, но который здесь, как и всё в бурсе, является в оригинальных формах.
Сидящие в Камчатке пользовались некоторыми привилегиями; на их шалости цензор, наблюдающий тишину и порядок, смотрел сквозь пальцы, лишь бы не шумели камчадалы. Пользуясь такими льготами, камчадалы развлекались, как умели. Гришкец толкает Васенду и шепчет: «Следующему», Васенда толкает Карася, Карась Шестиухую Чабрю, передавая то же слово; этот передает дальнейшему, толчок переходит на другую парту, потом на третью и так перебирает всех учеников. Вон Комедо, объевшись, спит, а Хорь, нажевав бумаги, сделал комок, который называется жевком, и пустил его в лицо спящего товарища. Комедо проснулся и пишет к Хорю записку: «После занятия тебе я спину сломаю, потому что не приставай если к тебе не пристают», и опять засыпает. Записок много пересылается по комнате; в одной можно читать: «Дай ножичка или карандаша», в другой: «Эй, Рабыня! (прозвище ученика) я ужо с тобой на матках в чехарду», в третьей: «Пришли, дружище, табачку понюшку, после, ей-богу, отдам»; а вот Хитонов получил безымянную ругательную записку: «Ты, Хитонов, рыжий, а рыжий-красный – человек опасный; рыжий-пламенный сожег дом каменный». Ответы и требуемые вещи идут по той же почте. Дети развлекаются по мере возможности. Многие корчат гримасы, ловят нос языком, косят глаза, пялят рот пальцами, показывая искривленное лицо другим или рассматривая его в трехкопеечное зеркальце. Плюнь умеет корчить рожи на номера: он высунул язык в левую сторону, нос подпер пальцем к правой щеке, глаза выпучил, щеки отдул – это номер пятый. Всех номеров двенадцать. Авдитор, по прозванью Богиня, жует резину, третий день не выпуская ее изо рта; она скоро превратится в мягкую массу; потом надо надуть ее воздухом, сжать пальцами, вследствие чего образуется пузырек; пузырьком великовозрастный ударит себя по лбу и услышит легкий треск; чтобы насладиться таким счастьем, он работает усердно, не щадя своих челюстей, а когда устанет, то дает пожевать подавдиторному. Мямля сделал панораму из конфетных картинок и любуется ею целый час и в сотый раз; у него же из билетиков от леденцов сделан оракул: по леденечным билетикам красны девицы гадают о женихах, а он – вспорют его завтра или нет. Сосед его сделал пильщика, то есть деревянную куклу с пилою, и, отыскав равновесие, поставил ее на краю парты и заставляет ее качаться. Чеснок запихнул себе в нос нитку, под сильным вдыханием воздуха проводит ее в рот и, передергивая нитку взад и вперед, показывает эту штуку своему закоперщику (другу) Мямле. Один великовозрастный камчадал оттачивает перочинный нож и потом бреет верхнюю губу и щеки. Выбрившись, он начинает долбить в парте ящичек. Другой великовозрастный делает цепочку из сутуги. Третий великовозрастный свернул бумагу в тонкую трубочку и щекочет ею себе в носу; рожа его сморщилась, он чихнул громко, и ему весело. Двое камчадалов учатся иностранным языкам; один говорит: «Хер-я, хер-ни, хер-че, хер-го, хер-не, хер-зна, хер-ю, хер-к зав, хер-тро, хер-му»; следует лишь вставить после каждого слога «хер», и выйдет не по-русски, а по херам. Другой отвечает ему еще хитрее: «Ши-чего, ни-цы, ши-йся не бо-цы», то есть «Ничего не бойся». Это опять не по-русски, а по-шицы; здесь слово делится на две половины, например: ро-зга, к последней прибавляется ши, и произносится она сначала, а к первой цы, и произносится она после; выходит ши-зга ро-цы. Пентюх на последней парте занимается типографским искусством: он слюнит кость на суставе пальца, прикладывает сустав на печатную букву в учебнике и потом вырывает ее; снявши букву с пальца, он переводит ее на бумагу; таким образом печатается какое-нибудь слово. Под последними партами улеглись на постланные на пол шубы человек пять и рассказывают сказки и побывальщины. На многих скучное, монотонное, без всякого содержания занятное время нагнало непобедимый сон; спят на пятой парте, спят на седьмой, спят на двенадцатой, спят под партами. Так камчатники и второкурсные, приготовившие уроки, проводят занятные часы. Веселая жизнь!
Но только записные, безнадежные лентяи, готовящиеся получить титулку, пользовались правом развлекаться в занятные часы. Кроме их, было еще много лентяев, кандидатов в камчадалы, но еще не камчадалов. Провождение времени этими учениками было еще бесцветнее. Они тоже развлекались по-своему, но так как им необходимо было притворяться, будто они дело делают, то и развлечения их были другие. Цапля со всеусердием пишет что-то; со стороны посмотреть, он прилежнейший ученик, а между тем он вот что делает: напишет цифру, под ней другую, потом умножит их; под произведением опять подпишет первую цифру, опять умножит числа и т. д. работает, желая узнать, что из этого выйдет. Порося придавил глаз пальцем и любуется, как перед ним двоятся и троятся предметы; потом, затыкая и оттыкая уши, слушает жужжанье и легкий говор в классе, как оно прерывающимися звуками отдается в его ушах; а не то он приставит ухо к парте и рассуждает, отчего это через дерево усиливается звук. Один первокурсный нащипывает себе руку, желая приучить ее хоть к тепленьким щипчикам. Другой завязал конец пальца ниткой и любуется на затекшийся кровью палец. Третий насасывает руку до крови… Изобретают самые пустые и, кажется, неинтересные занятия, например, прислушиваются, как бьется пульс, заберут в легкие воздуху и усиливаются как можно дольше удержать его в груди, задают себе задачу – не мигнуть ни разу, пока не сосчитают тысячу, сбирают слюну во рту и потом выплевывают на пол, читают страницу сзаду наперед и притом снизу вверх, положат натаскать из головы сотню волос и натаскают; кто болтает ногами, кто ковыряет в носу, перемигиваются, передают друг другу разные знаки, руками выделывают разные акробатические штуки… Иной сидит, положив голову на ладони, и смотрит в воздух беспредметно: он мечтает о матери, сестрах, о соседнем саде помещика, о пруде, в котором ловил карасей… и урок ему нейдет на ум. Некоторые, зажмурив глаза и стараясь попасть пальцем в палец, гадают, будет ли сечь завтра учитель или нет, и когда выходит – будет, то соображают, где бы взять денег в долг, чтобы подкупить авдитора, а за книжку и не думают браться. Иные сидят обессмыслевши и млеют в тоске неисходной, ожидая, скоро ли пройдут три узаконенных часа и ударит благодатный звонок, возвещающий ужин, тупо глядя на тускло горящую лампу. У этих бурсаков не хватает силы воли взяться за урок. Но что это значит? – спросит читатель. – Неужели занимательнее читать страничку снизу вверх, как это делают некоторые для развлечения, нежели сверху вниз?.. Да пожалуй, что и занимательнее. Недаром же сложилась в бурсе песня, которая говорит, что «блаженны народы, не ведающие наук», что нужно иметь «крепкую природу» для училищных «мук», что ученик, идя в класс, «воет», он «раб», его «терзают». Песня, переходящая от поколения к поколению, недаром сложилась.







