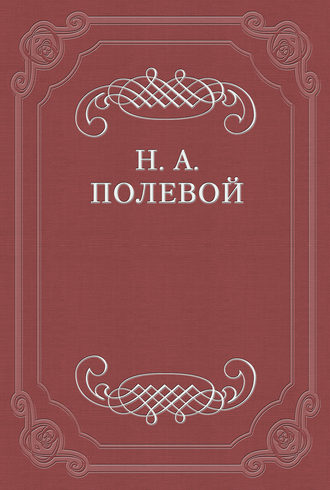
Николай Полевой
Эмма
IV
В огромной диванной своего великолепного княжеского дома сидела княгиня С***. Комната была богато убрана и превосходно меблирована. Стены ее были красиво драпированы красным сукном с золотыми подборами. Против княгини, подле окна, сидел и глядел в окно на обширную Москву супруг княгини, князь С***. Он был в шелковом большом шлафроке. Впрочем, трудно было решить, что его занимало более: вид ли Москвы или пара болонок, которые прыгали, кусались и играли в комнате? Князь кликал их, бранил, ласкал, брал к себе за пазуху, ссорился, мирился с ними. Княгиня не принимала участия в его занятии, сидела подле столика, гоняла от себя собачонок, когда они подбегали к ней, и казалась весьма недовольною. Две колоды карт лежали перед нею на столике; княгиня не трогала их. Наконец она громко позвонила. Вошел лакей.
– Ну? – сказала она вошедшему лакею.
– Они изволили возвратиться, – отвечал лакей.
– Так что ж ты не зовешь его ко мне? – вскричала княгиня так сердито, что лицо ее покраснело от досады.
– Докладывал; изволили пойти к его сиятельству; сказали: приду.
– Поди же, попроси его пожаловать ко мне скорее, да учтивее говори, болван! – закричала княгиня. Лакей ушел.
– Матушка, – тихо проговорил тогда князь, зажимая рот собачке, залаявшей от громкого восклицания княгини, – ты испугала моего Коко!
– Мне кажется, князь, этот гадкий Коко заставляет вас забывать, что кроме его есть что-нибудь на свете.
– А что же такое есть еще на свете? – спросил князь, в недоумении поднимая голову.
– Например, у вас есть единственный сын, и этот сын болезнию своею ведет ко гробу вашу жену.
– Вы знаете, княгиня, что я не люблю говорить об этом печальном предмете.
– Потому что вы эгоист, и если бы сын ваш скорее умер, вы порадовались бы этому как избавлению от скуки!
– Лучше умереть, княгиня, нежели остаться без ума.
– Однако ж есть примеры людей, в чинах и богатстве, вовсе лишенных ума. – Княгиня насмешливо взглянула на князя.
– То есть, не одаренных большим умом? хотите вы сказать, – отвечал князь, как будто не понимая намека княгини. – Они не сумасшедшие однако ж. Большой ум опять зло, и очень большое зло. Знаете ли, что я опытом узнал это?
– Не на себе ли самом?
– Нет! на чиновниках и людях, с которыми случалось иметь дела в жизни. Поверьте мне…
– Замолчите, сделайте милость! – прервала с досадою речь его княгиня. Князь испугался, молчал с минуту, потом опять старался завести разговор.
– Ты не поняла меня, mon amie, – начал он тихо и ласково, – я сказал, что лучше пожелаю смерти моему милому Полю, нежели соглашусь видеть его на всю жизнь сумасшедшим.
– И вы говорите об этом так хладнокровно, как будто речь идет о вашей гончей собаке? – вскричала княгиня.
– Надобно философически смотреть на вещи. Вы знаете правило Гельвеция[33]…
– Я знаю одно, что только сердце матери способно чувствовать и оценить потерю сына.
– Но разве мы не приняли всех мер, mon amie? Наш доктор…
– Ваш доктор – пустой ученый говорун!
– Помилуйте: его европейская слава, письма Гуффланда[34], рекомендация Франка[35] и Аберкромби[36]…
– Вся ваша Европа дура!
– Но я сам говаривал с ним…
– Вы, сударь, бесчувственное создание!
– Но, вы сами, княгиня…
– Что же я разумею в их глупой науке, в этой медицине? Одно вижу я, что все доктора обманщики и нас дурачат.
Князь не отвечал, как будто решительный тон княгини убедил его в истине всего, что говорила княгиня. Он начал глядеть в окно и напевал вполголоса:
Dans ma cabane obscure
Toujours soucis nouveaux;
Vent, soleil, ou froidure,
Toujours peine et travaux![37]
В это время послышались в другой комнате тяжелые шаги доктора. Приближение его произвело чудное действие на княгиню: она поправила свою шаль, небрежнее села на диван, улыбка вдруг появилась на лице ее и, как будто веселою маскою, закрыла всю ее досаду. Никто не узнал бы теперь в этой ловкой, светской, ласковой женщине сердитой барыни, бранившей мужа своего, доктора и всю Европу за минуту прежде.
– Мой любезный г-н доктор, – сказала княгиня, – я ждала вас нетерпеливо.
– Як вашим услугам, княгиня, – угрюмо отвечал доктор. – Что вам угодно?
– Могу ли думать о чем-нибудь, кроме одного!
– Теперь в самом деле, княгиня, пришло время доказать на деле ваши слова: точно ли думаете вы только об одном, то есть о жизни вашего сына.
– О жизни? Боже мой! вы меня пугаете!
– И не думал пугать: вы решительно можете спасти его – или погубить, также решительно.
– Спасти! Говорите, ради бога, говорите, г-н доктор.
– Да! это в вашей воле. Более говорить нечего. – Доктор спокойно сел на диван и начал нюхать табак из своей огромной золотой табакерки.
– Сжальтесь над беспокойством матери, скажите скорее!
– Но я не имел еще чести слышать вашего ответа на первые мои слова.
– Чего пожалеем мы для нашего Поля! Деньги – все что вам угодно!
– А если бы это стоило пол-имения вашего?
– Г-н доктор! я не понимаю…
– А, кажется, очень понятно: если бы это стоило пол-имения, сказал я. Дело идет не о таком лечении, где говорится только о возможности вылечить, – нет! Сын ваш через полгода непременно будет здоров, как первый едок лондонского бифштекса и первый боксер смитфильдского рынка, или вы можете сказать мне в глаза, что я величайшая скотина, и приказать вашим лакеям вытолкать меня в шею!
– Ваша услуга будет оценена во что вам угодно.
– Моя услуга уже оценена тем, что вы мне договорились платить и платите. Больше мне ничего не надобно. Понимаете, княгиня: ни одного талера лишнего! Не обо мне тут дело. И разве мог бы я сказать о самом себе, что вылечу наверное не только сумасшедшего вашего сына, но даже одурелую кошку?
– Я вас не понимаю. И без этого я хотела спросить вас, что значит нелепое происшествие, о котором рассказывал мне управитель? Что это за немка? Что было в саду у нашего соседа? Мне крайне неприятна история, где может быть вмешано наше имя. Доктор молчал.
– Я хотела видеть сына моего, пошла к нему и увидела его спящего, накрытого каким-то женским платочком. Мне сказали, что он спит уже двенадцать часов сряду и вы не велели его трогать.
– Но, мой друг, – сказал князь, – разве ты не побоялась идти к нему в павильон?
– Вы ничего не знаете: он переведен теперь в свои комнаты.
– Как? Он здесь – в комнате? Но его припадки ужасного бешенства? – Доктор молча взглянул на князя. – Я говорю об опасности припадков его, – сказал князь в замешательстве. – Вы полагаете, что пребывание его здесь не опасно? – с робостию прибавил князь.
Доктор не хотел ничего отвечать ему, оборотился к княгине и смотрел на нее пристально.
– Если бы не лекарь явился, но сделалось чудо, и ангел божий слетел на землю для исцеления вашего сына, – согласитесь ли вы наградить его всем, чего только он потребует?
– Странные речи, г-н доктор! Вы шутите, когда я совсем не расположена шутить.
– Читали ль вы, г-н доктор, сочинение шалуна Аруэта[38]? «Examen important de Milord Bolingbroke, ou le tombeau du Fanatisme»[39]? – спросил князь усмехаясь.
– Читал: мерзость, о которой не стоит труда говорить. Разрешите же, княгиня, мой вопрос?
– В наш век, любезный доктор, не верят и старинным чудесам, не только не видят их вновь, – промолвила княгиня с принужденною улыбкою.
– Но если бы чудо сделалось с вашим сыном? – с жаром возразил доктор. – Вы все еще молчите? Так оно уже сделалось! – вскричал доктор, с досадою поднявшись с дивана, – сделалось: ангел слетел с неба. Умейте оценить его, люди, кто бы вы ни были, князья или мужики! Великий Месмер! Друзья мои – вы, Жюсьё[40], Бекман[41]! для чего нет вас здесь!
– А! я был у Делона в бытность мою в Париже и видел его магнетические ванны и гальванические кондукторы – это очень любопытно! – сказал князь.
– Вы смотрели без веры, а надобно не видеть, но верить: иначе чудес нет на свете! Ради бога, увольте меня от вашего Вольтера, князь: для вас довольно знать, что сын ваш выздоровеет. А вам, княгиня, как матери, и мне, как честному человеку, надобно более. От вас зависит спасение вашего сына и того ангела, который прилетел к нему для его спасения!
– Пожалею ли я чего-нибудь!
– Не в деньгах дело, не их требуют! Явился лекарь, который лечит сына вашего своею душою, своим бытием. Жизнь и смерть положены на весы вашего решения. Если вы безусловно не отдадитесь доверенности, если вы хоть мысленно воспротивитесь тому, что непостижимо для нас, чего ум наш не умеет понимать, – сын ваш погиб! Смерть – средины нет! Но так же верно и совершенное его спасение, при согласии и доверии вашем.
– Ах, г-н доктор! сделайте милость, поступайте как вам угодно! Но кто же этот спаситель моего бедного Поля?
– Та немка, о которой управитель говорил вам. – Доктор опять сел спокойно на диван.
– Она лекарка?
– Лекарка! Да, лекарка, если вам это угодно.
– C'est quelque chose d'empirique,[42] – промолвил князь невнимательно. – Впрочем, надобно испытать все. Только не опасно ли лекарство?
– Больше нежели опасно: оно яд самый сильнейший, какой только существует в мире! Сама лекарка подвергается опасности умереть и уморить больного в одну минуту.
– Как же вы хотите отдать моего сына такой шарлатанке? – сказала княгиня с неудовольствием. – Вы взялись лечить его, и ваши знания ручались за вас…
– Лечить взялся я, но не вылечить. Мои знания – вздор, нелепость, дрянь! А она ручается вам своею жизнью… И как растолковать вам это? Верите ли вы хоть чему-нибудь, княгиня?
– Боже мой!
– Верьте же этой посланнице небес: она спасет вашего сына!
– Но изъясните ваши загадки?
– Как будто это можно! Изъясните прежде загадку души человеческой, изъясните тайну жизни нашей, изъясните земное бытие наше. Изъяснить, когда сам Месмер ничего не изъяснил!
– Стало быть, она магнетизерка? Но ведь магнетизм, я слыхала, не опасен?
– Вольно вам называть это магнетизмом!
– Но что же это такое?
– Это лечение души душею; это микстура из бытия, пластырь из сердца, порошки из жизнии, смерти! Но что тут много говорить! Пойдемте к вашему сыну. Вы увидите сами и – тогда опровергайте.
– Теперь… Но, его состояние…
– Неужели и вы боитесь его?
Княгиня надвинула шаль на плеча и встала с дивана. Молча пошел перед нею доктор. Он и она вошли в спальню молодого князя. Больной спал, закрытый платочком Эммы. Боязливо подошла к кровати его княгиня. Здесь, когда она стала близ одра скорби несчастного своего сына, – в ней исчезла светская женщина: она была матерью; слезы потекли у нее из глаз.
Доктор снял платочек, положил руку на глаза больного, повел рукою по глазам – больной открыл их.
– Встаньте – вам велели встать, если вы хотите видеть ее, – сказал доктор.
Больной бодро поднялся с постели.
– Я ее вижу, – сказал он, как будто с усилием всматриваясь, – она теперь молится и думает обо мне.
Тихий голос, кротость, какой не замечала княгиня в сыне своем с самого начала его сумасшествия, так поразили ее, что она невольно вскричала:
– Ах! вижу, вижу, что ему лучше – боже мой! ему гораздо лучше!
Больной вздрогнул и так дико посмотрел на мать свою, что она содрогнулась и отступила невольно.
– Какая неосторожность! – шепнул ей доктор. Он обратился к больному и ласково сказал ему: – Вам не должно сердиться.
– Кто это тебе говорил? – угрюмо отвечал больной.
– Она велела.
Больной мгновенно успокоился.
– Да! – сказал он. – Но когда же опять придет она? – продолжал он, водя рукою по лбу. – Я чуть вижу ее; мне так темно, темно!
– Вам велели лечь и успокоиться. – Больной не сопротивлялся, лег и закрыл глаза. Доктор опять накрыл его платочком Эммы.
Княгиня плакала.
– Видели ль вы, княгиня? – громко сказал тогда доктор.
– Ах! тише – не тревожьте его!
– Не бойтесь. Теперь может греметь гром и его не разбудит: он очарован неестественным сном, пока его природа и сила, выше его природы, спорят между собою о нем. Видите ли вы? Верите ли вы? Еще ли надобны вам объяснения?
– Верю, хоть ничего не постигаю: Но что должна я делать? Повелевайте мною, г-н доктор.
– Вы видите то, чего никто еще не понимает. Люди назвали это животным магнетизмом. Великий Месмер первый угадал эту тайну бытия всемирного. Ваш сын полсутки тому назад находился в высшей степени безумия, но теперь совершается над ним таинственный процесс магнетизма, и он в самом опасном положении. В то же время жизнью моею ручаюсь вам, что он выздоровеет. Сядьте, княгиня, и выслушайте.
Как бы это сказать вам? Самый высокий ум человеческий есть крот, выглядывающий из норы своей на вселенную. Но где человек сближается с универсальною жизнию, там он становится весь мир, вся вселенная; крот, как часть целого, есть микрокозм макрокозма[43]. Поелику для содержимого в содержащем пространство и время исчезают, ибо из «не-я» они переходят в его «я», то посему взор наш видит сквозь море, живет в прошедшем, и воля человека непобедима, если только он обратит силу и волю свою на действие, внутри и вне себя все равно, ибо тогда природа становится частию его самого, субъектом его объекта… Чувствую, что я говорю темно; но, позвольте[44]… Любили ль вы, княгиня? Вы молчите: верно вы никогда не любили, не знаете любви, этого совершенного уничтожения воли, не знаете субъективной жизни чужою жизнию. Жаль, жаль, что вам после этого решительно невозможно изъяснить закона, по которому человек – дух и тело, ангел и земля, великое и смешное, Кант и я, все и ничто. Вообразите, однако ж, что человек может весь перейти в универсальную жизнь; что вся его воля может устремиться на один предмет, – что тогда противостанет ему? Ему ли тогда не уничтожить собою болезни какой-нибудь? Какое сомнение! Что такое болезнь? Победа тела над духом, от которой победитель умирает. Этого победителя вдруг оковывает дух другого, переходит в него, живет одною с ним жизнью и дает ему жизнь свою. Может ли тело бороться с этим страшным противником, для которого нет ни времени, ни пространства, ни малого, ни великого и который бессмертен жизнью за гробом – следственно, бессмертен вечно, и не только там, но и здесь: дух Сократа живет в нас, хотя плоть Сократа давно умерла и истлела! Вы этого не понимаете, потому что, извините, княгиня, вы не жили духом, ибо вы не любили, а кроме любви женщина ни в чем не может приблизиться к универсальной жизни – для нее процесс универсальности объективно совершается только в любви; а во всех других случаях она живет субъективно…
Видно было, что доктору чрезвычайно казалось трудно объяснить все то, что он думал объяснить. Он усердно отирал пот с лица.
– Г-н доктор, – сказала княгиня, – мы были знакомы в Париже с последователями Месмера. Они делали тогда много шуму. Делон часто обедывал у нас. Он также говаривал как вы; но мы смеялись над ним – признаюсь вам!
– И надо мной теперь смеетесь или не смеете только смеяться? Но когда же чернь не освистывала мудрости? когда поэзия не почиталась сумасшествием? когда любовь не казалась нарушением всех наших приличий? Впрочем, теперь уже поздно раздумывать: сын ваш не принадлежит ни себе, ни вам – он принадлежит тому существу, которое овладело его бытием. В воле этого существа возвратить ему разум, сделать его человеком. Если вы, если я вмешаемся – мы погубим его. Вы должны только повиноваться этому существу, владыке вашего сына, что бы оно ни приказало. Малейшее сопротивление – смерть!
– Боже мой! Любезный доктор! я передаю вам полную волю.
– А когда он будет здоров, когда у вас опять будет сын, а не сумасшедшее животное, когда обладающее им существо будет жить одною душою с вашим сыном, тогда, княгиня, тогда что?
– Пожалею ли я чего-нибудь для ее награды! Я готова осыпать ее золотом!
– Да что вы так дорого цените ваше золото? – возразил доктор. – Если потребуется более, нежели золото, если надобно будет жертвовать вашими предрассудками, вашею знатностью, если… Постойте, княгиня: клянусь богом – если вы теперь скажете мне: «нет»; если вы только задумаетесь на одно мгновение, – я сорву этот платочек с вашего сына: в бешенстве встанет он, и вы первая будете жертвою его бешенства, и ничто уже не укротит его… Он погибнет!
Печально светил погасавший день сквозь шелковые занавесы. Как мертвец, лежал молодой князь на своей кровати, неподвижен, едва дыша. Княгиня сложила руки и с чувством отчаянной матери сказала доктору:
– Спасите его! Чего бы ни стоило, спасите его!
– Вашу руку, княгиня!
– Вот она!
– Совесть! довольна ли ты? – проворчал доктор самому себе.
V
Эмма сидела в учебной комнате поутру, на другой день после разговора между княгинею и доктором; молча, задумавшись, она вязала что-то. Дедушка ее сидел в своих креслах. Вдруг щегольская карета остановилась у ворот домика.
– Друг мой, – сказала бабушка Эммы, поспешно входя в комнату, – друг мой! Княжеский лакей прибежал спросить у тебя: можешь ли ты принять княгиню, которая желает тебя видеть?
Эмма вспыхнула; дедушка с беспокойством вскочил с кресел и бросил трубку.
– Княгиня? Скажи, что я за честь почитаю, где она? Дайте мне сюртук мой, приберите поскорее в комнате!
Эмма поспешно подвинула к стене столик, взяла книги, лежавшие на нем, переложила их на другой и не знала, за что приняться.
– Что же сказать лакею?
– Да просить, просить!
Карета въехала во двор, и пока дедушка надевал свой сюртук, бабушка Эммы в дверях встречала княгиню.
Просто, но богато одетая, с ласковою улыбкою отвечала княгиня на неловкие приветствия старушки. Явился дедушка, низко кланяясь. Бабушка предлагала чашку кофе. Эмма с трепетом присела и дрожала невольно, не смея глядеть на княгиню.
– Не беспокойтесь, любезный сосед, не беспокойтесь, милая соседка, – сказала княгиня. – Прошу вас быть со мною без церемоний; прошу удостоить меня вашей дружбы, вашего знакомства.
Удивительно действие богатства и знатности: им все пристало, все к лицу, как молодой хорошенькой девушке! Княгиня успела очаровать старика и старушку своим входом и немногими словами. Светское обращение, ловкость, наряд ее, экипаж, кротость, ласковость – о! она могла приказывать им, не только просить их.
– Но где же милая ваша внучка? Ради бога, дайте мне расцеловать, обнять ее! Познакомьте нас. Это вы, милая? – сказала княгиня, нежно целуя Эмму.
Она посадила ее подле себя на диване. Робея, дрожа, с раскрасневшимися щеками, Эмма едва дышала.
Как будто желая вывести ее из замешательства, княгиня обратилась к дедушке и, не выпуская из рук своих руку Эммы, сожалела, что давно не имела удовольствия узнать лично своих почтенных соседей.
– Ваше сиятельство, – отвечал дедушка, – могли ли мы ожидать такой чести, такой благосклонности! Я еще должен благодарностью брату вашему, его высокопревосходительству (старик проговорил чин, имя и фамилию); он был директором нашего департамента, и я имел честь служить под его милостивым начальством.
– Когда же это? – спросила с участием княгиня, желая завести разговор. Старик начал подробно рассказывать, а княгиня внимательно оглядывала Эмму. Несмотря на уменье скрывать свои ощущения, казалось, что она изумляется, рассматривая эту девушку. Чему дивилась она? Тому ли, что видела какое-то кроткое, доброе создание, робкое, несмелое, молоденькую мещанку? И эта девушка-мещанка была спасительницею сына ее? И это создание было загадкою, которой не мог изъяснить ей ученый доктор немецкий? От этой девушки зависела жизнь ее сына? Но чему же дивиться? – А кто из вас не дивится, видя вдохновенного поэта в обществе людей, видя, что этот поэт – какое-то робкое, несмелое, неловкое создание? Дети, дети! кто из нас не воображает себе, что великие люди должны быть какие-то исполины; кто из нас не меряет величия души человеческой саженями? За что же мы смеемся над детьми, которые представляют себе каждого богатыря, о котором читают в сказках, ростом с Ивана Великого?[45]
– Не могу ли я быть теперь чем-нибудь вам полезною? – сказала княгиня ласково. – Прошу приказывать мне.
– Ваше сиятельство!..
– Оставьте мое сиятельство в покое, любезный сосед. Вы видите во мне несчастную мать, и от вас зависит теперь все мое счастие, жизнь моя, жизнь моего бедного сына. – Княгиня заплакала. Бабушка заплакала вместе с нею. Эмма побледнела и готова была также плакать.
– Ваше сиятельство, – сказал дедушка, заикаясь и не зная что отвечать… – Если только – то я – прошу вас…
– Наградить за это я ничем не могу вас, любезный сосед: награда ваша на небесах, а не на земле – если только радостные слезы матери не дороже вам всяких наград в мире.
– Ваше звание, ваша благосклонность…
– Вы видите всю бедность знатного звания, всю ничтожность богатств, любезный сосед! От вас зависит теперь участь всего нашего семейства.
– Возможно ли, ваше сиятельство? Помилуйте…
– Тут нечего толковать много, любезный сосед, – сказал доктор, перебивая речи старика. Доктор приехал вместе с княгинею, но сидел молча и слушал, упершись зубами в золотой набалдашник своей палки. – Тут нечего толковать. Вы должны согласиться, чтобы ваша внучка исцелила молодого князя, – должны, если только вы человек, если только вы христианин, если только вы желаете себе царства небесного.
– Ах! Господин доктор, ваше сиятельство! надобны ли для меня подобные убеждения? Если только добрая моя Эмма может чем-нибудь пособить вашему сыну…
– Если только хочет, скажите лучше, – возразил доктор.
– Вы спасете его? Вы захотите спасти его? – вскричала княгиня, нежно схватив за плечи Эмму обеими руками и смотря ей в глаза сквозь слезы. – Милое создание! скажите мне!
Крупные слезы закапали из глаз Эммы. Она склонила голову на грудь княгини и едва могла промолвить:
– Располагайте мною, ваше сиятельство.
Крепко обняла ее княгиня. Радостно улыбалась бабушка, смотря на княгиню, обнимавшую Эмму; дедушка утирал глаза; доктор внимательно глядел на ее сиятельство и, казалось, хотел прочитать в ее душе все тайные чувства.
– Г-н доктор, – сказала наконец Эмма, вырвавшись из рук княгини, – не ошибаетесь ли вы? Клянусь вам богом, что я совершенно не знаю, чем могу я пособить излечению сына ее сиятельства!
– Девушка! – вскричал доктор, схватив руку Эммы, – так же робко говорила некогда одна девушка, тебе подобная, когда высокая тайна совершалась в мире. Душа невинности есть рай чудес высоких и непостижимых. Горе вкусившему плод с древа познания! Не ему, нет! не ему западет в душу луч небесный. Только невинному, чистому, как младенцу, предоставлено уничтожать предведения мудрых, и только в неведущую душу нисходит благодать! О, великий Месмер! какую тайну узнаю я теперь! – Он благословил Эмму, поднял глаза к небу и отвернулся утереть слезу.
– Милая Эмма! – сказала княгиня, – отныне вы будете моею дочерью!
Ярко загорелись опять щеки Эммы от этого слова. Она закрыла лицо руками и тихо промолвила:
– Пощадите меня, ваше сиятельство!
Казалось, что с восхищением княгиня теперь смотрела на Эмму. И прелестна, очаровательна была Эмма в эту минуту, необъяснима, как миг восторга, проста, как песня швейцарская, радостна, как весть свободы узнику.
– Любезный сосед! – сказала княгиня дедушке, – отныне вы позволите мне разделить права ваши над вашею Эммою. Пред лицом бога клянусь быть ей матерью! Послушайте же теперь, после моего обещания, после моей клятвы, и не пугайтесь: вы должны отпустить со мною мою милую Эмму.
Невольное «ах!» вырвалось вдруг из груди Эммы и из уст ее бабушки. Сам дедушка казался изумленным. Предложение было так неожиданно. Эмме показалось, будто сердце оторвалось у нее; она побледнела.
– Завтра едем мы в нашу подмосковную деревню. Эмма поедет со мною.
– Только в деревню вашу?
– Неужели ты согласишься расстаться с Эммою? – поспешно сказала бабушка. Молча, но с умоляющим взором, оборотилась к ней княгиня. – Извините, ваше сиятельство, – продолжала бабушка в замешательстве, – мы так привыкли к нашей Эмме… Впрочем, как угодно моему мужу…
– Мы можем примирить все затруднения, – возразила княгиня. – Поедемте все вместе, любезный сосед! Места достанет для всех нас; деревня наша прелестная – у нас тут немного: только пятьсот душ; но дом пребольшой, сад обширный – будет, где поместиться.
Мысль: ехать к князю, к этому знатному, богатому вельможе, быть в его обществе, светском, блестящем, модном, расстаться с своим домиком, расстроить порядок хозяйства, все привычки, все удобства, с которыми свыкается старость? И почему не ехать одной Эмме? Все это пролетело в голове старика в одно мгновение.
– Но что я буду у вас делать? – сказала Эмма робко. – Простите меня, ваше сиятельство, я вовсе не знаю никаких приличий большого света, даже никогда не живала в чужом доме.
– В чужом, милый друг! Разве вы будете в чужом доме? Разве не заступлю я вам места матери?
– Ах, ваше сиятельство! – сказала Эмма, целуя руку княгини, – я уже люблю вас, как мать…
– В самом деле, ваше сиятельство, наша Эмма вовсе не знает большого света, – начала важным голосом бабушка, думая, что нашла непобедимое средство оспорить требование княгини.
– Оставьте ваш большой свет, – сказала княгиня, с легким упреком. – Можете ли вы воображать дом мой каким-нибудь блестящим, большим светом, дом печали и скорби, где ваша Эмма будет звездою счастия и радости! О, боже мой! неужели имя княгини, неужели звание моего мужа пугает вас?
– Но разве пребывание Эммы с вами необходимо?
– Да, сосед! – сказал доктор. – Надобно, чтобы наш больной был беспрестанно с нею вместе, дышал одним с нею воздухом, глядел ее глазами, говорил ее мыслью, думал ее умом.
Дедушка невольно улыбнулся. «Что же из этого будет?» – подумал он сам про себя.
Эмма не видала его улыбки. От слов доктора у нее мелькнула совсем другая мысль: «Мечта моя! неужели ты сбываешься?»
Княгиня заметила, как улыбнулся дедушка. Может быть, она поняла его мысль; по крайней мере она улыбнулась, будто говоря ему в свой черед: «Оставим будущее судьбе, любезный сосед!»
Но доктору показалась усмешка дедушки недоверчивостью к его словам.
– Сосед! – сказал он. – Неужели вы ничего не слыхали и не читали об этом? Вам как немцу стыдно такое незнание. Завтра же пришлю я к вам сочинения Гмелина[46] и Бекмана.
– Но вы говорили мне, доктор, – возразила княгиня, усмехнувшись лукаво, – что ни Месмер, ни Гмелин, и никто этого не понимает.
– Вам угодно ловить меня на словах, княгиня. Но между двумя вещами, которые одинаково называются, может быть разница неизмеримая. Простолюдин говорит: «я ничего не знаю», и Сократ, объявленный от оракулов мудрейшим из людей, говорит то же. Что ж из этого? Простолюдин в самом деле не знает ничего, а Сократ знает все то, чего он не знает… Как бы изъяснить мне это… Er weifi alles, was er nicht kennt…[47] – доктор заговорил по-немецки с дедушкою Эммы.
– Не позволите ли, ваше сиятельство, чашку кофе, – сказала бабушка. – Прошу вас сесть; сядьте, отдохните, успокойтесь, ваше сиятельство!
– Охотно, милая соседка. Позвольте мне ближе познакомиться с вами; уверяю вас, что вы найдете во мне простую, добрую женщину.
– Эмма! поди поскорее, милая, свари нам кофе. Эмма весело побежала.
– А мы поговорим между тем с вами об Эмме, – сказала княгиня, усаживая подле себя бабушку.
Доктор с жаром вел между тем с дедушкою разговор о сомнамбулизме и магнетизме, искусственном магнетизировании, естественной поляризации и духовной эксцентризации. Общество этих людей казалось таким дружеским, веселым, радостным. Княгиня расцеловала братьев Эммы, послала своего лакея за фруктами в свою богатую оранжерею. Бедняжки дети с роду не видывали таких персиков, таких яблоков; им дали по целому ананасу, и бабушка едва уговорила их отдать спрятать ананасы сестрице и не есть всего вдруг. Дружески расстались наконец соседи.
– Довольны ли вы мной, доктор? – сказала княгиня, когда села с ним в карету. – Еще ли станете вы говорить, что кто не любил, тот не знал ничего универсального?
– Вы мать – я забыл это, – сказал доктор, весело улыбаясь. Он досыта наговорился о Месмере с дедушкою Эммы и был теперь чрезвычайно весел и доволен.
– Боже мой! – восклицала старушка, бабушка Эммы, проводив княгиню и оставшись в своем семействе. – Да, что за милая дама эта княгиня! Совсем и не заметишь, что она знатная, что она сиятельная, что она богата.
Старик сидел в своих креслах и курил трубку с усиленным удовольствием, может быть и от того, что проголодался, почитая неучтивостью курить при княгине и не принимавшись за трубку свою во все время, пока была у них сиятельная гостья. Вид его выражал довольство простолюдина, который после свидания с знатным человеком говорит сам себе: «Кажется, я не одурачил себя в глазах его?» На слова своей старушки он отвечал односложными: «Ja, ja!»[48] и пускал табак фигурными кружками и вдруг густою тучею, и потом тихонько, тоненькою, длинною змейкою… Эммы не было в комнате. «Где же наша Эмхен?» – сказала наконец старушка, когда уже не находила более слов для похвалы княгине. Она пошла в комнату Эммы и увидела сквозь стеклянные двери, что Эмма стоит на коленях и усердно молится. С наслаждением смотрела старушка на Эмму и думала, смотря на нее: «Судьба непостижимая! Может быть, это будущая княгиня С***?» Тайные слова старушки показывали все, что поняла и придумала она из всего, что видела и слышала. У старика дедушки бродили в голове магнетизм и сомнамбулизм, поляризация и эксцентризация. Но Эмма? Думала ли она о будущем своем княжестве? Ах, нет: она молилась; таково было первое движение Эммы, расставшись с княгинею. Но о ком, о чем молилась она, и что она думала?







