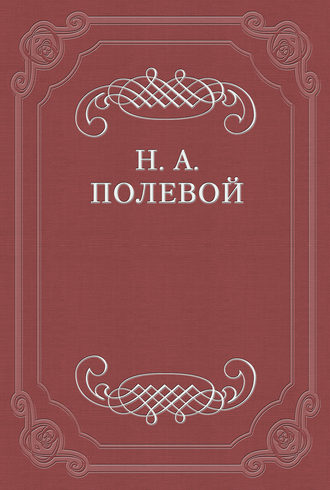
Николай Полевой
Эмма
III
Прошло несколько дней после разговора двух подруг, и опять задумчиво, с неопределенною мечтою Эмма гуляла в садике своего дедушки. Прекрасен был день, ясно было небо; любимцы Эммы, цветы, казалось, хотели сказать ей: «Будь весела, наша милая Эмма! о чем ты грустишь? Посмотри: мы ожили твоим старанием. Повеселей же, наша Эмма!»
Но Эмма ничего не слыхала, ни на что не смотрела; она сидела с своею работою в беседке, иногда устремляя взор на любимую грядку цветов подле беседки, где великолепно цвел теперь василек и, казалось, гордился между другими цветами, как будто хотел сказать им: «Меня любит Эмма!»
Вдруг необыкновенный шум привлек внимание Эммы. Она глядит – нет! она не ошибается: среди ясного полудня не являются привидения! Но что же это такое, если не привидение? – Сверх каменной ограды отделявшей княжеский сад от садика дедушки Эммы, появилась растрепанная голова: рука чья-то уцепилась за верх ограды: это человек – он лезет на ограду; с руки его перемахнулась в садик железная цепь… Другою рукою ухватился он за ограду – другая цепь повисла на ограде. Он останавливается, глядит назад, оборачивается в садик; бесчувственно глядит он потом на солнце, на небо, на деревья, на цветы…
Эмма хотела бежать – холодом обдало ее; ноги ее подкосились. Беги, Эмма! беги, моли своего ангела-хранителя спасти тебя! Нет! силы оставляют Эмму! Ужас лишает ее возможности бежать; она не в бесчувствии, но как будто гремучая змея глядит на нее и очарованием глаз своих уничтожает у нее даже самую мысль двинуться с места.
Внимательно, не понимая сама, что делает, Эмма устремляет взоры свои на незнакомца; не может отвести от него глаз своих. Она видит ясно, что это какой-то молодой человек: он одет в сюртук, глаза у него голубые, волосы русые, но – великий боже! какое лицо – бледное, худое, какие глаза – дикие, мутные! Волосы его всклочены, падают на плеча, нерасчесанные, в беспорядке; на руках его цепи; платье его разорвано. С минуту держался он за забор и глядел назад, в сад княжеский., Вдруг в саду княжеском раздался голос: «Вот он! ловите его!» Лицо незнакомца обезобразилось судорогами. Держась одною рукою за ограду, он схватывает другою какую-то огромную палку, взмахивает ее и кидает в сад княжеский. В одно время раздался в саду пронзительный вопль, и с ним смешался безумный хохот незнакомца! Быстро вскакивает он на ограду с криком, с диким хохотом прыгает в садик дедушки Эммы, мгновенно поднимается, кричит, бежит исступленно, перепрыгивает через кусты, топчет грядки цветов и, стремится прямо к беседке, где сидит Эмма..
После первого мгновения бесчувственного, безотчетного страха. Эмма поняла, что страшный незнакомец должен быть молодой сумасшедший князь С***, что, вероятно, он вырвался из рук своих смотрителей, и – пронзительный вопль, слышанный ею в княжеском саду, означал, может быть, убийство приставленного к нему человека, что он теперь бежит в неистовстве, в бешенстве – сумасшедший, безумный, убийца! Еще раз мысль о спасении мелькнула в голове Эммы, но она не в силах пошевелиться с места…
И поздно! С безумным воплем он стремится прямо в беседку; нога его топчет и уничтожает милые васильки, любимцы Эммы, цепи его глухо ударились о беседку – бежать нельзя! Безумец загородил собою вход, мутные глаза его пробежали по маленькому пространству беседки и устремились прямо на Эмму. Еще мгновение – он растерзает, задушит Эмму своими иссохшими руками. Вид человека приводит его в бешенство; он видит в нем своего врага, и бессмысленное выражение лица его переходит в ярость – одно чувство, оставшееся ему от прежнего состояния человеческого. Злость человека и сила зверя – удел безумия…
Мысль о смерти была первою мыслью Эммы, но – какую чудную перемену ощущает она в себе? Неужели после того, когда человек вместит в груди своей всеобъемлющую мысль смерти, все ничтожное, все земное, все, что делало его братом червю земли, – исчезает в нем, и он, свободный, вольный в ощущениях и поступках, переходит к тому, что носит на себе знамение неземного, только к тому, что бесконечно и необъятно, как небо, говоря земле, подобно пери[23], улетающей в растворенные врата рая: «Прости, земля»?
Эмма вдруг теряет весь страх свой, все свое опасение: в безумце, который стоит перед нею, виден ей не сумасшедший убийца, но бедный больной, страждущий, слабый человек, и сквозь его обезображенное болезнию и страданиями лицо светлеет для нее какой-то прекрасный юношеский образ, не страшный, но как будто умоляющий ее о пощаде, о спасении: падший ангел, еще не вовсе утративший следы своего небесного происхождения. В самой себе она чувствует необыкновенную, непонятную для нее перемену, как будто до нее коснулся волшебный прутик какого-нибудь Просперо[24], и вместо крови потекло по ее жилам что-то горящее, пламенное и стало брызгать лучами света и огня из глаз ее – и глаза ее засветились этим непобедимым светом, и руки ее сделались проводниками небесных огней, которыми гремят небеса; и эти молнии, тайно, невидимо от взоров людских, ввились во все сокровенные изгибы души Эммы; кровь ее быстро закипела по всем ее жилам и отразилась на щеках ее жарким румянцем!
Смело поднялась Эмма с скамейки, на которой сидела, протянула руку и голосом, не похожим ни на повеление, ни на просьбу, ни на гнев, скоро и громко произнесла: «Кто вы? Что вам здесь надобно?»
Какое непостижимое действие произвели эти слова, этот голос на безумца! Казалось, что они сверкнули огнем, ударились прямо в грудь его, причинили ему нестерпимую боль. Дикость выражения в лице его исчезла и заменилась болезненным ощущением; мутные глаза его почти закрылись веками, как будто он не в состоянии был смотреть на Эмму, прежде, в безумии своем, смотревши прямо на солнце. Он ухватился обеими руками за грудь свою и со стоном произнес: «Ах!»
Теперь он уже не был тем страшным незнакомцем, который вырвал из стены крепкие цепи свои и, взмахнув тяжелую палку одною рукою, убил своего приставника. Он несчастный, больной, слабый юноша, лишенный единственного дара божия, которым человек отличен от животного; он меньше, нежели зверь: он сумасшедший!
Эмма видит изменение лица его; непобедимое чувство сострадания заступает в ней место страха и ужаса, заступает невольно, не спрашиваясь ее рассудка. Более: ей кажется, что этот бедный безумец как будто знаком был ей давно, что она где-то знавала его, что вопли его, издавна слышанные ею, были призывным кликом: «Эмма! спаси меня!» Он едва держится на ногах, и Эмма бросается к нему, хочет поддержать его, говоря: «Что с вами сделалось?» Но едва рука ее коснулась незнакомца, колена его дрожат, он падает перед Эммою и, закрывая глаза руками, говорит жалобным голосом: «Пощади меня; не мучь меня – я не виноват! Они терзали меня нестерпимо!»
Эмма не понимала, что ей делать. Она решилась удалиться, сказать дедушке, призвать людей, ибо вовсе не знала, как должно обходиться с сумасшедшими. Что она теперь одна в саду с неизвестным ей мужчиною – ей вовсе не приходило этого в голову: она видела не мужчину, но какое-то жалкое существо человеческое, покорное ей, просившее у нее пощады. Только мысль о том, как и чем пособить бедному страдальцу, заняла всю ее душу. Она решилась, однако ж, идти из сада. Но едва Эмма сделала один шаг, сумасшедший стал перед нею на колена, сложил руки на груди, тихо промолвил: «Не уходи, не уходи – побудь здесь!» – и в бессилии упал он на траву.
Эмма испугалась, опять подошла к нему, наклонилась и заботливо спрашивала:
– Что с вами? Скажите, что с вами сделалось?
– Мне больно – здесь (он указал на грудь) – и здесь больно (он указал на голову)! Не уходи – без тебя они придут и возьмут меня…
– Нет! они не придут; скажите, что вам надобно?
– Ничего, ничего! Приложи руку твою к моей голове; слышишь ли, как она болит у меня?
Эмма приложила руку свою к голове безумца. Он дышал тяжело, но вдруг открыл глаза, и улыбка – может быть, давно небывалый гость – оживила лицо его. Вдруг он приподнялся, сел на траве и тер глаза руками, говоря:
– Мошки, мошки! Они лезут мне в глаза, отгони их!
Эмма стояла подле него и начала махать платком, опасаясь раздражить сумасшедшего своим непослушанием.
– Нет! рукой, рукой, – говорил он, – сделай милость, махни рукой, а не этой тряпицей: мне от нее холодно; теперь стало тепло, тепло – ясно, ясно – ах! как хорошо: мошки улетели!
В это время шум нескольких голосов раздался подле садовой калитки. Эмма оборотила голову и увидела дедушку. В своем колпаке и халате старик спешил в садик и бежал по дорожке; за ним поспешно следовали трое или четверо незнакомых людей, один из них был одет в княжеской ливрее. Эмма поняла, что княжеские слуги пришли за сумасшедшим, и испуганный дедушка бежит к ней на спасение, услышав об угрожающей ей опасности. Мысль о спасении и страх снова взволновали всю душу Эммы, едва увидела она дедушку и княжеских людей; она в то же мгновение почувствовала и то, как неприлично ей было оставаться в саду одной с неизвестным человеком и как опасно быть с сумасшедшим.
В одно мгновение бросилась она от бедного безумца, как молния, достигла до своего дедушки и трепеща прижалась к его груди.
– Ох! милый друг мой! – говорил старик, едва не задыхаясь и обнимая Эмму, – как я испугался! Не испугал ли он тебя? Какое несчастие! Можно ли было предвидеть!
– Успокойтесь, милый дедушка! Я испугалась немного; но он такой смирный; он ничего мне не сделал.
– Слава богу! Его сейчас возьмут княжеские люди! Пойдем скорее домой. Как ужаснули они меня своими рассказами: прибежали опрометью, говорят, что сумасшедший убежал в наш садик, что никогда еще не был он в таком бешенстве – сорвался с цепи, ушиб своего приставника…
– А не убил, дедушка?
– Нет, только ушиб больно: бросил в него палкой с размаха; других людей на тот раз не было при нем… – Старик спешил вести Эмму, но страшный крик остановил их и заставил оборотиться.
Едва удалилась Эмма от сумасшедшего, он громко вскричал:
– Где же Тот, кто был здесь со мною? Казавшись прежде слабым, изнеможенным, он как будто вдруг получил опять всю свою неистовую силу; глаза его помутились, волосы стали дыбом; он вскочил и, увидя подходящих к нему княжеских слуг, страшно заскрежетал зубами.
– Ваше сиятельство, – сказал один из слуг, – пожалуйте домой.
Сумасшедший смотрел на него молча.
– Не извольте противиться, – сказал другой слуга. – Их сиятельства приказали вам пожаловать домой.
Сумасшедший захохотал. По знаку, данному старшим из слуг, трое вдруг бросились на безумца и схватили его. Он закричал раздирающим душу голосом, и не успели оглянуться, как двоих сшиб он с ног и отбросил от себя далеко, третьего схватил он за горло, повернул через себя, придавил его к земле и со смехом начал душить. Старый управитель отчаянно завопил:
– Ванюша, Ванюша! он задушит его! Помогите, помогите, ради господа помогите!
Старик не смел броситься сам, только кричал:
– Люди, люди! – и совершенно потерял голову.
Двое других слуг едва могли подняться и не в состоянии были помочь своему товарищу. Дедушка Эммы громко читал «Vater unser»[25] и не знал, что ему предпринять: бежать ли, помогать ли?
А Эмма? Весь страх, вся робость, какую чувствовала она, снова вдруг исчезли. Она вырвалась из объятий дедушки, безотчетно бросилась прямо к сумасшедшему и вскричала:
– Что вы делаете, князь?
Непостижимое изменение! Сумасшедший оставил слугу, которого душил руками, и робко поднялся с земли, потупил глаза, сложил руки. Эмма казалась божеством, перед которым уничтожаются его злость и сила. Дедушка, изумленный ее неожиданным поступком, признавался потом, что в это время он не узнал своей кроткой, тихой Эммы, что лицо ее засветилось чем-то неестественным, что, оживленная чем-то непонятным, она, с своим скромным, нежным лицом, своею легкою талиею, когда в то же время в быстром порыве ветерок сорвал с груди ее легонький платочек, – походила на одного из Клопштоковых[26] бессмертных духов. Старик любил читать «Мессиаду» и очень любил свою Эмму: не удивляйтесь его уподоблению.
– Сядьте здесь и будьте спокойны! – продолжала Эмма, все еще сама не понимая, что говорит, но смело указывая сумасшедшему на дерновую скамейку. Он безмолвно повиновался.
– Можно ли так бесчеловечно поступать! Вы убили бы этого бедного человека!
– Убил? А что такое «убил»? Они били меня, они мучили меня! – Сумасшедший заплакал, как дитя. – Я не стану драться, – продолжал он, смотря на Эмму, – если ты этого не хочешь, – только не сердись.
– Как можно хотеть убивать людей! Но сидите же спокойно.
– Но не уходи же от меня, – сказал сумасшедший, протягивая к ней руки, – и не вели им меня трогать.
– Будьте только смирны.
– У меня опять заболела голова. Дай мне свою руку – вот здесь у меня болит! – Он протянул свою руку к Эмме; она бестрепетно дала ему свою руку, и он приложил ее к голове.
– Лучше ли вам теперь?
– Лучше. – Он отнял руку Эммы от головы своей и с улыбкою, внимательно рассматривал эту милую, нежную ручку.
В изумлении от всего происходившего стояли дедушка и слуги княжеские. Дедушка тихонько подошел к Эмме и дернул ее за платье. Эмма оглянулась.
– Эмма! что ты делаешь! Отойди от него, пойдем домой! – сказал дедушка.
– Как же оставить его? – отвечала тихонько Эмма, печально улыбаясь. – Вы видите, что он только меня и слушается.
– По-немецки говорит! – сказал сумасшедший, улыбаясь и указывая пальцем на старика.
Эмма отняла у него свою руку; управитель и слуги осмелились опять подойти ближе. Эмма отступила.
– Ваше сиятельство… – произнес управитель.
Одной рукой сумасшедший ухватился за беседку, и она вся затрещала от его усилия выломить из нее палку. В ужасе отбежали слуги княжеские. Эмма снова произнесла:
– Вы обещали быть спокойны, – и сумасшедший сел на скамью, будто послушливое дитя.
– Как же мне уйти отсюда? – спросила Эмма у дедушки.
Слуги подошли к старику.
– Ваше высокоблагородие! – сказал ему тихо управитель, – позвольте мне доложить об этом их сиятельствам. Я тут ничего не разумею, изволите видеть. Надобно позвать нашего доктора.
Но доктор шел уже в это время по садовой дорожке. Один из слуг успел его обо всем уведомить. Доктор был старый человек в синем старомодном фраке. Он отрекомендовался дедушке Эммы с старинною немецкою оригинальностию.
– Извините, любезный сосед, – сказал доктор, – а может быть, когда узнаем друг друга поближе, и любезный друг, извините, что вас обеспокоил наш больной негодяй! Вы не поверите, как хитр бывает человек, когда лишится употребления рассудка. За два часа я оставил его такого смирного; он пил лекарства и во всем меня слушался – а между тем, вообразите, что он напроказил после того!
– Объясните мне, господин доктор, что все это значит? – говорил дедушка, указывая на Эмму, стоящую подле князя, и на князя, который смотрел на нее, улыбался, был тих, спокоен и, казалось, с жадностью глотал воздух, сделавшийся для него целебным от присутствия Эммы.
Дедушка наскоро пересказал доктору все события. Доктор угрюмо задумался, долго качал головою, долго чертил палкою по песку, наконец поднял голову и протяжно отвечал:
– Изъяснить, любезный сосед, не откажусь, но прежде всего позвольте мне, как честному человеку, уверить вас, что я не употреблю во зло вашей доверенности, и потом спросить: сколько лет вашей внучке?
– Я потерял дорогою, ехавши из Петербурга, или в Петербурге где-нибудь календарь, в котором был записан день ее рождения.
– О дне ни слова, но год…
– То-то, и года-то хорошо не знаю; должно быть, ей восемнадцать или девятнадцать лет.
– Характер ее?
– Ангельский.
– Это сказано неопределенно; судя по виду, должно думать, что характер ее холеро-меланхолический.
– Она одно утешение наше со старухою.
– Хм! утешение! И одна внучка у вас?
– У нее есть еще братья, маленькие, премилые шалуны.
– Хм! – повторил опять доктор. – Она должна быть набожна и, верно, не любит общества мужчин?
– Не знаю, к чему клонятся ваши странные вопросы, г-н доктор? Мы еще так мало знакомы.
– К тому, сударь, к тому – черт побери! Зачем вы давно не выдали замуж вашей внучки! Zum Teufel![27] На что держать дома этот гнилой товар!
– Г-н доктор! моя Эмма ангел скромности, добродетели и невинности.
– Да я лучше вас самих могу сказать вам все это, сударь, я – ученик и друг великого Месмера[28]! – Доктор приподнял свою шляпу. – Вы тут ничего не понимаете, а я понимаю. – Доктор утер слезу, выкатившуюся из его глаза. – Черт побери! Ведь вы желаете счастья вашей внучке? Так зачем же вы давно не выдали ее замуж?
– Г-н доктор!
– Господин сосед! потому, что вы должны были уговорить ее выйти замуж. Неба с землей мешать не надобно. На земле надобно думать о земле, и если неземное мешается там, где его не спрашивают, выходит дребедень – вы этого не понимаете, а я понимаю. Лечить можно всякой всячиной: я вылечивал чахотку от любви пилюлями из ипекакуаны[29]; tinctura regia[30], Перувианский бальзам и Боэргавов сахар спасли бы дурака Вертера[31], и этого сумасшедшего я вылечил бы, да теперь все пропало! Теперь ведь уж нельзя их разлучить – он умрет! Эх, сосед, сосед! как можно позволять девчонкам гулять в садах, подле которых содержат сумасшедших!..
Доктор с досадой стукнул своею палкою в землю и подошел ближе к сумасшедшему. Он пристально начал глядеть на сумасшедшего и на Эмму. Эмма потупила глаза и покраснела бы, если бы щеки ее, от солнца, от всего, что было, и от сильного внутреннего движения, давно не горели, как полымя.
– Ну! так! Все признаки, – точно так… – сердито произнес доктор.
Сумасшедший заметил доктора. Эмма отошла в это время от него. Взор безумца мрачился и темнел.
– Вы опять принялись за ваши дурачества, – сказал доктор князю, – стыдитесь, князь, стыдитесь!
Сумасшедший сжал кулаки.
– Не нужно сжимать кулаки, – вскричал доктор. – Я велю посадить вас в узкий мешок и капать вам водой на голову!
Сумасшедший готов был вскочить с скамейки.
– Можно ли так жестоко обходиться с ним? – сказала Эмма, обратив умоляющий взор на доктора.
– Прошу покорно: жестоко обходиться! Ласкайте, ласкайте его; вы еще не знаете, что значит человек сумасшедший; а не сумасшедший еще хуже, хуже во сто раз, говорю я вам! Вы этого не понимаете, а я понимаю.
Глухое рыкание послышалось в груди сумасшедшего.
– Теперь все мое лечение пошло на ветер по вашей милости! – вскричал доктор.
Заметив желание сумасшедшего броситься на доктора, Эмма оборотилась к нему и напомнила обещание быть спокойным.
– Позволь мне убить только этого, – шептал ей сумасшедший, робко указывая на доктора. – Он всех больше меня мучит. Я убью его так, что никто этого не увидит, и потом опять буду смирен, как тебе угодно.
Неужели только страх наказания или выдуманные человеком приличия заставляют несумасшедших не говорить того вслух, что говорит человек в безумии? Или с потерею ума человек теряет божественную половину свою, и тогда только остальная половина его – зверь – остается в нем, и кровожадность тигра является в человеке ничем неукротимая? Гнев не есть ли сумасшествие на минуту? Не знаю; но как часто человек с умом мыслит то, что, лишенный ума, говорит он вслух! Загляните в душу свою без свидетелей, и – вы содрогнетесь!
– Сударыня! велите ему остаться спокойным и скажите, что вы пойдете уговаривать меня не мучить его; потом, пожалуйте, подойдите сюда, ко мне. Без этого он тотчас убьет меня, – сказал хладнокровно доктор.
Доктор говорил по-немецки; сумасшедший тщательно вслушивался в слова, не понимал их и с досадою потряхивал головой.
– Будьте же спокойны, сидите здесь; я пойду уговорю его помириться с вами; видите, какой он сердитый, – сказала Эмма безумному.
– Ты уйдешь, – отвечал он, – и опять они возьмут меня. Ах! ты не знаешь, как они меня мучат! И все говорят мне, что я сумасшедший! – Он взял Эмму за руку; слезы наполнили глаза его. – А я совсем не сумасшедший. Ты видишь, что мне с тобою хорошо; я стану делать все, что ты мне велишь, только не оставляй меня! – Он стал на колени и держал Эмму за руку.
Сердце девушки замирало от ощущений, дотоле ей неизвестных и теперь непонятных. Она снова уговаривала безумца, и он остался неподвижен, на коленях, на своем месте, глядя на удалявшуюся Эмму. Так глядел он на нее, как будто все существование, вся жизнь его заключались в ней.
– Сударыня, – сказал ей доктор, – нет надобности изъяснять вам как, но только одно скажу: вы приобрели теперь полную власть над этим несчастным молодым человеком. Пользуйтесь своею властию, и вы вылечите его непременно. Начинайте теперь же ваше дело.
– Господин доктор! вы смеетесь надо мною! – сказала Эмма. – Что я за лекарка!
– Ну, ну! – вскричал доктор нетерпеливо, – я не умею по-вашему изъясняться и не стану говорить вам: будьте его ангелом-хранителем! Ангелов на земле нет; да и какой вы ангел? Вы женщина, из костей, крови и мяса…
– Господин доктор!
– Госпожа женщина, а совсем не ангел! прошу не сердиться! Угодно ли вам лечить его?
– Если бы я и могла, то надобна воля дедушки…
– Дедушка вам тут значит меньше нуля, поставленного к единице с левой стороны. Надобна ваша воля.
– Я не понимаю.
– И не нужно понимать! Много наделали бы люди, если бы понимали все, что делают!
– Что же мне делать?
– Пожелайте выздороветь ему, так пожелайте, как вы желаете себе царства небесного, как вы любите вашего дедушку.
– О! больше, больше, если надобно… – Эмма смешалась, когда невольно вырвались у нее эти слова. – Я буду молиться об этом каждый день, мыслить каждый час!
– Доброе создание! – сказал доктор, крепко сжимая ей руку. – Воля человека в молитве непобедима. Это… Но вы не поймете меня! Читали ль вы Библию? Помните ль слова его, того, кто сам сходил на землю для страдания: «Aber ohne deinen Willen wolKe ish nichts tun, auf dafi dein Gutes nicht ware genbthiger, sondern freiwillig» («Без твоей воли ничто же восхотел творити, да не аки по нужде благое твое будет, но по воле»)?
– Ах! Г-н доктор! что значит моя воля!
– То, чего никто в мире превозмочь не может. Поведите меня к нему, положите руки ваши ему на голову и три раза проведите ими от головы до сердца – то есть от первого главного зла человеческого до другого, еще худшего, Потом скажите ему, что я желаю ему добра; смотрите ему прямо в глаза; велите ему ехать домой и пожелайте здоровья.
– Я буду желать и молиться об этом.
Эмма исполнила слова доктора. Сумасшедший все еще стоял на коленях. Она подошла к нему и положила руки на его голову.
Если только может быть в человеке чистая, святая воля на добро, в это мгновение молитва к богу, какую в душе своей произнесла Эмма, молитва, в которой, забыв самое себя, она преобразилась в одно небесное желание добра, – эта молитва могла силою воли душевной сдвинуть горы и сбросить их в океан, как легкие песчинки! Будто непорочный ангел, коснулась Эмма – в первый раз в жизни – сердца мужчины и слышала под рукою своею его трепетание; но она не стыдилась и не краснела: она не глядела тогда на мужчину, сердце которого билось под ее рукою; взоры ее устремлены были на небо, где бесконечная, светлая лазурь казалась ей лазурью ока неизмеримого, пред коим пролетают века, как пыль, ветром свеваемая, и вселенная ветшает, как бедная риза, но оно вечно и неподвижно устремлено на века и на вселенную.
– Твои руки жгут меня, – прошептал сумасшедший. – Но сожги, сожги меня – мне так хорошо!
Дикий взор его угасал постепенно; он поднялся с земли и повел рукою по глазам, как будто снимая с них что-нибудь.
– Вы должны любить этого человека и слушаться его, – сказала Эмма, указывая на доктора. Сумасшедший робко взглянул на него.
– Пойдемте со мною, – сказал ему доктор ласково, – вам теперь и со мною будет хорошо.
Сумасшедший взглянул на Эмму, как будто спрашивая: велишь ли ты мне идти с ним?
– Да, идите с ним, – промолвила Эмма тихо.
Доктор взял безумца за руку, повел его и наткнулся на платочек, упавший прежде с груди Эммы. Он наклонился, поднял этот платочек и спросил у Эммы:
– Ваш ли?
– Ах, мой! – вскричала Эмма смешавшись.
– Возьмите его в руки и потом повяжите его на левой руке больного. Да не дурачьтесь же: извольте делать, что я говорю. – Неужели вам жаль этого дрянного лоскутка, если вы не жалеете всей своей воли для его здоровья? Знаете ли, чем вы, сударыня, жертвуете для него?
Эмма не отвечала ни слова и повязала платочек свой на руку сумасшедшего. Доктор повел его к калитке садика. Безумный не противился, но казалось, что он едва может идти; голова его тяжелела, глаза закрывались, ноги едва двигались. У калитки садика уже стояла великолепная карета княжеская; два высокие лакея в богатой ливрее растворили дверцы. Сумасшедшего почти на руках внесли в карету. Доктор сел с ним и, садясь, оглянулся на Эмму и на ее дедушку, неподвижно стоявших в садике; он усмехнулся, ласково махнул рукою. Дверцы кареты захлопнули; лакей закричал: «Пошел домой!», и карета загремела и быстро укатилась за ворота.
Эмма все еще стояла неподвижно. Что она думала? Не знаю. Дедушка подошел к ней, ласково обнял ее и заботливо спросил: «Ты вдруг так побледнела, моя Эммочка; что с тобою сделалось? Ты верно чувствуешь себя нехорошо? Пойдем, прими поскорее раковых жерновок[32]!»
Эмма прижалась к дедушке, опустила голову на грудь его и заплакала.
– Эмма, милая Эмма! – говорил ей дедушка. – Вот и старушка наша возвратилась из города. Пойдем к ней.
Тихо повел он Эмму. Русые локоны девушки переплетались с седыми волосами старика, и слезы юности падали на грудь его, среди разрушений времени вполне сохранившую чувство добра и любви к милым ему людям.







