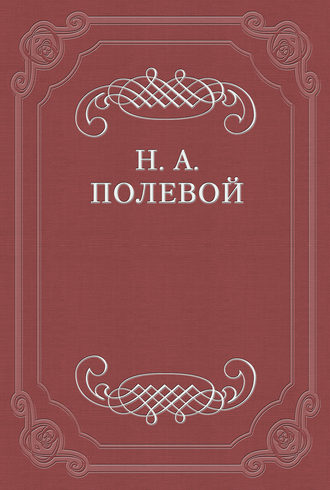
Николай Полевой
Живописец
Бедный Аркадий! Он думал торжествовать, думал, что Веринька поймет его «Прометея», что сила его дарования ослепит старого художника, отца ее, думал, что она в восторге устремит на него безбоязненный взор любви, а отец ее воскликнет: «Аркадий! ты великий художник», что в эту минуту будут забыты глупые приличия – он может упасть к ногам старика, сказать: «Отдайте же Вериньку этому великому художнику!» Веринька упадет в его объятия с словами «я твоя!». Что же теперь? Бездушный мазилка после рюмки водки закусывал его картинами… А Веринька? Она как будто стыдилась мгновенной милой откровенности своего сердца; она спрятала свою душу; она огородила себя холодностью, как будто нарочно заковала себя в самые тяжкие приличия светской девушки и отошла от Аркадия, пока отец ее начал со мною спор об изящном: я не вытерпел и горячо стал защищать Аркадия. Спор продолжился; мы перешли вообще к искусствам. Аркадий был забыт. Веринька спокойно глядела в окно, и – женщина! – ничего, ничего нельзя уже было прочитать на ее лице! Наконец старик вынул часы, посмотрел на них и сказал:
– Как приятно пролетело время – три часа! Пора домой! Сбирайся, Веринька! Хотя я уверен, что споры ничего не решают и что каждый всегда остается при своем мнении, – продолжал он, обращаясь ко мне, – но тем не менее всегда приятно поспорить с умным человеком!
Он ласково отрекомендовался мне, просил жаловать к нему, благодарил Аркадия, и гости пошли. Проводив их, Аркадий бросился к окошку. С каким восторгом, с каким унынием смотрел он на Вериньку, идущую с отцом. Еще раз она сжалилась над ним – оглянулась на него раза два, улыбнулась… И тогда только, когда отец и она ушли из виду и Семен Иваныч начал прибирать остатки закуски, Аркадий полупечально, полунасмешливо обратился ко мне, прошедши несколько раз по комнате.
– «Вот наши строгие ценители и судьи[106]!» Неужели так будут судить все? – сказал он.
– Нет! – отвечал я, скрепив сердце, хотя мне хотелось броситься к Аркадию, обнять его и сказать ему: «Да, бедный Аркадий, да!»
В тот же день Аркадий отвез свои картины на выставку. «Швейцарских вождей» его не приняли, говоря, что на выставке нет места. Одно крыло было таким образом отбито у Аркадия… Но еще надежда не покидала его. Он сносил все с терпением изумительным.
Дело Аркадия перенесено было теперь на решение толпы, публики, знатоков… Что же она сказала? Чем они решили?
Смешон, участия кто требует у света![107]
Холодная толпа взирает на поэта,
Как на заезжего фигляра: если он
Глубоко выразит сердечный, тяжкий стон,
И выстраданный стих, пронзительно-унылый,
Ударит по сердцам с неведомою силой, —
Она в ладони бьет и хвалит, иль порой
Неблагосклонною кивает головой.
Постигнет ли певца внезапное волненье,
Утрата скорбная, изгнанье, заточенье —
«Тем лучше, – говорят любители искусств, —
Тем лучше! Наберет он новых дум и чувств
И нам их передаст». Но счастие поэта
Меж ними не найдет сердечного привета,
Когда боязненно безмолвствует оно…
Такая толпа должна была решить дело Аркадия. Но каково было Аркадию, гордому, несчастливому Аркадию, когда с решением этой толпы соединялось все его будущее!
Мы пришли с ним на третий день после открытия выставки, когда избранные посетители впускались по билетам.
Прошедши по всем залам, посмеявшись над классическими уродами, которым придавали имена Геркулесов, Марсов, полюбовавшись на плохие копии с превосходных эрмитажных картин, пожалевши о бедных учениках, которые принуждены были писать по определенной мерке, на жалкие задачи, мы остановились у «Прометея». В этой комнате было поставлено еще несколько огромных картин, на которые художники не пожалели ярких красок и в которых подражали они самым лучшим живописцам. Тут толпилось множество народа; блистали звезды, стучали шпоры, гремели сабли, веялись перья дам. Мы стали в стороне.
Генерал. Прелесть, сударь, прелесть! Как быстро идут у нас художества! C'est charmant![108]
Щеголь. Mais, mon general!..[109]
Генерал. Без «mais», mon cher! Посмотри: что за прелесть!
Щеголь. Но видели ль вы Луврскую галерею?
Генерал. Видел, mon cher, и в полном блеске, в 1814 году! Прелесть! – Как хорош этот старик! А эта живая головка! (Тихо.) Кто эта дама? А! да! Прелесть.
Меценат (идет мимо). Bon jour![110]
Генерал. Вы не любуетесь?
Меценат. Эти две я уж купил. У меня не было пандана[111] для большой залы. (Художнику.) Только смотрите, чтобы вышли в меру!
Художник. А «Прометея» не прикажете?
Мец. «Прометея»? (Прищуривает глаза.) Предмет не хорош.
Барин (соседу своему). Слышите! Вот и его сиятельство то же говорит!
Femme savante. Fi! quelle horreur![112] Что это такое? Не пытают ли это кого? Какая гадость! Что это?
Щеголь (улыбаясь). Это Прометей.
F. s. Promethee. А! из мифологии. Давид[113] ввел было в моду изображения мифологические; но теперь мода эта давно забыта! Bon jour, ma cousine!
Толпа дам и девушек. (Слышны восклицания французские и русские.) Charmant – horreur – tres bien[114] – мило – были ли вы у N. N. – что ваша тетушка – были – будем – танцовали – quel beau temps![115] – C'est lui…[116]
Надзиратель. Осторожнее, ваше превосходительство, – вы изволите уронить «Прометея».
Старик с звездою. Он и без того лежит. (Хохочут.)
Щеголь. Какая теснота! Позвольте пройти! Bon jour!
Сухощавый знаток. В этой картине вовсе не понята цель. Что хотели изобразить? Мифологический сюжет? Надобно было отделать его барельефным образом, алянтик.
Другой знаток. Что это за фигуры подле главного лица? Они развлекают внимание – это ошибка художника.
Первый. Тело слишком темно.
Другой. Небо слишком мрачно.
Старый художник. Это, сударь, новая школа, дюреровская. Мы, классики, ее не понимаем.
Молодой человек (тихо товарищу). Здесь вся душа художника! (Слова их заглушаются громкими суждениями.)
Старик. Нога крива.
1-й знаток. Отдадим сами себе отчет: какое чувство должно было одушевлять Прометея? Конечно: раскаяние, благоговение к наказующей судьбе. К чему же это презрение на лице его?
Надзиратель. Позвольте, милостивые государи, – дорогу его сиятельству (его сиятельство лорнетирует картины. Все отстораниваются).
1-й знаток (тихо). Какой это у него орден?
2-й знаток. Кажется, Золотого Руна.
N. N. (тихо и униженно его сиятельству). Как вы находите?
Его сиятельство (с гримасою презрения). Могло б быть лучше.
Так судили о «Прометее». Вдруг Аркадий, дотоле равнодушный, усмехавшийся, побледнел, схватил меня за руку и указывал прямо на своего «Прометея». Перед этою картиною стоял высокий молодой человек и, разинув рот, равнодушно глядел в потолок, на картины, на зрителей.
– Это он! – шептал мне Аркадий.
– Кто он?
– Долговязый! Он воротился! Боже мой! у него золотое колечко на правой руке!
Аркадию сделалось дурно. Я поспешил вывести его на свежий воздух. Мы пошли на его квартиру. Аркадий молчал дорогою. Едва мы пришли, Семен Иваныч известил Аркадия, что Парфен Игнатьевич, отец Вериньки, заходил к нему, спрашивал его, отдохнул немного и ушел.
– Не заказывал ли он чего-нибудь? – спросил Аркадий задумчиво.
– Ничего-с. Но он заботливо разбирал тут какие-то бумаги и, видно, второпях забыл их. Вот они на столе. Он говорил, что у него теперь тма хлопот.
– Бумаги? – К изумлению моему, Аркадий схватил бумаги, оставленные стариком, и поспешно стал перебирать их. Это были какие-то счета, записки. Одну из них вдруг развернул Аркадий, руки его задрожали – записка вывалилась у него из рук – он упал в кресла.
Испуганный Семен Иваныч бросился помогать Аркадию. Я поднял записку с полу: это был образчик билета, вероятно, писанный для отдачи в типографию и начинавшийся сими словами: «Парфентий Игнатьевич N. N. сим честь имеет известить о помолвке дочери своей Веры Парфентьевны…»
– Не бойся, любезный Семен Иваныч, – сказал Аркадий, бодро вставая и усмехаясь, – не беспокойся! За бумагами верно пришлет Парфентий Игнатьевич. Ты отдашь их присланному. – Он тщательно сложил бумаги и передал их старику. Сомнительно посмотрев на обоих нас, взглянув потом на меня, будто умоляя меня быть хранителем Аркадия, Семен Иваныч вышел. Да, в эту минуту я обещал сам себе употребить все, что будет в моих силах, для спасения бедного моего друга!
Аркадий ходил несколько минут по комнате молча, спокойно по наружности; только беспрестанно отирал он лицо свое платком. Потом, не говоря ни слова, взялся за шляпу.
– Аркадий! куда ты? – спросил я.
– К Вериньке, – отвечал он каким-то могильным голосом, отирая щеткою шляпу свою и поправляя перед зеркалом беспорядок своей одежды. – Разве вы не видите, что ее губят? Я должен спасти ее!
– Аркадий! позволь мне идти с тобою!
– Пойдемте. Мне все равно. Мне хочется только сказать ей или им два-три слова. Как я желт и бледен! – Он поправил свои волосы.
Аркадий шел поспешно, почти бежал. Едва успевал я за ним. Расстояние было невелико. Нам никто не встретился в передней комнате. Мы вошли прямо в гостиную. Веринь-ка сидела тут на диване, наклонясь головою на стол и закрыв лицо платком. Услышав шум, она вскочила, увидела Аркадия, ахнула и принуждена была удержаться рукою за стол. Глаза ее были красны; другую руку прижала она к груди своей.
– Веринька! милый друг! – сказал Аркадий трепещущим голосом.
– Аркадий! зачем вы пришли! – отвечала она ив бессилии опять села на диван, боясь совершенно лишиться чувств.
– Судьба твоя решена?
– Оставьте меня, Аркадий, ради бога оставьте. Будьте счастливы! Вы достойны счастия!
– Хоть не смейся надо мной, бесчеловечная! Веринька, милый друг! я пришел спасти тебя!
– Поздно, Аркадий! Оставьте меня; я уже принадлежу другому. Мое слово дано!
– Другому! – Аркадий отскочил от нее, как будто наступил на ядовитую змею. – Он прежде повергнет меня мертвого к ногам твоим и тогда возьмет тебя!
– Аркадий! ради бога…
Аркадий в отчаянии ничего не слыхал. Вдруг лицо Вериньки изменилось. Она отерла слезы свои, встала и твердым голосом сказала ему:
– Я добровольно отдаю ему свою руку. Вы не имеете права располагать моею волею!
Я ждал грома, но его не было: душа Аркадия уже потухла. Колена его смиренно подогнулись. Он сложил свои руки и с умоляющим видом поднял их к Вериньке.
– Ты решаешь смерть мою, Веринька! Если ты добровольно отдаешь ему свою руку, сердце твое принадлежит мне – я знаю!
– Нет!
– Бесчеловечная! так ли мы должны хоть расстаться с тобою! Еще есть время, Веринька: скажи одно слово – убежим, милый друг, если тебя принуждают! Ты ошибаешься, Веринька: ты моя, моя!.. О чем ты плачешь?
– Кто велел вам подсматривать за моими слезами? Я не хочу вас видеть!
Веринька закрыла глаза платком. Аркадий не говорил более ни слова; он встал, сложил руки; жадным, горестным взором, взором, в котором жизнь и смерть, казалось, спорили о своей добыче, он посмотрел на Вериньку и потом бросился из комнаты. Веринька опомнилась, как будто вышла из какого-то состояния бесчувствия; она не замечала меня и кинулась к дверям.
– Аркадий! – вскричала она. Аркадий бежал уже по улице.
– Аркадий! – громко произнесла она и с выражением нестерпимой горести протянула руки вслед за ним, к окошку. – Аркадий!
Голос ее выражал отчаяние. Тогда только заметила она меня, покраснела, слезы ее вдруг исчезли. Это была обыкновенная, благоразумная Веринька.
– Сударыня, – сказал я, приближаясь к ней, – вы знаете меня: я люблю Аркадия, как брата; я пришел с ним, боясь, чтобы отчаяние не довело его до какой-нибудь безрассудности. Сядьте и выслушайте меня.
Веринька машинально села на диван и закрыла глаза платком, взмокнувшим от слез ее.
– Сударыня, – сказал я, – не скрывайтесь от меня; говорите со мною, как с отцом своим. Мои лета дают мне на это право. Вы любите Аркадия? Будьте откровенны.
– Более жизни моей люблю его! – сказала Веринька, рыдая и прижимая руки к груди своей.
– Что же разлучает вас? Если согласие вашего папеньки должно купить улучшением состояния Аркадия, я готов поделиться с ним. У меня большое имение, я одинок. Скажите одно слово, и вы будете счастливы!
– Счастлива! Никогда, никогда! Я давно уже отреклась от счастья! Одно осталось мне: жертвовать собою для спокойствия моего отца…
– И выйти за человека, не любимого вами?
– Папеньке он нравится – я его не ненавижу – он меня любит.
– А Аркадий только вами и живет!
– И только терзает меня и всё, что его окружает!
– Неужели вы не верите любви его? Неужели вы не захотите даже пожертвовать ему собою, если и знаете его пылкий, неукротимый характер!
Веринька перестала плакать, потупила глаза и щипала кончик платка своего.
– Буду с вами откровенна, человек добродетельный! – сказала она. – У вас нет детей, но вы можете судить: не первая ли обязанность моя успокоить, утешить отца, у которого я одна, единственное его утешение, единственная его отрада? Этим ли пожертвую я безрассудной страсти моей – безрассудной! Чувствую, как дорог мне Аркадий, но ужасаюсь любви его, трепещу ее! Мы не понимаем друг друга; и не знаю – может ли даже кто-нибудь понять это сумасшествие, это безумие, с каким любит Аркадий! Я не в состоянии осчастливить его. Он видит теперь во мне что-то неземное. Изменения его характера ужасны. Уверена, что он так же потом легко возненавидит меня, как теперь безумно обожает! Не говорю о счастьи: такое неукротимое бешенство чуждо его! Но Аркадий будет со мною несчастлив, и я должна отдать руку свою другому, чтобы спасти от горести моего доброго отца… чтобы спасти его самого – ах! нет! спасти самое себя… Его любовь могла бы, наконец, и меня довести до безумия… И без того, сколько раз я была от нее на краю бездны…
Веринька опять начала плакать.
– Подумали ль вы о том, какую участь приготовляете себе?..
– Смерть, может быть… Что же тут ужасного? Не я буду виновата, если не переживу.
– Нет! не смерть, но жизнь в объятиях человека вами нелюбимого, в ужасающей стуже приличий и обязанностей, нарушение коих будет для вас преступлением. И как же? С любовью, с пламенем, который будет сожигать вашу грудь.
– Пощадите меня!
– Будет ли счастлив этим ваш отец? – Вы молчите? А если Аркадий не перенесет своего бедствия? Если могила его будет укорять вас, что вы погубили в нем человека великого, надежду отечества, сердце, каких немного на земле, душу высокую, пламенную, которая любила вас – как не любят уже в наше время…
Веринька плакала и не отвечала ничего.
– Говорите, сударыня! – повторял я.
Она молчала; глаза ее были неподвижно устремлены на золотое колечко, бывшее у нее на правой руке.
– Зачем еще не вчера пришли вы… – прошептала она.
– Неужели вы боитесь разорвать ваше обязательство? Неужели приличия страшат вас?
– Это невозможно! – сказала она.
Душа моя отворотилась от нее. «Так-то всегда любите вы, женщины!» – думал я. И сердце мое облилось кровью. Я вспомнил свои страдания. Так-то некогда растерзали меня… Мне показалось, что я вижу в Вериньке оживленный эгоизм женщин нашего времени.
Теперь, когда после этого прошло много времени, размышляя обо всем, я уже не обвиняю ее. Кто не содрогнулся бы, в самом деле, души и любви Аркадия, кто из вас, женщины? Может быть, в минуту забывчивости некоторые из вас предались бы такой любви, но – только забывшись! Вы все Вериньки! Должно ли обвинять вас? Сохрани бог! Вы правы. Говорят, что девушек должно приучать к хозяйству. Жаль, что, приучаясь к нему, они нередко видят хозяйственные распоряжения в самых высоких вдохновениях души…
Я застал Аркадия на его квартире. Он был мрачен, но спокоен и встретил меня следующими словами:
– Почтенный друг мой! можете ли вы оказать мне последнюю услугу!
– Последнюю, Аркадий?
– Решено: я немедленно еду за границу! Вот, посмотрите: я рассматривал сейчас карту Европы. Завтра же оставлю я Петербург, и, пока получу паспорт, пока соберется мой Семен Иваныч, я буду жить в Ревеле. Туда приедет он ко мне, и тотчас отправимся мы в Дрезден, оттуда в Швейцарию, оттуда в Италию… Прости отечество, прости все – я никогда уже не возвращусь сюда, никогда! Не возражайте, почтенный друг! Не ручаюсь ни за жизнь, ни за что, если останусь еще одни сутки в Петербурге… Ни за что не ручаюсь… – повторил Аркадий. Он страшно сжал кулаки и заскрежетал зубами. – й-арезирать ее не могу, и возненавидеть ее не умею! – воскликнул он.
– Аркадий, – сказался, стараясь перебить его мысли, – это прекрасно вздумано. Что же тебе надобно?
– Гадости, без которой ничего нельзя сделать на свете, – денег! У меня есть тысячи с полторы. Примите на себя труд, почтенный друг мой, продать мои картины. Может быть, кто-нибудь купит их, хоть для пандана. Семен Иваныч продаст мебели и прочую дрянь. Ссудите меня деньгами, с тем чтобы получить уплату из продажи моих картин и вещей, и – простите, простите, друг незабвенный!
Мы обнялись. Надобно ли сказывать ответ мой на требование Аркадия? Почти всю ночь просидели мы вместе и проговорили. О Вериньке не было ни слова. Иногда Аркадий вдруг останавливался, думал, с трудом соображая, о чем мы говорим… На другой день я проводил Аркадия по Нарвской дороге. Разумеется, что картины его оставил я у себя и что цена их далеко превосходила небольшую сумму, которою я ссудил его. Остальную сумму, по его желанию, переслал я к его отцу. Через две недели и Семен Иваныч простился со мною. Он знал, что уже ему не воротиться в Россию, но не хотел оставить Аркадия. Долго, со слезами, молился старик в Казанском соборе и говорил:
– Матушка казанская богородица! благослови только и утешь моего барина. Ничего более не молю!
Увы! молитва доброго старика не была услышана!
* * *
Вы хотите знать окончание моей повести об Аркадии? Память незабвенного друга мне так драгоценна, что я доскажу вам о нем.
Я сам думал, что время, путешествие, страсть к искусству, слава, может быть, рассеют горесть и отчаяние Аркадия. Но время ничто, если прошедшее убито у человека навсегда, а настоящее погубило всю его будущность. Путешествие хорошо для души, жадной впечатлений, юной, свежей или уже отстрадавшей, утомленной, требующей просто отдыха. Ни то ни другое не было уделом Аркадия. Горячая кровь текла у него из сердца, разорванного бешеною страстью. Ужасная одинокость в настоящем, пустыня жизни впереди – и что тогда значит страсть к искусству? А слава? И в наше время! Этот мячик, перебрасываемый от одного к другому бестолковою толпою… Кто может жить только с нею! И что такое вообще слава? Определили ль вы ее?
Расставшись с Аркадием, я вскоре уехал в свой город и жил там по-прежнему, как теперь живу. Но речь не обо мне. С Аркадием вели мы постоянную переписку. Часто получал я письма Аркадия. Он описывал мне свои впечатления, свои занятия. Так прошло три года. Письма его стали приходить реже, хотя так же были дружественны, так же обширны. Наконец прошел целый год, и я вовсе не получал от него писем. Я знал, что Аркадий, объехав большую часть Италии и Сицилию, наконец поселился в Риме, что он посвятил себя совершенно живописи. Имя его скоро стало известно между тамошними художниками. Желал бы я сообщить читателям некоторые из писем Аркадия. Как созревал его ум в страданиях! Как светлела более и более душа его! Но никогда, ни слова не писал он ни о любви своей, ни о прошедшем – ничего не упоминал и о состоянии своего здоровья. «Что сказать вам, добрый друг, на вопрос ваш о моем здоровье? – писал однажды Аркадий. – Тот здоров, кто счастлив. Больной душе не навеют здоровья лимонные рощи Италии, не согреет ее итальянское солнце…» Письма к отцу Аркадия шли через меня. Аркадий был в них нежным, почтительным сыном и радовал старика от времени до времени надеждою возврата в отчизну. Я пересказывал старику о славе, какую приобретал сын его. Старик не понимал этого, но радовался, как ребенок. Часто приходил он ко мне – поглядеть на картинки своего Аркадия: так он называл картины, доставшиеся мне в Петербурге. Часто изъявлял он желание иметь себе особенную картинку его и писал об этом к Аркадию. Аркадий обещал прислать.
Когда я начинал уже сильно беспокоиться о том, почему так долго не получаю известий о моем друге, писал уже к нему неоднократно и не получал ответа, мне сказали в одно утро, что меня спрашивает какой-то иностранец. Это был итальянский живописец, странствующий торгаш картинами.
Полуфранцузским языком он изъяснил мне, что едет из Одессы в Москву и Петербург и везет на продажу множество египетских древностей, этрусских ваз, разных картин и статуй. Потом он вручил мне письмо Аркадия.
– Вы его знали в Италии? – спросил я нетерпеливо.
– Знал ли я его, синьор? Он спас мне жизнь в Террачинских горах, и я не имел бы чести говорить с вами теперь, если бы не синьор Аркадио защитил меня.
– Здоров ли он? Где он?
– Как, синьор? Неужели вы не знаете!
– Что такое?
– Он умер, синьор, умер этот необыкновенный молодой человек, di molto ingegno, di grandissimo ingegno![117]
– Но как же у вас письмо его? – спросил я, будто громом пораженный.
– Ах, синьор! Я оставил его совсем больного. Надеялись, однако ж, что он еще проживет лето; но в Триесте я получил известие о смерти Аркадия. Впрочем, нельзя было без слез смотреть на него, когда он прощался со мною. Он был так худ, так бледен; и при всем этом он соблюдал удивительное присутствие духа и смеялся, прощаясь со мною до свидания за гробом! Он всегда был печален, мрачен; ничто не могло развеселить его, хотя никто не знал, что такое его сокрушало. Vi sono certi punti che non sembrano mai abbastanza sviluppati e schiariti.[118]
Я развернул письмо Аркадия. Оно состояло из немногих строк, писанных уже слабою рукою. Аркадий просил простить его, что он скрывал от меня бедственное состояние своего здоровья. «Не жалейте обо мне, – писал он, – вспомните обо мне иногда, но не жалейте – жизнь моя давно не принадлежала уже здешнему миру. Никакого друга не встретил бы я так весело, как эту костлявую гостью, которая сильно стучится ко мне в двери». Он рекомендовал мне итальянского живописца, своего приятеля, как доброго, честного человека и писал, что с ним посылает свою последнюю картину. «Рассчитываю по времени, что он приедет к вам около именин моего отца. Если будет так, то передайте моему старику эту картину в самый день его именин. Он давно просил меня прислать ему картину. Он порадуется и благословит меня заочно. Не говорите ему, однако ж, ничего о моей болезни и о смерти моей, если до того времени о ней узнаете. Зачем отравлять немногие дни, оставшиеся моему доброму отцу! Он любил меня. – Я перевел двадцать тысяч франков на дом Б** и компании в Санкт-Петербурге. Это осталось у меня от издержек. Здесь осыпали бы меня деньгами, если бы я хотел. На что их мне? Отец стар; братья проживут без меня. Себе оставил я сколько надобно на простые похороны. Получите упомянутую сумму» и вручите ее отцу моему. Семену Иванычу (не забудьте его! Добрый старик лишается со мною последней своей радости!) препоручу я, после смерти моей, привезти в Россию несколько рисунков и вещей для вас – на память обо мне. Воспоминание о моем благодетеле и о вас уношу с собою во гроб; и с вами еще… но зачем вспоминать о том, что отвергло меня так жестоко, растерзало меня так свирепо… Говорят, что она счастлива. Боже! при гробе нет уже страстей – я желаю ей счастья – молюсь о ней… и о нем, если он осчастливил ее собою, молюсь, как ни тяжко мне, – а это очень тяжко, почтенный друг мой…»
Долго плакал я над этим письмом. Как нарочно будто на другой день были именины отца Аркадиева.
– Где картина, присланная с вами Аркадием? – спросил я итальянца.
– На моей квартире, синьор.
– Выберите раму у меня, – сказал я ему, – вставьте в нее картину и приготовьте к утру завтрашнего дня.
Рама нашлась по мерке: мы ее сняли с «Прометея»… Синьор взял раму. На другой день, свято исполняя волю моего друга, я предварительно узнал, когда старик Иван Перфильевич уйдет к обедне, и явился к нему в это время. Братья Аркадия приняли меня весьма вежливо. Я сказал им о присылке картины. Вскоре привезли и картину. Она была огромна и в маленьком домике старика, в своей золотой раме, казалась чем-то необыкновенно великолепным. Вся она была закрыта полотном. Мы поставили ее в зале, где она заняла целую половину стены. У меня недоставало еще духа раскрыть ее. Слух о картине, присланной от Аркадия Ивановича, разнесся уже по соседству. Множество народа сошлось смотреть.
Я сел у окна, ожидая старика, и грустно смотрел на все, меня окружавшее. Я был в том доме, где родился, между теми людьми, с которыми провел свое малолетство Аркадий. И дом, и люди были те же, какими были они за двадцать пять, за тридцать лет, – ничто не переменилось в них: они только устарели физически – они, то есть и дом, и люди эти. Они были спокойны, веселы, самодовольны – эти братья Аркадия, соседи, родственники, пришедшие поздравлять старика. А он? А этот Аркадий? Он уже прогорел метеором по небосклону, ярким метеором, – он, единственный человек из этой толпы народа…
Обедня кончилась. Старик пришел домой. Все встали, встретили его, поздравляли. Он увидел меня, тотчас поплелся ко мне, взял меня за руку и с радостью спросил:
– Видно, письмецо от друга моего Аркадия? Сын ты мой милый! Может быть, в последний уже раз привел меня господь праздновать на старости день моих именин, и ты радуешь меня в этот день письмом своим!
– Письма нет, – отвечал я, – но Аркадий прислал вам в подарок картину своей работы и просил меня вручить ее вам в день именин ваших.
– Картина от моего Аркадия, – завопил старик, – прислана мне! Где, где она? Дети! картина от моего Аркадия!
– Она в зале, дедушка! – закричали внучата, дети братьев Аркадия, прыгая вокруг своего деда.
Старик спешил туда. Мы раскрыли картину: она стояла теперь во всем великолепии, освещенная утренними лучами солнца. Старик, с толпою родни, соседей, с братьями Аркадия, вошел в залу: домашние все уже сбежались туда. Множество голов зрителей видно было даже в окошках.
Тут, на картине, изображен был Спаситель, благословляющий детей[119]. Лицо его было божественно, исполнено любви и благости. Он изображен был сидящим; несколько детей беспечно, смело, безбоязненно окружали его, смотрели на него; только один из них, устремив глаза свои на Спасителя, задумался и облокотился локтем на его колено. Вознося благословляющую руку над головою сего дитяти, другую обращал Спаситель к двум ученикам своим и, казалось, говорил им: «Не возбраняйте детям приходить ко мне; для таких предназначил я царство небесное; только будучи невинен душею, как младенец, будешь со мною во славе отца моего на небесах!» В стороне, отворотясь от детей, стоял какой-то человек. Его бледное лицо, его всклоченные волосы, морщины, прорезанные пылкими страстями на лице его, показывали, что это был не простой пастырь галилейский, но страдалец, много испытавший, проведший, бурную жизнь. Казалось, этот человек слышал в словах Спасителя решение загадки, мучившей его всю жизнь; казалось, он хотел бы погрузиться в прежнее невинное младенчество… Он возводил к небесам взор надежды и страха.
Старик упал на колени пред этою картиною, восклицая:
– О, мой милый Аркадий! осчастливил ты меня! Да благословит тебя господь, как благословляет он этого младенца!
Мы подняли старика. Он велел поставить себе стул против картины, рыдал; слезы радости текли по его щекам. Каждому, кто подходил, кто приходил вновь, он указывал на картину и мог проговорить только одно:
– Аркадий, Аркадий прислал!
Когда я сказал, что Аркадий прислал еще ему около двадцати тысяч рублей, которые успел он скопить во время пребывания своего в Италии, это почти не произвело в нем перемены; но тогда других надобно было видеть. Братья Аркадия принялись хвалить его…
Разумеется, никто из зрителей не мог судить о высоком искусстве Аркадия, которое доказывала эта картина, но тем не менее все были приведены в восторг его работою. Превосходное было это произведение! Какое дарование! Сколько души! Что могло б быть из этого человека! – Увы! эта последняя картина Аркадия растерзала меня, когда я всмотрелся в нее более: в лице малютки благословляемого Спасителем, я узнал черты Вериньки, возведенные к идеалу невинности первых лет детского возраста, а этот измученный страстями пастух – это был сам Аркадий! Итак, мысль о тебе – женщина! – преследовала его и на краю гроба! И такой любви ты не поняла, не оценила! Меня даже успокоивало теперь помышление, что Аркадий уже не существует, что он уже перестал жить, то есть перестал страдать. Но видеть восторг, производимый его картиною, слышать благословения отца, произносимые ему, воображать, что, может быть, многие, смотря на его картину, думают: «Как счастлив этот художник! Как услаждает его слава!» – соображать и думать все это было мне тяжко, грустно, больно… Вся жизнь Аркадия сливалась для меня в этой картине… Только слезы облегчили сердце мое…
Несколько дней сряду к старику приходили смотреть картину. Сам губернатор приезжал к нему. За нее давали ему очень дорого. Но он не уступал ни за что и говорил, что, умирая, велит поставить ее против себя и будет благословлять милого сына своего и желать ему счастья и здоровья! – Увы! в целом городе только я один знал, что Аркадия уже нет на свете…
Над миртами Италии прекрасной[120]
Он тихо спит, и дружеский резец
Не начертал над русскою могилой
Слов нескольких на языке родном,
Чтоб некогда нашел привет унылый
Сын Севера, бродя в краю чужом…
* * *
На другой год мне опять привелось ехать в Петербург по делам. На меня навязалась тяжба. Мне надобно было выправиться о моем деле по министерству юстиции, и знакомые дали мне письма к одному значительному чиновнику. Имя его показалось мне знакомо, только я никак не мог вспомнить, где я знавал его? Осведомившись, что могу застать этого чиновника по четвергам, вечером, являюсь к нему и нахожу довольно много гостей. Хозяин был в своем кабинете с кем-то. Меня просили войти в залу. Тут нашел я несколько столов с вистом и бостоном. Дамы сидели на диване. Хозяйка сидела тут же и весело разговаривала с ними, ее окружали трое или четверо милых, опрятно одетых детей. Она была еще молодая женщина, одетая по-домашнему, щегольски, и ловко встала, чтобы принять меня. Тогда я узнал ее: это была Веринька! Я остолбенел и искал в лице ее, полном, здоровом, спокойном, искал в этой чиновнице, даме, с чепчиком на голове, в модном шлафроке, окруженной детьми и гостями, идеала моего друга Аркадия.
– Боже мой! Г-н Мамаев, вы ли это? – сказала мне Вера Парфентьевна. – Садитесь, пожалуйте, садитесь. Давно ли вы в Петербурге?
Мы начали говорить – о погоде, о новостях. Она вспомнила меня. И ничего более не вспомнила?.. Не знаю. Тут вошел сам хозяин. Из долговязого молодого человека, одетого в щегольской фрак, он сделался теперь плотным чиновником, в вицмундире, с крестом на шее, с другим в петлице и с пряжкою за пятнадцатилетнюю беспорочную службу. Он принял меня вежливо, обещал все сделать. Жена его, очень равнодушно, сказала ему, что некогда я был знаком с ее отцом, что я старый приятель их дома. Муж просил меня после этого посещать их, предлагал мне немедленно партию в вист. Я отказался от виста и не приходил к ним более. В департаменте сказывали мне, что муж Вериньки отличный чиновник и со временем может надеяться многого, что он притом весьма счастлив в семействе, что жена у него премилая женщина, добрая мать детям и большая хозяйка. Я видел после того еще раз Вериньку в театре. Она сидела в ложе с мужем и детьми. Не один лорнет был наводим из кресел на эту ложу; не один молодой человек говорил другому: «Прелестная женщина! и с каким вкусом одета!»[121]







