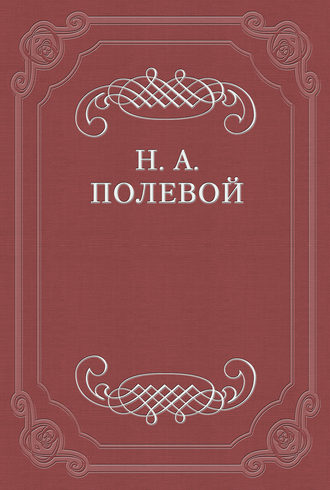
Николай Полевой
Живописец
Его здоровье видимо наконец расстроивалось от несвойственного образа жизни, от трудных его занятий. В один вечер мы остались с ним одни. Он не велел никого принимать, чувствуя себя особенно нездоровым. Он рассматривал мои новые эскизы, говорил с жаром, с каким-то особенным чувством… он так любил меня, он так хорошо меня понимал!
«Аркадий! – сказал он мне. – Я не хочу скрывать от тебя радостной для нас обоих вести. Я думал было изумить тебя нечаянностию, но не буду отнимать нескольких приятных дней ожидания для того только, чтобы тем сильнее поразить тебя потом известием неожиданным. Знаешь ли, что я подал просьбу об отставке? Слушай далее: едва получу отставку, немедленно едем. Хочу поселиться в Италии. Здоровье мое расстроивается совершенно. Мне не для чего беречь его, но зачем же и быть самоубийцею».
Говорить ли мне о моем восторге? Я целовал руки моего второго отца, я едва не плакал от радости. Италия, Италия!.. Мы проговорили с ним до глубокой ночи. Мой благодетель прожил некогда года два в Италии. Он много рассказывал мне вообще о своих путешествиях, об Италии особенно. Теперь мне усладительно было вновь услышать от него все, что уже слыхал я прежде. Наконец он встал, простился со мною, взял свою ночную лампадку. Все в доме давно уже спали. Мы были с ним одни совершенно. Выходя из комнаты, он вдруг остановился… Как теперь помню я этот бледный свет, упавший от лампадки на его бледное, задумчивое лицо! Он еще раз взглянул на меня, улыбнулся, протянул ко мне руку и сказал четыре стиха любимого своего поэта:[69]
Du missigonnst
Dem Bild des Martyrers den goldnen Schein
Um'es kahle Haupt wohl schwerlich; und gewiss,
Der Lorbeerkranz ist, wo er dir erscheint,
Ein Zeichen mehr des Leidens, als des Glucks!..[70]
Что такое были эти слова? Предчувствие, страшное предвещание будущей моей участи, изреченное устами того, кто вырвал меня из растительной моей жизни и указал мне на достоинство человека?.. Это были последние слова, слышанные мною от моего благодетеля!
Я ушел в свою комнату; грустное впечатление последних слов скоро пролетело, я вспомнил о предстоящем путешествии, голова моя была в жару, я не мог спать, ходил, думал, мечтал… К утру только заснул я… Просыпаюсь, услышав рыдание… это был Семен Иваныч… Он стоял подле моей постели и не мог выговорить ни одного слова… И без слов его я понял ужасную истину… «Он умер!» – вскричал я вне себя. Бросаюсь в спальню благодетеля моего… Тих, спокоен был лик умершего; задумчивая улыбка застыла на устах его… Смерть не смела стереть этой улыбки. Он был теперь счастлив… он рассчитался с жизнию…
Аркадий не мог более продолжать, закрыл лицо руками и тихо плакал. Крупные слезы текли между его пальцами – так крепко прижал он руки свои к лицу… Я не в силах был выговорить ни одного утешительного слова. Всякое утешение казалось мне оскорблением священной горести, какою чтил он память незабвенного для него человека.
III
– Oui, ma douce amie, malgre l'absence, les privations, les alarmes, malgre le desespoir meme, les puissants elancements de deux coeurs l'un vers l'autre ont toujours une volupte secrete, ignoree des ames tranquilles. C'est un des miracles de l'arnour de nous faire trouver du plaisir a souffrir, et nous regarderions, comme le pire des malheurs un etat d'indifference et d'oubli qui nous oteroit tout le sentiment de nos peines…[71][72]
Ж. Ж. Руссо
– Или я создан иначе, или неправду говорят, что величайшая горесть всегда безмолвна. Нет! после первого оцепенения какого-то, продолжавшегося несколько минут, походившего более на душевное несуществование, нежели на скорбь, я зарыдал, слезы мои полились, как будто душа моя хотела выхлынуть с ними через глаза мои. Три дня плакал я, почти не переставая, почти не отходя от бездушного трупа того, кто столько лет был моим провидением…
Я едва замечал, что делалось вокруг меня. Помню, что слуги моего благодетеля горько плакали; что великолепная процессия шла за гробом его по Петербургу, что люди подходили, спрашивали: «кого хоронят?» – слышали имя и спокойно шли, кто куда шел, иной на рынок, иной в суд, иной прогуливаться – дело обыкновенное! Воротясь с кладбища, заперся я в своей комнате. Во все эти дни только однажды приезжал племянник, теперь наследник моего благодетеля. Потом явился он на похороны, провожал тело покойника и прямо с кладбища уехал куда-то. Я не начинал с ним говорить; он как будто не замечал меня. Мы были с ним чужие.
Сырой, пасмурный был этот день. Наступил вечер, тяжкий, грустный. Безмолвно ходил я по своей комнате, в ужасающем одиночестве. Ни прошедшее, ни настоящее, ни грусть, ни печаль, ни мысль о будущем, ничто не втеснялось в мою душу. Во всем доме было безмолвие, приводившее в трепет. Ничто не шелохнется в этом жилище, еще недавно оживленном деятельностью жизни, ума, сердца! Кабинет моего благодетеля был запечатан. Казалось, что с смертью его все умерло – умер и я! Уничтоженный, как будто несуществующий, ходил я по комнате, ни о чем не думал и не мог думать.
Бесчувствие мое было столь велико, что я не заметил, как вошел ко мне какой-то угрюмый незнакомый человек. Его провожал старик камердинер покойного. Угрюмый незнакомец объявил мне, что отныне ему препоручает все имение свое племянник покойного, что все распоряжения и доверенности прежнего владельца уничтожаются, и все дела поступают к нему, г-ну управляющему. Хорошо; но что же мне была за надобность до его дел? Я молчал, смотрел на незнакомца; он принужден был сам начать продолжение своей речи и сказать мне, что доверителю его не угодно оставлять за собою этого дома, что он его отдает в наем, что для этого надобно очистить дом, а посему и просят меня выехать из него немедленно.
Да! какая глупость! С чего вздумал я сюда воротиться с кладбища? Как мне было не знать, что с смертью моего благодетеля для меня все было кончено; что мир вещественный должен был теперь схватить меня и мстить мне за то, что столько времени я не жил в нем? Эта мысль пролетела в голове моей, когда мне объявляли, что меня гонят из дома, где провел я столько лет с моим вторым отцом… Счастливо или несчастливо? На что спрашивать: у меня было сердце, понимавшее меня, была целая семья чувств в этом сердце… Теперь – одинокость, страшное уединение души и сердца – и страшное лицо мира, с его двумя тусклыми, помраченными от низких страстей очами, на которых не ищите божественного отблеска первосоздания! Мне казалось, что я видел уже эти два глаза, на меня устремленные, чувствовал холодное дыхание мира и людей на моем сердце, замечал, как две огромные руки ничтожных забот о жизни обгибаются вокруг меня, хотят схватить, поднять меня, и мир злобно хочет после того смеяться над моею беззащитностью, моим сиротством, держа меня в страшных своих когтях… Холодный пот выступил у меня на лбу. «Но посмотрим, – думал я, – посмотрим, что ты сделаешь со мною, мир? Я от вас ничего не потребую, ничего не захочу, люди! Тяжко тому, кто чего-нибудь хочет, и ему этого не дают; а кто ничего не хочет, ничего не требует?»
«Долг мой был предуведомить вас, милостивый государь», – сказал мне наконец незнакомец, удивляясь, по-видимому, моему молчанию.
«Я слышал все это», – отвечал я ему.
«Итак, благоволите приказать убрать ваши вещи».
«У меня ничего здесь нет, милостивый государь, – отвечал я, – никаких вещей. Все, что вы ни видите, принадлежало моему благодетелю – теперь принадлежит все это его наследнику».
«Он позволяет вам взять с собою все, что было подарено или поступило во владение вам из движимости его покойного дядюшки. Вместе с тем прошу объявить: не имеете ли вы каких документов, по которым вам следовало бы получить какую-нибудь сумму или что-нибудь отдельно во владение?»
Я чувствовал, что лицо мое загорелось.
«Документов никаких я не принял бы, и благодетель мой не стал бы мне давать их, – отвечал я. – В течение многих лет, пока я жил в его доме, подарил он мне несколько книг, несколько эстампов – вот эти золотые часы. Я готов все это отдать…»
Я вынул часы из кармана и осмотрелся кругом по комнате, где лежали мои любимые книги и портфейли. Странное чувство! Как грустно стало мне, когда я подумал, что мне должно будет со всем этим расстаться, со всем этим, что столько лет составляло часть моего внешнего бытия! И это чувство могло вгнездиться в душу мою, когда я был убит горестью о потере моего благодетеля? Но это чувство есть в сердце человеческом: мать плачет сильнее, видя игрушку, которою играл сын ее; слезы каплют Чаще, когда мы смотрим на столик, за которым видали прежде милое нам существо, которого теперь уже нет…
Стыдитесь за меня!
«Надеюсь, что все эти безделки отдадут мне?» – сказал я. Да, я сказал это, когда за минуту столь горделиво готов был объявить миру: «Я ничего от тебя не требую!»
«Разумеется», – с улыбкою отвечал мне незнакомец.
Он ушел, а я ходил по комнате. И в это время место прежнего безмыслия вдруг заступил в голове моей хаос различных мыслей. Они летели, пролетали, сверкали, пересекали одна другую. Прошедшее, настоящее, будущее – все было возбуждено коротким разговором с незнакомым мне новым управителем дома. «И после тебя начались обыкновенные действия людские, как будто после самого ничтожного человека! Где же следы, где истинная память твоя? Для чего же ты жил? – думал я. – Для чего я живу? Что было твое бытие, твое истерзанное, обманутое жизнью бытие – и мое? – невольно прибавил я. – Завтра идти из этого дома… Куда? Зачем? Надобно жить! Для чего? Что мне в будущем?»
Это был пароксизм какого-то нравственного бесчувствия, жгущая лихорадка души. Думаю, что если бы в эти минуты кто-нибудь подал мне пистолет… хладнокровно спустил бы я курок, приставив дуло пистолета ко лбу, и не понимал бы в то же время, для чего я это делаю! Как хорошо знал подобное состояние души Байрон[73]!..
…Vacancy absorbing space;
And fixednes without a place…
…Silence, and a stirless breath.
Which neither was of life nor death;
A sea of stagnant idleness,
Blind, boundless, mute and motionless!..[74]
Но это не было еще последним расставанием с жизнью. Сколько времени этому прошло? Пять лет, да, пять лет – я многого еще не знал тогда! Жизнь так дешево не дает отпускных. У меня оторвалось тогда только полсердца; но человек может жить, пока остается у него хоть маленький кусочек сердца. Только тогда он умирает, когда этот последний кусок разорвется. А пока человек еще жив, ему надобно жить. Я пережил тяжкую минуту бесчувствия и после того не мог уже умереть. Жизнь опять подкралась ко мне. Душа моя пустила новые побеги; жизнь усеяла их новым пустоцветом…
Она сошла ко мне прежде всего благодетельным сном. Я забылся – уснул. А когда я проснулся, сквозь зеленые занавески окна пробивался луч едва только восходящего солнца, и этот луч осветил мне будущее какою-то отрадою, сказал мне, что между мертвым и живым нет более отношений. Живому жить, мертвому тлеть. Мне казалось, что совершившееся недавно уже перешло в область отдаленных воспоминаний, что благодетель мой умер уже давно. И что такое давно? Разве не мысль человеческая меряет его? Разве она не может раздвинуть минуту на целый век и целый век сжать в одной минуте?
Теперь сидел я в креслах своих, где провел несколько часов, забывшись сном, сидел мрачный, но – бодрый и здоровый. Вчерашние слезы мои высохли. «Пойдем отсюда! – думал я. – Пойдем, сыщем себе пристанище!» Тут, машинально, рука моя обратилась к моему бумажнику. Я вынял его, развернул: в нем лежала ассигнация 25 рублей; я вынял мой кошелек: в нем был рубль серебра и несколько серебряной мелочи. Все это оставалось у меня от денег, которые ежемесячно давал мне благодетель мой на мелкие расходы. Я разложил эти деньги перед собою. «Тут будет у тебя столько, чтобы не умереть с голода на первый раз… – думал я. – А там?., а там…»
Уныло склонилась голова моя. «Что же потом? Работать для насущного хлеба?» Я содрогнулся. Дверь тихо растворилась. Осторожно вошел ко мне Семен Иваныч. Его седые волосы, франклиновский[75] вид, его черное с плерезами[76] платье, красные от слез глаза (он не переставал плакать, уединяясь от всех) – в первый раз все это поразило меня. Со времени кончины моего благодетеля я почти не замечал моего доброго Семена Иваныча – неблагодарный! Что же теперь? Семен Иваныч, по обыкновению, нес ко мне маленький мой кофейник, чашку, молочник на маленьком серебряном подносе.
«Батюшка, Аркадий Иванович, – сказал он мне, – услышав, что вы изволили уже встать, я принес к вам ваш Кофе».
Поверите ли, что это меня растрогало, обрадовало? Еще раз прежнее, хоть во внешнем, как будто ничто не изменилось вокруг меня! Еще человек близкий ко мне.
«Но почему же узнал ты, Семен Иваныч, что я уже встал?»
«Я, признаться, батюшка, видя, что вы очень обеспокоены, спал у вас подле дверей. Вчера этот новый управитель так грубо поступил с вами – я боялся…»
«Садись, Семен Иваныч, – сказал я, почти до слез тронутый добротою старика, – полно говорить об этом. Мы должны расстаться, мой любезный Семен Иваныч!» – продолжал я, протягивая к нему руку.
Я хотел только пожать его руку; он бросился целовать мою. Поспешно отдернул я руку и вскочил с места.
«Нет, нет! это невозможно!» – вскричал я.
«Батюшка, Аркадий Иванович! – сказал мне старик, – простите моей дерзости! Вы мне не приказываете говорить об этом, изволите прощаться со мною».
«Что делать, мой любезный Семен Иваныч! Общее несчастие наше…»
«Оно, конечно, велико; я все еще не могу удержаться от слез, да и в целый век об этом не наплачешься, но отчаяние – грех пред богом, тяжкий грех! Вам особливо, когда вас бог одарил всеми благами, умом и красотой (старик и теперь уверен, что я величайший красавец), вам будет еще жить хорошо, а мне – остается жить немного, следовательно – тоже хорошо!»
Что мог я сказать на это? Открыть ему, этому простодушному старику, состояние души моей вполне? Или, для увертки, сказать, что у меня есть нечего, и оттого так грустно смотрю я на будущее? Напротив, его простые слова: «Отчаяние есть грех пред богом!..» Что мог я возразить на сии слова? Разве не отчаянием, не грехом должно было назвать безотчетное, тревожное состояние души моей, самое себя терзающей? Сказать же, что меня сокрушает неименье денег, голодная смерть в будущем, когда у меня были две здоровые руки – стыд!
«Батюшка, Аркадий Иваныч, – начал старик, помолчав немного, – не отриньте вы моей просьбы: я весь тут, у меня нет ни роду, ни племени. Барин давно уже дал нам всем отпускные, когда еще здравствовал: я свободный человек; да куда я пойду? Позвольте мне жить у вас; я еще могу служить вам не хуже молодого. Вспомните, что вы на руках моих выросли: вы не захотите и теперь расстаться со мною. Не правда ли?»
«Любезный Семен Иваныч! на что тебе подвергаться на старости лет труду и беспокойству!»
«Какое же беспокойство? Простите моей дерзости: ведь я всегда почитал вас своим сыном; думаю, что и теперь могу еще быть для вас полезным. Вы совсем не знаете хозяйства; я хотел заменить вас собою, чтобы вы могли между тем, по обычаю вашему, на свободе думать и писать, ваши прекрасные картины, как было при старом барине».
«Я сам еще не знаю, где я буду жить, – сказал я, – и чем жить!» – едва не вырвалось у меня.
«Не знаете? А я так почти знаю, – отвечал старик, усмехаясь. В изумлении взглянул я на него: он оробел, смешался. – Я думал, что вы позволите мне жить с вами и приготовил было для вас и для себя квартирку, по вашему вкусу, прекрасную, веселую… простите меня! – Старик сложил руки с умоляющим взором. – Я знал, что у вас теперь нет денег. У меня, во время моей службы у барина, скопилось до двух тысяч рублей. Они лежали в ломбарде. Вчера я взял их оттуда, нанял квартиру; вот остальные деньги на разживу нам… О! у вас под руками золото будет родиться, а теперь… Батюшка, Аркадий Иванович! не откажи: утешь меня, старика! Вспомни, что душа моя ужилась с тобою, что я столько лег ходил за тобою, как за родным…» – Он хотел стать на колени.
Я бросился к моему старому другу и обнял его, этого слугу, – он был выше в это время, гораздо выше многого, что называют люди высоким! Я обнял бы его перед целым миром и горделиво сказал бы: «Обнимаю человека». Отказаться от такого предложения я не мог, более – оно согрело душу мою, мир умел подкрасться ко мне в виде этого старика, под личиною добродетели.
С тех пор мы уже не разлучались. Немедленно пошел я с ним осматривать мою новую квартиру. В самом деле, Я увидел несколько веселеньких комнат. Семен Иваныч в тот же день перевез мои вещи, устроил маленькое хозяйство. Началась новая жизнь моя. Горесть моя успокоивалась мало-помалу и превращалась в грусть и унылую память о былом. Опять все возрождалось теперь в душе моей. Около года жил я в глубоком уединении. Чего не передумал, не перечувствовал я в это время! – Я узнал теперь прежде всего, как мало было надобно человеку для вещественной его жизни, о которой столь много заботятся люди. Семен Иваныч доставил мне некоторые работы, и этого достало мне прожить год. Двум-трем богатым купцам надобны были портреты их самих, жен их, детей; каким-то поэтам надобны были картинки к их поэмам. Механически сделал я все это и никуда, ни к кому не ходил. Все еще не было мною решено, что мне делать с самим собою? В этот год снова переучил я все, что знал, перемыслил, о чем думывал прежде. Множество эскизов, рисунков, этюдов сделано было мною. Темная мечта – ехать в Германию и Италию – становилась, однако ж, постоянною моею мыслию. Я хорошо знал наш художественный мир и не хотел вступать в него. Но все это – мысли, мечты, предположения, ученье мое, – все было так неполно, мертво! Художник без живых страстей и ощущений, художник-мизантроп, какое-то недовольное создание, критически изучающее свое искусство, художник, который насильно старается разочаровать мир и природу и носится в неопределенных безднах между небом и землею, – что это такое? Все что угодно, но не истинный художник. Фридрих пишет пустыни безлюдные, дикие, необитаемые – часто изображает он просто одно бесконечное море, но, посмотрите: тут есть, однако ж, клочок земного берега, тут нет людей, но есть земля их, и на ней видны остатки разбитой лодки, и чайка носится тут над каким-нибудь полуразрушенным крестом, а под этим крестом могила, и в ней.
Под мягким дерном гробовым,[77]
Спит сердце, некогда земным,
Смятенным пламенем согрето!
Правда, и у меня была в мире могила, единственное место, куда ходил я гулять, могила незабвенного; но она молчала, он молчал! А душа моя требовала живого ответа, звала к себе живую душу! Где же была эта живая душа, друг моей, моя? Я вопрошал и могилу друга моего, и мир: могила его не отзывалась мне, а мир шумел вокруг меня и не думал замечать моих скорбных воплей.
Однажды вечер был прелестный: один из тех вечеров петербургских, по которым лета петербургского не променяю я на лето одесское или таганрогское, теплое, но богатое жаром, пылью и мухами. Проведя целый день в уединенной работе, я отправился на кладбище; дорогою встречалось мне так мало народа; на кладбище совсем никого не было: помнится, тогда весь Петербург гулял на островах, где показывали ему разные диковинки – фейерверки и еще что-то такое; о кладбище ли думать в это время петербургскому жителю, который за фейерверком готов скакать двадцать верст и только одного не променяет на гулянье: свидания, назначенного знатным человеком, в его передней! Меня радовало, что решительно никто не встречался со мною на ниве божией: мне было так свободно на ней одному доспрашиваться ответов у самого себя, беседовать с могилою моего благодетеля. Шумный город остался за мною, в городском тумане. Уже долго сидел я и мечтал на гостеприимной могиле моей. Ее не тяготил еще тогда великолепный памятник, какой поставили на ней после. Меня не отчуждала еще от нее золотая надпись, где исчислены ордена и чины покойника, а не сказано, какое сердце скрывает эта драгоценная могила, какого человека прах тлеет в ней! Я забыл самого себя в усладительной тишине этой природы, в тихом спокойствии этой могилы. Природа, меня окружавшая, на этот раз – казалось мне – не была мертва: она дышала так понятно, весело, так тепло веяла она вокруг меня! Мне казалось, что я чувствую даже биение пульса ее, что он отзывается мне даже и в этой хладной могиле, что каждая травка, смятая моею ногою, говорит мне: «Не презирай, не уничтожай меня – ведь я жива!»
Тут легкий шелест шагов послышался вблизи. Оборачиваю голову: девушка в черном платье идет поспешно, не видя меня; лицо ее закрыто вуалем…
Знаете ли, что я никогда не любил и теперь не люблю женщин? Я не люблю женщин, эту касту, эту секту (как называет женщин наш милый поэт[78], воспевавший их, будто ангелов, ненавидевший, будто демонов). Женщина! Кто из них самих не рассердится за такое название? Сами они не любят его: им хочется в ангелы, в человеки, в матери. Тогда только жалобно говорят они: «я женщина», когда раздраженная ими страшная воля мужчины разрывает цепи, какими они оковывают ее, они, пигмеи, мирмидоны[79], нарумяненные Омфалы[80], заставляющие своих Геркулесов прясть нитки и целовать башмачки и трепещущие их львиной кожи[81]! О, тогда они говорят тихо, жалобно: «Я женщина!» Переведите на настоящий смысл эти два слова: вы узнаете в них печаль души человеческой, понимающей свое жалкое, бедное полубытие, принужденной слабостью своею защищаться от грома, от молнии, горящих, гремящих в полной душе мужчины. Во всю жизнь мою до того времени почитал я женщин загадкою, которая не стоит разгадки, шарадою, у которой два слова имеют смысл, являют два смысла, если их читать отдельно, и – никакого, если сложить их вместе. Это клавиши, на которых играют страсти мужчин. Самые неприятные воспоминания о женщинах остались у меня от моего детства; я совершенно разочаровался, видев потом женщин в большом свете. От аркадских идиллий меня брала зевота. Не хорош наш железный век, но, боже мой! что же был золотой! Только одна женщина существовала в мире, показала миру и унесла с собою из мира идеал, постигнутый потом в вещественных его формах Рафаэлем. Венера Медицейская мне всегда нравилась как кусок мрамора, обделанный для анатомического образчика женского тела; всегда смотрел я на эту статую, как философ смотрит на восковое изображение трупа, изучая в нем физического человека.
Но теперь, в это мгновение – место, уединение, тишина, черное платье, закрытое лицо – это не была женщина: это была какая-то идея, прилетевшая ко мне на призыв души моей. Незнакомка останавливается, не видит меня, закрытого кустами, которые насадил я вокруг могилы моего друга. Да она и не смотрит никуда – она стоит подле какой-то своей могилы; она становится подле нее на колена – она тихо плачет, приклоняет к этой могиле свою голову… С изумлением, не смея дышать, смотрел я на это создание, на его легкие, прелестные формы… Она что-то шепчет, говорит; напрягаю слух и слышу только одно слово: «Маменька!» Но как произнесено было это слово! – Милое, милое создание! пусть на одре смерти моей, в последний час моих смертных терзаний, скажут мне его, это слово, произнесут его мне этими звуками – они вдруг украсят всю прошедшую жизнь мою, они усладят мою смерть… «Мать моя!» – скажу я тогда в свой черед природе и засну, как засыпает дитя на лоне своей матери, и эти звуки будут мне предвестником того, что услышу я в небе!..
«Веринька! где ты?» – произнес мужской голос.
«Здесь!» – отвечала тихо незнакомка.
Сколько идей, мыслей, выражений соединилось для меня в одном этом слове? Здесь она – при гробе матери! Где же ей быть? Она неземная – мир в это время смеется, веселится, глядя на паяцев. Там собрались и женщины. Но что ей до них? Ее ищите здесь, здесь, где лежит все, что привязывало ее к миру – берегитесь, не испугайте ее: у нее есть крылья… И она Вера, она пришла сюда, когда и я пришел сюда! И рядом покоятся здесь два драгоценные ей и мне существа! Мы свои с нею; вот они, наши – эти две могилы, доказательство, что мы с нею родные. Откуда пришла она? Кто она? Зачем вдруг исчез весь мир, разделявший нас доселе? Зачем он вдруг столкнул нас, и говорит нам: «Плачьте вместе!» Неужели слезы наши, смешавшись вместе, будут небесною росою, от которой должен снова ожить и расцвесть увядший цветок нашей жизни? О! мы обманем мир – он свел нас на грусть и печаль, а мы найдем надежду и радость!
К незнакомке подошел немолодой мужчина. Он казался мне таким добрым. Пристально глядя на него, я ничего особенного не находил в его лице, но что-то необыкновенно доброе и простодушное оказывалось во всех его движениях. Это была поэзия своего рода – народная песня, пропетая добрым весельчаком.
«Я знал, что найду тебя здесь, – сказал он. – Дурочка! Всегда бежит сюда опрометью! Ну, что все плакать? – Он отвернулся и отер тихонько слезу, которая покатилась по его смуглой щеке. – Пойдем! Посмотри-ка, что за славная эпитафия!» – продолжал он и начал читать забавную надпись на ближней гробнице; но – он притворялся: голос его дрожал.
«Пойдем! – повторил он, но, опираясь на свою палку, не двигался и осматривался кругом. – Много, – сказал он, – много вас, дружки, собралось здесь! И много тут хорошего схоронено!» – Он задумался и произнес несколько стихов – вы знаете, чьи эти стихи?
Как быть! а всем одно! всех на пути[82]
Застигнет сон… Что ж нужды? Все мы будем
На милой родине! Кто на кладбище
Нашел постель – в час добрый! Ведь могила
Последний на земле ночлег; когда же
Проглянет день, и мы, проснувшись, выйдем
На новый свет, тогда пути и часу
Не будет нам с ночлега до отчизны…
Никогда эти добродушные, простые стихи не являли мне столько прелести, как теперь! Мне казалось, что я вижу самого сторожа ночного, самого Гебеля, который не сочиняет свои стихи, а так, остановясь на кладбище, думает их вслух.
«Вот и этот был куда славный человек! – продолжал незнакомец, указывая на могилу моего благодетеля. – И памятника никто не поставит, и поплакать никто не придет…» – продолжал он задумчиво.
«Папенька! я всегда молюсь за него, когда бываю у маменьки! – сказала незнакомка, подходя к отцу. – Я знаю, что он был ваш благодетель».
Тень твоя радовалась тогда, второй отец мой! Здесь вдруг билось три сердца, которые не забыли тебя! И он был благодетель отца ее, благодетель ее! Она молится за него! Великий боже! Если ты, тень священная! привела меня сюда, благотворя мне еще и по смерти, привела для того только, чтобы я узнал ее…
Я тихо поднялся с могилы. Нечаянное появление мое, казалось, изумило незнакомца. Дочь его робко прижалась к его руке. Он смотрел на меня пристально, но спокойно.
«Если не ошибаюсь, – сказал он, – вы Аркадий Иванович, живший у покойного генерала, вот у этого доброго, почтенного человека?» – Он указал на могилу. Лицо незнакомца выражало особенное любопытство.
«Вы не ошиблись. Извините, что я испугал вас, помешал вам, может быть; но вы говорили о человеке для меня драгоценном».
«Ему был я в свое время обязан многим».
«Я никогда не видал вас у него?»
«А я вас знаю… Мы видались».
«Не помню, извините…»
«В училище живописи, у г-на N. N.»
Тут вспомнил я, что, точно, мы видались; но я пропускал это лицо без замечания. И что мне было заметить в нем? Оно всегда сидело за вистом, когда случайно я прихаживал вечерами, раза два-три, к N. N., одному из главных учителей в училище живописи.
Мы пожали друг другу руки, как старые знакомые. Старик был отменно словоохотлив; он начал со мною разговор. Дочь его молчала. Он успел рассказать мне, что некогда был определен в училище живописи пособием моего благодетеля. Но потом оставил он свое занятие и потому, когда возвратился благодетель его в Петербург, он уже не являлся к нему. Теперь он был чиновником, рисовальщиком, переводчиком при одном из министерств.
«Но я все-таки, сударь, немножко охотник, аматёр в живописи. Все училище до сих пор мне знакомо. Главные учители мои старые однокорытники». – Старик засмеялся. Его откровенность, добродушие, воспоминание о благодетеле моем, может быть, всегда сблизили бы нас. Теперь мог ли он мне не понравиться? Он был отец ее – а мне казалось, что душа ее уже давно мне знакома, и все родное ей было родным и мне. Мне все нравилось теперь в старике; нравился даже этот грубый лоск образованности, какой воспитание художника, самого дрянного, придает ему. Так грамотный образованнее неграмотного, хотя бы только по складам читал он. Понравилось мне и то, что незнакомец не мучил меня вопросами: что я такое? где я? Впрочем, повторяю: что не понравилось бы мне, близкое к ней? Странное свойство человека: глупость отвратительна, невежество глупо; но если на них брошено покрывало отношений – глупость кажется добродушием, невежество – первобытною, доброю простотою человека. Человек неумолим, и он же так способен извинять, так снисходителен; и эти две противоположности могут быть в одну минуту, от одного слова, и никакой ум не защитит в этом случае от заблуждения! Нечувствительно пошли мы все вместе, перешли кладбище, вошли в город; разговор наш не прерывался. Незнакомец был шутлив, ласков и словоохотен – я влекся за ним… Чего желал я? Зачем шел? Не знаю, не знаю! Она шла с нами вместе; но что же была мне она? Я еще не видал даже ее лица, не говорил еще с нею ни одного слова, но я и не хотел видеть лица ее. Она могла быть безобразна, урод! Какое мне дело? Я уже знал ее: душа ее сказалась мне на могиле матери ее, на могиле моего благодетеля.
Вдруг остановились мы подле хорошенького, опрятного домика. Я изумился, огляделся кругом.
«Зайдите, сударь, ко мне, Аркадий Иванович, – сказал старик, пожимая мне руку. – Мне очень приятно познакомиться с вами покороче».
Вообще я небрег тогда о моем наряде. Еще менее думал я о нем, идя на кладбище. Я бормотал извинения.
«Ничего, сударь, ничего», – сказал старик, удерживая меня за руку. Мне хотелось бы спросить у нее. Она как будто поняла меня.
«Папенька, – сказала она, – кажется, пора пить чай!» – и проворно пошла вперед. Я пошел за отцом ее.
Редко можно встретить жилище, небольшое, но столь хорошо, мило, удобно расположенное. Коврики, диваны, столики, светлые стекла в дубовых окончиках, цветы на окнах – и эта женская заботливость, видимая повсюду, в шитье по канве синелью[83], бисером, гарусом, в разных мелочах, доказывающих искусство, вкус, занятие хозяйки. И притом чистота, опрятность, несколько литографий за стеклами, прекрасное фортепиано. Мы сели в диванной, подле небольшой гостиной. Веринька явилась тотчас; она скинула свою шляпу; я увидел ее вполне.







