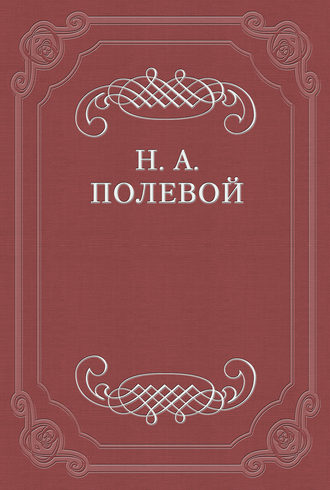
Николай Полевой
Живописец
«И ты согласился?» – спросила мать моя.
«А для чего же и не так? С богом!»
«Чем я прогневал вас, папенька? За что хотите вы прогнать меня от себя?» – вскричал я, падая на колени. Слезы лились у меня ручьем.
«Ах ты, дуралей! – сказал отец мой, усмехаясь. – Поди вон и не говори ни слова».
Я ушел в другую комнату, плакал потихоньку, а между тем слушал, как рассуждали отец и мать мои. Они не понимали, что это значит: почему его превосходительство узнал Аркадия; почему он требует именно его. Мать моя думала, что это милость божия, хоть я и не в сорочке родился. Между тем я не понимал ничего в таком нежданном перевороте дел. Я видал до тех пор губернатора только раза два, в блестящем мундире, окруженного большою свитою, знал, что его в городе все боятся, слыхал, что он все может сделать. Жар и озноб чувствовал я весь этот день.
Мне было тогда лет двенадцать. Если может быть поэтическим названо воспитание самое беспорядочное, то мое воспитание, как вы видели, было поэтическое. Я жил в каком-то странном патриархальном мире, читал много, знал много и ничего не знал порядком. В училище, куда не переставал я ходить по уговору с матерью, меня почитали самым негодным учеником, ленивым, упрямым; даже не заботились, когда не знал я уроков или вовсе не приходил. Мать извиняла меня слабым здоровьем, хотя я был здоров, силен и крепок. Старик иконописец был от меня в восторге, мои успехи у него казались необыкновенными. Он не мог нахвалиться и тихостью, кротостью моего нрава. Таково было тогда во мне соединение противоположностей, и благословенный мир никогда и потом не сходил на меня, на мою душу, мое сердце, мое воображение: они вечно ссорились и ссорятся между собою…
В совершенном отчаянии, как будто на казнь, одевался я на другой день после обеда, когда отцу моему велено было приехать и привезти меня к его превосходительству. Я не знал: как мне войти в великолепный губернаторский дом, мимо которого с любопытством хаживал я иногда мимо; где мне стать, как говорить и что говорить! Его превосходительство и – я! Нас разделяла бездна неизмеримая!
Но беспокойство мое немного уменьшилось, когда я узнал, что мы поедем не в дом губернатора, а на дачу его, верстах в трех от города. Однажды целым семейством гуляли мы там по саду, когда губернатор был в городе. Дом у него на даче был построен небольшой, но прекрасный. Мне страх как хотелось, помню я, войти в него, но отец запретил мне и думать об этом. Его превосходительство казался мне теперь не так страшен, когда не соединялась с ним мысль о великолепных его чертогах. В его хорошеньком загородном доме я как-то легче мог снести величие его превосходительства. Дорогою очаровательные окрестности, прелестное местоположение на берегу реки, рощицы, поля рассеяли мою грусть. Я опять оробел, когда, остановив старые дрожки свои у ворот, отец мой у крыльца еще снял свою шляпу и в сенях долго оправлялся, учил меня кланяться, потом на цыпочках пошел по зале, где большие зеркала, люстры, паркетный пол меня совершенно изумили. Я дрожал, подходя к кабинету: нас было велено провести прямо в кабинет. Но едва растворилась дверь, страх мой прошел. За большим бюро сидел тут – мой знакомый незнакомец, которого я видел у моего старика иконописца!
В пояс, множество раз, кланялся ему отец мой. Я стоял выпучив глаза, когда незнакомец мой подошел дружески к отцу моему и пожал ему руку.
«Познакомимся, любезный мой Аркадий!» – сказал потом мне незнакомец с улыбкою.
«Да где же губернатор, его превосходительство?» – отвечал я, не кланяясь ему.
Отец мой покраснел от стыда. Незнакомец опять улыбнулся.
«Неужели вы – губернатор, вы – его превосходительство?» – спросил я добродушно.
«Кажется, – отвечал он. – Прошу, мой друг, полюбить меня».
Я совершенно смешался.
«Ах! вас я уже полюбил! – вскричал я. – Вы такой добрый, такой ласковый. Не знаю, за что вас боятся люди!»
Незнакомец не мог утаить вздоха и грустно посмотрел на меня. Я едва не заплакал, я как будто понял его, мне стало его жаль, сам не знаю отчего. Тут хотел я, по научению отцовскому, поцеловать руку губернатора; он не допустил до этого, обнял меня и поцеловал в голову.
После того усадили порядком моего отца и меня. С изумлением глядел я на блестящие шкафы с книгами, на статуи между шкафами, дорогое бюро, часы. Сердце мое трепетало. Я пристально смотрел и на самого хозяина нашего, и лицо его казалось мне добрым, увлекало меня. Принесли чай. Я не смел взяться за дорогую фарфоровую чашку. Отец мой не знал, куда девать ему свою шляпу, и решился пить чай, держа шляпу под мышкою, как это ни было ему неловко. Тут явились племянник губернатора, мальчик моих лет, седой старик, гувернер его, и еще старик – вы его знаете: это мой добрый Семен Иваныч.
«У тебя будет товарищ, Саша, – сказал губернатор племяннику, – подружись с ним!»
Мальчик горделиво вздернул голову, потом ловко расшаркался и начал говорить мне по-французски: я был уничтожен! Он так был щегольски одет, так ловок, так свободно ходил и прыгал по кабинету губернаторскому. Я дичился, чувствовал свое невежество, свою ничтожность.
Но в это время нечаянно растворили дверь в другую комнату, род небольшого будуара… картузик мой выпал у меня из рук, и я невольно вскрикнул:
«Ах! что это у вас там?»
Там увидел я несколько картин.
«Разве вы не знаете и никогда не видывали картин?» – спросил у меня племянник.
«Не знаю, не видывал!» – отвечал я, сложив руки на груди.
«Пойдем же смотреть!» – сказал племянник, прыгая. Он потащил меня за руку. Там, над диванами будуара, висело несколько картин в раззолоченных, богатых рамах.
«Вот, смотрите, – говорил мне племянник, указывая на картины, – вот Корреджиева „Ночь“, вот „Иоанн Богослов“ Доменикина[47], вот „Оссиан“ Жироде[48], вот Фридрихов[49] „Пустынный приморский берег“…»
Я стоял вне себя.
Так вот оно то, о чем мечтал я в саду, когда молился там, узнав обещание моей матери! Вот те образа, о которых говорил мне старик учитель, называя слухи о них несбыточными!
«Дяденька! Он их вовсе не знает!» – сказал губернатору племянник.
«Он знает их лучше тебя!» – отвечал губернатор, стоя подле меня, поджав руки и с каким-то горестным наслаждением смотря, как я позабыл всех и самого себя, стоял, глядел на божественные изображения! Это были копии с картин Доменикина, Корреджио, Жироде, Фридриха.
«Сядь здесь, любезный Аркадий, – сказал губернатор, усаживая меня на диван, – и скажи: нравятся ли тебе эти картины?»
«Разве это картины? – отвечал я. – Нет! Не обманывайте меня: ветер точно веет в волосах этого старика – этот месяц светит – а это тот самый святой апостол, которого Иисус Христос любил больше всех своих учеников – а это, видимо, господь новорожденный – от него сияние нестерпимо – посмотрите, как этот человек закрывает глаза: ведь он живой!» – Забывшись, я преклонил колена и молился.
«Довольно, – сказал губернатор поспешно, – довольно! Пойдемте, дети!»
Я позволил увести себя из комнаты, но ничего не мог говорить. Едва заметил я, как распрощался мой отец и куда ушел губернатор.
Едва мы отъехали немного от дачи, как отец начал меня бранить.
«Ты был дурак, мужицкий мальчик, шалун! – говорил он мне. – Сам ты не хотел прежде идти к его превосходительству, а теперь я уже тебя и не пущу, да и его превосходительство тебя прогонит!»
«Ах, папенька! Ради бога, отпустите меня к губернатору, ради бога, отпустите!»
«Да как отпустить тебя, этакого невежду?»
«Что же я такое сделал?»
«Ты вел себя, как деревенский мальчишка».
«На меня не разгневался, однако ж, его превосходительство?»
«Хуже! Все над тобой смеялись, как ты не умел кланяться и кричал, смотря на картины! Экая невидаль дураку! Потерял свое счастье, да и только!»
«Папенька! Я буду просить его превосходительство ради бога взять меня… хоть в слуги, только бы мне у него жить».
«В слуги! Где ты набрался таких неблагородных чувств и привычек, негодный мальчишка! В слуги! Лакейский дух какой! Нет, я тебя проучу!» – вскричал мой отец сердито.
Горько плакал я, когда мы приехали домой, и отец мой с сердцем начал рассказывать матери, что я посрамил его у губернатора. О боже! Моего возвращения ждали, как торжества: братья, сестры, слуги сбежались встречать меня. Теперь я был прогнан в дальную горницу и плакал; все меня дичились, все надо мною издевались! Горе мое было тяжкое. И, право, я не жалел о том, что не буду жить в великолепном доме губернаторском, но мысль моя привязывалась только к будуару его, к этим чудным картинам. Ах! Как великолепно они носились теперь передо мною, как много высказывали они мне такого, о чем не мечтал я даже и во сне! Мне и в голову тогда не приходило творить самому что-нибудь подобное; я хотел только глядеть на них, видеть их, забывать, смотря на них, все: я не верил, что их создала рука человеческая, земными красками! Земле ли может принадлежать такой младенец? Для земли ли такое лицо, как у этого апостола? А этот старик!..
Я не переставал плакать. Отец прогнал меня от ужина, бранил мать мою.
«Вот до чего довело его твое баловство!» – говорил он. Впрочем, робея перед губернатором, он не заметил, что мы уже знакомы друг с другом. Но он сердился, бранился. Уныние распространилось во всем нашем доме.
Губернатор, его превосходительство, однако ж, не прогнал меня, не разгневался на меня, вспомнил обо мне вопреки словам отца. Рано утром, на другой день, явился кабриолет губернаторский за мною. Добрый Семен Иваныч приехал к моему отцу и сказал, что губернатор переселяет меня к себе на дачу, где я буду жить с его племянником, и что ему, Семену Иванычу, поручено быть моим дядькою. Изумление неописанное овладело всеми. Отец мой не верил глазам и ушам своим, качал головою. Я бросился на шею к Семену Иванычу, обнял мать мою и с восторгом уехал. Губернатора не было на даче. Меня провели в учебную комнату.
Простите, что я рассказывал вам мелкие подробности этого важнейшего события моей жизни. Повторяю: мне хочется показать вам, как странно увлекала меня судьба, как беспрерывно уводила она меня в какой-то волшебный мир воображения и ссорила с действительным миром, где ей надобно было как можно крепче приковать меня. Она забыла, видно, что мне надобно было ходить по земле и дышать земным воздухом! А я так безотчетно предавался увлекающему потоку жизни и всегда был еще впереди своего настоящего состояния! Я еще не знал тогда собственного моего бессилия – теперь иное…
С переселением в дом моего благодетеля началась совершенно новая для меня жизнь. Рассказывать вам внешние подробности ее нет надобности. Вы знаете, что я жил у благодетеля моего до самой его смерти, более десяти лет. Через год меня не узнавали те, кто знал прежде. Лучше расскажу вам изменения моего душевного мира. Я был тот же, прежний, но сколько перемен во всем, во всем… Изменения морального бытия моего были безмерны, как безмерен был шаг, который вдруг сделал я. Меня, странного, мещански воспитанного мальчика, с моею так легко вспыхивающею головою, вдруг судьба сделала другом, сыном человека богатого, редкой образованности, высокой нравственности, совершенно не похожего на других ни жизнью, ни образованием! Я перестал знать различие между богатством и бедностью. Удобства жизни и роскошь, какими окружил меня мой благодетель, я принимал как дело обыкновенное и не думал благодарить его, ибо он без всякой оценки давал мне их, а я принимал, не зная, что люди ценят их весьма дорого. Так в течение нескольких лет я совершенно отвык от положительной жизни.
Еще более отделился я от мира состоянием души моей. Мой благодетель в юности своей сделался самовластным обладателем огромного имения; все льстило ему в будущем, люди казались рабами, готовыми служить для угождения ему, для его прихотей! Не зная тягостей службы, он был уже в чинах; не заслужив любви и дружбы, он был уверяем от людей в дружбе и любви и доверился им, был жестоко обманут, разочарован, не возненавидел людей, но был оскорблен ими и начал их презирать. Жизнь, казалось, улыбнулась ему наконец. Он узнал одно милое, очаровательное создание и предался всем обольщениям пламенной любви. Но она умерла, эта очаровательная девушка, а он ее пережил! Несколько лет после того он скитался за границею; наконец приехал опять в Россию, не хотел блестящих должностей и решился взять смиренное место губернатора в губернии бедной и отдаленной. Здесь, в совершенном уединении, жил он, благотворя подвластным, одинокий, только с самим собою мечтая о надеждах, так жестоко обманувших его. Весь жар души его, долженствовавший разлиться по его жизни, осчастливить его жизнь, горел теперь в грустной любви к ближнему, не освещенной ласковою доверенностью к людям. Он казался угрюм, суров – грозный всякому мерзавцу, унижавший других своим достоинством, не находивший людей, по сердцу, по образованию сходных с ним. Единственный наследник его, племянник, причинял ему только досаду. Это был ветреный, гордый, ничтожный мальчишка. Страсть к изящным искусствам оставалась одною утешительною, постоянною страстью моего благодетеля. Увидев меня у иконописца, к которому зашел он, желая узнать подробности его малоизвестного искусства, добродетельный, одинокий, уединенный в самого себя, этот грустный мечтатель, этот пламенный мизантроп думал, что видит во мне поэтическое создание, предназначенное быть великим художником. Такое чувство привлекло его ко мне. Не только хотел он облагодетельствовать меня – нет! он хотел еще наблюсти во мне психологическое развитие души поэта. Системы едва ли не всегда неисполнимы и губительны, если их начертывает предубежденное в чем-нибудь воображение наше. Вследствие плана своего мой благодетель начал мое образование, чисто поэтическое, по жанлолевской «Леване»[50]. Я с жадностью учился, к чему влекли меня мои непреоборимые наклонности, но вовсе не учился ничему другому; убегал вперед в одном и решительно отставал в другом. Старый гувернер, добрый француз, воспитанник баттёвской[51] школы, друг Катрмера де Кенси[52], часто спорил с моим благодетелем, уверяя, что он испортит меня своим неклассическим воспитанием. Но благодетель мой ничего не слушал, вскоре увлекшись ко мне привязанностию, наконец дружбою. Я сердцем понял его, несмотря на мою неопытность; он невольно открыл мне всю свою душу, передал мне свои чувства, понятия. Он не понимал опасности, какой через то подвергает меня. Он, тяжко испытанный, оскорбленный жизнью, разочаровывал меня в действительной жизни и уносил в идеальное бытие. Младенчеству надобны игрушки, юношеству также надобны игрушки. А он обратил мне в игрушку людей и действительную жизнь их, указывая на идеалы, как на истинную цель жизни, воскрешая свои разрушенные мечты в моей будущности и забывая свои погибшие надежды в моих!.. Но идеалам нет места на земле: человек обязан жить с постылою действительностью и только золотить ее, страшась будущего, как злого врага. Каждый из нас разочаровывается в жизни. Как легко это в свое время, в своем месте! Но не говорите юноше, что под розовыми щеками девушки скрыты костяные челюсти, что эта зелень лесов, и голубой цвет неба, и краски лугов и полей – простой оптический обман лучей солнечных! Не говорите ему, что и под маскою дружбы и любви кроется червь своекорыстия в сердце человеческом! Не говорите, что и жизнь наша есть также страшный скелет, что на земле природа должна иссушать зелень полей и замораживать ручейки и реки, потому что без этого не будет у нее весны. Не говорите ему: вы его убьете!
А он говорил мне все это! Прощаю: ему было от этого легче самому, но я погиб! По слуху, я уже презирал и не любил людей, обожая в них человечество; по слуху, уже боялся я людских страстей и знал ничтожество многого, перед чем благоговеет грубое невежество простолюдина. И самая фанатическая добродетель его губила меня: она была не по плечу людям. Что же это такое? Урод нравственный!.. Все это отразилось на моем ученье, моей жизни, моей судьбе. Я более читал, нежели учился; голова моя наполнилась идеями, на которые недоставало у меня ни форм, ни образов, ни выражений, потому что я не знал ни жизни, ни света, ни людей. Так, я обожал моего благодетеля, но кроме его не хотел никого даже любить. Самые отношения мои к родным сделались странны: я видел грубое полупросвещение моего отца, его странные формы, простодушное невежество моей матери, мелкий эгоизм моих братьев. Тяжко сердцу, если оно не может уважать тех, кого любит! Я принужден был обходиться с моими родными, как с грубыми, необразованными детьми; братья мои просто возненавидели меня. Отец и мать терзали меня притом своими ничтожными требованиями: почему я не в службе – и опасениями: что ожидает меня впереди! Они не понимали, что такое значит и к чему поведет меня моя жизнь? Я наконец убегал от них. Но все, что было вокруг моего благодетеля, также не терпело меня. Напрасно уступал я его племяннику, сносил оскорбления от этого шалуна, от его приверженцев, которые видели в нем будущего своего повелителя. Ничто не помогало. Я не смел тревожить моего благодетеля, открывая ему свое мучительное положение, но терзался и был несчастлив, когда столько людей мне завидовало…
За все это мог бы вознаградить меня тот мир, в который свободно переносился я, – мир фантазии, мир художника. Я тщательно изучал под руководством моего просвещенного благодетеля все переходы этого мира в истории человечества. Тщательно учился я живописи. Без всякой корыстной цели, без предположенной системы рисовать сперва головки и ножки, заметить потом, в чем я более успеваю, перейти после сего к исторической, шевалетной[53], миниатюрной, пейзажной и бог знает какой еще живописи, избрать себе после того образцом какого-нибудь великого или не великого живописца, скопировывать его – изучал я живопись. И не живопись изучал я, но искусство как искру божественную, запавшую в душу человека, как вечную идею, развивавшуюся всюду в мире, на Востоке, в Греции, в Средних веках. Я замечал все эти развития искусства, изучал мир, современный каждому его периоду, каждому его месту на земле, и хотел наконец угадать: что должен делать художник теперь, в наше время? Уверенный в том, что творение дважды не повторяется, что возрасты человечества также не повторяются однообразно, но совершаются отдельно и самобытно, как развитие бесконечного, окончания чего не можем мы угадать, а начала не знаем, я хотел знать требование моего века. Но, к несчастию, великое и прекрасное не суть следствие изысканий и соображений. Это вдохновение безотчетное, пророческое какое-то чувство, которое творит и создает невольно. Рафаэль долго думал, как изобразить ему Пресвятую[54], и терялся в размышлениях, мучился, терзался; силы его ослабели – он уснул. Тогда явилась ему Пресвятая Дева в том небесном виде, в каком он изобразил ее на изумление векам. Рафаэль вскочил с своего ложа. «Она здесь!» – вскричал он, указывая на полотно. И в забвении самого себя схватил он кисть и краски, забыл все, переносил свое видение на холстину, облекал мечту свою в очерки, в краски… Он творил, а не думал уже о том, как творить. Я верю этому происшествию, верю и тому, что великое «Преображение» его было тайною, мучительною мыслию всей его жизни; в этом я также уверен. И тогда только, когда душа его затосковала о близкой разлуке с миром, Рафаэль умолил божественное вдохновение сойти в младенческую душу его. Оно низошло к нему, как древний Зевес к Семеле[55], в громах и молниях, и сожгло его: вспомните, что «Преображение» недоконченное было поставлено при гробе Рафаэля – он не досоздал его и лежал перед ним мертвый – великое свидетельство, что может человек; печальное доказательство, чего не может он перенести!
С другой стороны, грустная механика искусств есть свидетельство, что с началом жизни зреет в человеке и начало смерти, что бытие его есть борьба живительного начала и начала разрушительного. Вы не поверите, если вы сами не изучали искусства какого бы то ни было, что за бездна тяжкой, ничтожной, механической работы предстоит художнику, пока звуки его инструмента будут составлять пленительную гармонию, пока резец его станет вырубать из камня идеалы красоты, пока краски его заблистают жизнию в картинах. Природа лишена ума, но ей отдано владычество над вещественностью; человеку дано царство ума, но вещественность – враг его. Прислушайтесь, как ветер безумно вьется около струн Эоловой арфы и безотчетно извлекает из них звуки – как это легко ему! И как же трудно человеку обезуметь в изящном, чтобы так же безотчетно играть на великих струнах вещественности! Эта механика искусства долго не покорялась мне, потому что я самовластно требовал ее покорности, а не рабски торговался с нею на маленькие уступки. Я хотел вырубить Кельнский собор одним ударом, из одного камня, забыв, что такого камня нет в природе и что этот собор строили тысячи людей триста лет…
Все мучения, все несогласия моего внешнего и внутреннего мира увеличились, когда я переехал в Петербург с моим благодетелем.
Что такое называете вы обществом людей? Не знаю; но, по-моему, это собрание народа, соединенного для вещественных польз – только для вещественных. В этом обществе есть место купцу, чиновнику, даже будочнику, а нет его ученому, если он не учитель, художнику, если он не ремесленник, поэту, если он не poeta laureatus[56]. В провинции эта цель жизни общества так грубо, так нагло открыта, что чувство собственного достоинства спасает вас. Не так в столице. Там, возведенная на высокую степень внешней образованности, грубая цель жизни до того закрашена, до того залакирована, что надобно высокую философию, чтобы не увлечься в вихрь ничтожных отношений общества или не упасть духом, видя себя без места в этом мире, сгроможденном из вещественных отношений всякого рода. Все страсти там разочтены; все требования души и сердца дают подписку действовать в силу общих условий и забывать собственную свою волю. О! как возненавидел я тогда этот большой свет, увидев его, узнав его, возненавидел еще более, нежели ненавидел прежде грубую жизнь провинцияльную! Там я мог презирать; здесь образованность, богатство, знатность не дозволяли мне отрадного чувства презрения. Здесь невольно рождалось во мне страшное, тяжкое сомнение: не ошибся ли я? Не эта ли жизнь есть, в самом деле, истинное назначение человека? Если же она и не назначение его, но люди условились в этом – условились все, дураки и умные, богатые и бедные, – что могу сделать один я в толпе их?
Благодетель мой по месту, какое занял он в Петербурге, был в самом блестящем кругу. Все было рассчитано и условлено между им и обществом. В этом расчете и племянник его, с своим новым, блестящим мундиром, с своим светским образованием, с своими требованиями на успехи в свете, получил свое значение; и камердинер горделиво стал у дверей, для того чтобы докладывать своему барину о приходящих; и швейцар спокойно остановился подле своей конурки, как будто говоря: «Прошу не трогать меня, я на своем месте!» Где же мог поместиться я? Люди хотели знать: что я такое подле моего благодетеля? Племянник его мог отвечать: «Я глупец и шалун, но я его племянник и наследник!» Люди вежливо кланялись ему. Если бы я сказал им: «Я художник; я потому в вашем обществе, что благодетель мой знает мою душу!», люди изумились бы. Душу? А ее-то тщательно прятали они друг от друга! Художник! Но что такое были для них искусства и художества? Забава от нечего делать, средство рассеяния, что-то вроде косморамы[57], на которую смотрят они сквозь шлифованное стекло, требуя от нее условной перспективы.
В Петербурге я осиротел и во внешней жизни. Занятия по службе и большой свет теперь более прежнего отвлекали от меня моего благодетеля. Нам редко удавалось жить вместе. Утро, обед, вечер всего чаще бывали у нас отняты. Я играл жалкую роль, являясь утром, когда толпились у него деловые люди; в обед, когда собирались к нему люди равные ему; вечером, когда съезжались к нему убивать время за картами и сплетнями. Это общество было нестерпимо холодно, как крещенский мороз. Но оно же показывало мне и безмерную неравность в отношениях между мною и благодетелем моим; оно и разделяло нас бездною неизмеримою, бездною состояния, занятия, отношений, приличий. Тогда только, с ужасом, узнал, заметил, увидел я все это! Я видел, правда, и то, что благодетель мой сам терзался от своего нового рода жизни. Как часто, оставаясь со мной, он по-прежнему спешил делиться душою и сердцем, отдыхал в разговоре со мною, в чтении, в суждении о моих занятиях, о моих мечтах. Но он приметно бременился своею жизнию, тяжелою, заботливою, блестящею и пустою, как японская ваза, расписанная яркими цветами: она светилась насквозь, ив ней ничего не было, кроме пустоты…
Если я сказал вам, что меня убивал взгляд людей на искусство, скажу, что еще более убивал меня взгляд на искусство современное. Видя, что ему нет места как положительному занятию в жизни общественной – бедное! как оно гнулось, изгибалось, какой позор терпело оно, чтобы только позволили ему хоть как-нибудь существовать! Начиная с самого учения, оно делалось чем-то похожим на горшки с цветами, которые ставят на окошках для того, что надобно ставить их и что можно притом похвастать хорошим фарфором, редкими, хотя и уродливыми, заморскими растениями и красивыми, дорогими цветочницами. Оно походило на колонны, которые ничего не поддерживают, но стоят близ опрятных лачужек петербургских и подле огромных домов – алебастровые карикатуры мраморных колонн греческого Парфенона и римских вилл, поставленные для того, что в Афинах и в Риме их ставили! Начинают теперь гнать схоластические и классические формы из нашей литературы, но в художествах они царствуют у нас беспрекословно, самовластно. И при них ли что-нибудь может родиться? При них ли развиться самобытности века и народа, когда при том смотрят на художества, как на прихоть роскоши; когда художники делают из своего занятия или profession и должность, или ремесло.
Наши аматёры[58] были для меня еще несноснее! Глупец решительный, совершенный глупец, для меня сноснее, нежели глупец, который хочет умничать. Они, эти восковые души, эти конфетные сердца хотят быть литераторами, поэтами, художниками? Я много читал сатирических описаний, как светские люди дают концерты, разыгрывают театральные пьесы, занимаются живописью, музыкою, – но все еще, кажется мне, этот предмет далеко не истощен – и неистощим. Пусть бы они переводили гравюрки на свои модные столики, разрисовывали цветами бархат для своих ридикюлей, играли в своих аматёрских концертах пьесы, которые, как попугаи, твердили они тысячу раз и вытвердили наконец… Нет! они хотят еще вдохновений, настоящих занятий литературою, и живописью, и музыкою! Им мало альбомных стишков, мало карандашных копий с эстампов, в которых мечтают они видеть творения Рафаэля, Доменикино, Мурилло[59]; мало котильонов и вальсов, переделанных из чудных тем Россини и Вебера! Они судят, они сами творят безобразные свои недоноски, своих кукол, одетых в лоскутья пошлого подражания! Они собирают себе галереи, где им все равно – изысканный Тициан, фламандская мясная лавка, приторная Ангелика Кауфман[60], и великий Мурилло, и страшный Доменикино – рядом с ними! Они говорят: «Я купил прелестного Гвидо Рении[61] – я променял своего Караваджио[62] – я получу завтра прекрасного Тинторетта[63]…» От всех этих людей… я бегал без оглядки. Но я попадался к художникам ex professo, по должности, по назначению, потому, что их учили живописи и благословили быть живописцами, укрепив это дипломом. И как же иначе? Они высидели в школе положенные годы, прошли натурный класс, они умеют рисовать с бюстов и статуй, они дерзают списывать произведения божественных гениев – они, они списывают Корреджио и Рафаэля, Мурилло и Доменикино! Послушайте: это было мне нестерпимо больно. Да! волосы становились у меня дыбом, когда я видел все это, слышал обо всем этом! Дрожь пронимала меня, когда я видел ученье по ланкастерской методе[64] особого рода, ученье, где начинали копированьем ушей и глаз, отрезанных от картин Рафаэля, и выходили слепые; но хотели судить! Да, судить, по известной мерке, по тому, что слышали они в классах, и писать на заданную тему, как пишут акростихи, дистихи, мельестихи, шарады[65]. И об этом живописном буриме[66] с важностию толковали потом; сличали, как изобразил тот или другой предмет тот или другой известный живописец и что у кого умел занять себе новый художник: от Снейдерсовой[67] ли собаки заимствовался он хвостом, от Поль-Поттеровой[68] ли коровы взял он главное украшение картины! И дело решал знатный барин какой-нибудь, великолепный любитель, бросая сколько-нибудь денег отличенному мазилке! «Если бы у нас были меценаты, ему подобные; если бы у нас было всегда такое ободрение; если бы у наших живописцев были всегда такие выгодные работы!» – восклицало собрание других мазилок.
Да неужели Рафаэль создавал потому, что папа задавал ему работу для ватиканской галереи и для фламандских ковров? Неужели Корреджио лучше создал бы свой исполинский мир в Пармском соборе, если бы ему заплатили за него сотни тысяч? И разве вам самим не задавали создания великолепных храмов, вековечных памятников, святых иконостасов? Что же вы сделали? И неужели, в самом деле, вы уже такие нищие, которым есть нечего? Дайте им поскорее жалованье, ради бога, обещайте пенсию, когда они состареются! Но за то велите им мести мостовую или вязать кружево – только запретите им приниматься за кисть. Они убьют искусство. Оно и то еле дышит!
Вы видите, что я должен был со всеми перессориться, потому что я не скрывал своих мнений, истинные или ложные они – не знаю. С досадою спрашивали у меня после того собственных моих созданий, а я с горестию видел, что ничего не могу представить, что, утопавший в море идей и идеалов, я работал неутомимо, жег себя в работе; но уже самое то губило меня, что я поставил цель свою недостижимо высоко и стыдился всего, что было ниже моей цели.
Наконец, я не мог более выносить ни других, ни самого себя. Я хотел просить благодетеля моего: позволить мне уйти пешком за границу, в отечество Дюреров или Рафаэлей; просить его, чтобы он забыл обо мне, как желал я, чтобы весь свет обо мне забыл! Я хотел сказать ему, что если я буду достоин его надежд на меня, его родительской ко мне нежности, то имя мое скажет ему моя слава! Если же нет, если мне суждено упасть, погибнуть под бременем самого себя и несбыточных моих мечтаний, то да позволит он совершенному забвению скрыть мое имя и даже то место, где успокоится голова его безумного Аркадия, которого судьба с детства тащила насильно на погибель! Но я не смел говорить всего этого моему благодетелю, ибо чувствовал, что я нужен ему для утешения его больной души. Без меня он остался бы совершенно одинок… Время проходило.







