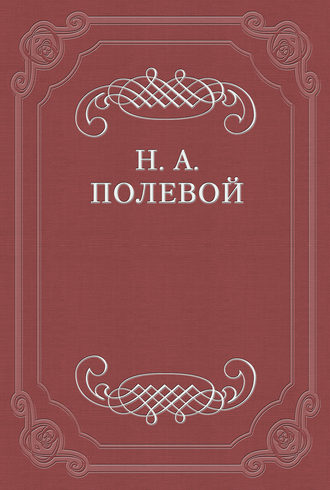
Николай Полевой
Живописец
IV
Ты любишь тяжело и трудно,[95]
А сердце женское – шутя!..
А. Пушкин
– Не знаю: испытывали ль вы, когда вы любили – «любили ль вы?» – надобно спрашивать прежде всего в наше время, – если вы любили, узнали ль вы то тягостное, терзательное чувство, какое меня мучило и мучит в моей несчастной участи? При совершенном уничтожении каком-то, при каком-то странном состоянии, в котором я существую, живу, дышу, мыслю – только моею любовью, – это чувство лишило меня всякой радости, всяких наслаждений во всем другом. Оно убило у меня все, потому что я отвергаю, отталкиваю от себя все, все, что не оно, не это чувство, не любовь моя! О, как бы все возвысилось, расцвело, ожило передо мною, когда бы любовь моя была счастлива, увлажала глаза мои слезами радости; когда бы она была хоть трескучим, диким, но взаимным пламенем, в котором я сгорал бы самдруг… Нет этого! Я горю, тлею, Одинокий, медленно, тяжко; и за всем тем, как святотатство отвергаю я все, что не она! Тяжким преступлением кажется мне самая легкая мысль хоть на минуту, хоть иногда забыть любовь мою! Не думаете ли вы, что в то же время порывы ко всему другому исчезают в душе моей? Бедствие, гибель мою составляет то, что, нет, – они не исчезли! Я, как раб, лишенный воли, не смею только предаться им; и – теперь едва ли уже не отвык от увлечения ими. Но эти порывы: мысль о славе, пытливость ума, мечты художника – все это гнездится в душе моей, все это превратилось в змей шипучих, которые не дают мне покоя, лишают меня сна, делают мне горькими каждую мысль, каждое дыхание; я душу их – они снова оживают и шипят еще сильнее, делаются еще ядовитее! Я унижен и понимаю свое уничижение – вот мука моя! Этого мало: понимаю, но не хочу, если бы и мог, не хочу вырваться из сетей бедственной моей страсти! Испытали ль вы это состояние? Согласитесь ли вы, что сумасшествие лучше, лучше, легче этого состояния? Это ад по доброй воле, из которого страдалец не хочет выйти, потому что в нем оставит он грешника, которому судьба определила век мучиться в этом аду; но с этим грешником он не расстанется за райские наслаждения!
Три дня тому – предчувствовал ли я, что это будет роковой день решения судьбы моей! – три дня тому я пришел к Вериньке. Ее не было дома. Дня с два я не видал ее. Прощаясь с нею в последнее свидание, я заметил в ней, в первый еще раз, какое-то усиленное ко мне внимание, какое-то необыкновенное волнение души. Она так уныло, внимательно смотрела на меня; рука ее, забытая, оставалась в руке моей; грудь ее трепетала; глаза наполнялись слезами. Казалось, что ее тяготит какая-то тайна; казалось, что она трепещет, как бы тайна эта не открылась. Несколько раз она останавливала меня, когда я хотел идти.
«Что с вами, Веринька?» – спрашивал я, изумленный, встревоженный.
«Ничего!» – отвечала она и едва не плакала, и никогда глаза ее не выражали столь много! Все это дало мне запас счастья на два дня, но ужасно беспокоило меня. Теперь меня встретил отец ее. Он был один и задумчив. Разговор наш вертелся на пустяках и перерывался беспрестанно. Невольный ужас овладел мною.
«Все ли у вас здоровы?» – спросил я.
«Все», – был холодный ответ его.
«Но где же…» – промолвил я и не мог докончить.
«He о Вериньке ли ты спрашиваешь?» – спросил старик.
Я мог только наклонить голову в знак подтверждения.
«Ее нет!» – отвечал он.
«Что это значит?» – воскликнул я.
«Она уехала из Петербурга, в деревню к тетке, и, признаюсь тебе, разлучась с нею в первый раз в жизни, я грущу и печалюсь, как будто сердце потерял!»
Он сердце потерял! А я что же потерял, я? – Никогда прежде мысль о разлуке не представлялась мне. Иногда с ужасом воображал я, что Веринька может принадлежать другому; но – расстаться с нею, и так нежданно, и не слыхав от нее ни одного слова, не слыхав даже милого, унылого: «до свиданья!»… Мне казалось, что кости мои затрещали в суставах… Но это было только начало пытки…
«Видя в тебе доброго друга нашего дома, – продолжал старик очень хладнокровно (он не выдержал более своей тайны), – не стану скрывать от тебя, любезный друг Аркадий, что меня занимает теперь весьма важное семейное дело…»
«Если вонзать нож в сердце, так вонзай его глубже, быстрее, и сильно поверни потом, – думал я, – иначе можешь ошибиться в ударе: только измучишь человека, а не зарежешь. За что же мучить? Лучше убей с одного раза». – Я предчувствовал, что хочет говорить старик! Откуда было это предчувствие – не понимаю. Боясь, что упаду, крепче сел я на диван и придвинулся к самой спинке его.
«Ты догадываешься, любезный Аркадий, что я хочу говорить тебе о судьбе Вериньки. Ей открывается прекрасная партия. Думаю только и не придумаю, как мне быть? Конечно: человек хорош, молод, состояние у него будет отличное; ну и любовишка замешалась тут: Веринька ему очень нравится. Он так и говорит, что любит ее и надеется видеть в ней добрую жену и мать; даже не требует за нею никакого приданого. Я, признаться, ничего и не могу дать за дочерью, кроме этого домишка. Мне бы так хотелось, однако ж, чтобы зять мой поселился со мною. А он говорит, что этот дом для него мал…»
«Вы уж успели с ним переговорить обо всех этих хозяйственных распоряжениях?»
«Как же, братец; надобно делать дело порядком. У меня главное затруднение в том, как мне расстаться с дочерью и как опять бросить этот дом? Конечно, можно отдать внаймы, а самому переселиться к зятю, но жаль постояльцам отдать дом, который готовил я для себя и так хорошо отделал и устроил. Опять и то, что человек-то славный! Ты его знаешь: вы с ним друзья; он мне сам сказывал».
«Кто он такой?»
Старик назвал его: это был дурак, долговязый молодой человек, давно ходивший к отцу Вериньки, и над которым я всегда безжалостно смеялся.
«Он лжет, что мы с ним друзья!» – вскричал я с негодованием.
«Как же так? А он еще хотел заказать тебе портрет Вериньки, если дело у нас сладится!»
О позор! о унижение! Я готов был рвать на себе волосы и чувствовал, что вся кровь моя клокочет и пенится. Но чрез минуту мысль: долговязый – мой счастливый соперник – показалась мне столь смешною, что я думал, не шутит ли старик…
«Совсем не знал я, что он жених вашей дочери… никогда этого и не думал…» – сказал я, едва не засмеявшись.
«И я не думал, – отвечал с важностью старик. – Он всегда казался мне славным малым, и я замечал, что он ластится к Вериньке. Но только с неделю тому он получил письмо, где уведомляют его, что старик дядя скончался у него: пятьсот душ в Калуге. Состояние, братец, прекрасное! И вообрази ты себе, что уж моя дочь ему бы и не пара, а первое дело его было, что он пришел ко мне и сделал предложение. И только тут-то узнал я, что он давно в Ве-риньку влюблен!»
«Но мне всегда казалось, что он очень глуп».
«Нет! что ты! Преобразованный ведь он. Застенчив немного, но от этого исправится. Да я и не знал, что ты его не любишь?»
Не постигаю, как я остался жив и как не наговорил чего-нибудь безумного! Видно, что человек может быть живущ и перенослив притом, если захочет!
«Право, брат Аркадий, в большом я затруднении! – продолжал старик, ходя по комнате. – Как ты думаешь?»
Я думал: если это не глупая шутка, то не испытание ли, не желание ли шутливо сказать мне, что он отдает мне Вериньку… Но к чему же такая нелепая шутка?.. Ах! это была ужасная истина!
«Где теперь ваш будущий зять?» – спросил я, сам не зная для чего.
«Уехал, братец, вчера для устройства дел, принятия наследства и прочего и воротится уже зимою».
«Через полгода?»
«Да».
«И дочь ваша воротится от тетушки через полгода?»
«Да; но что ты вдруг побледнел?»
«Следственно, их останется тогда только обвенчать?»
«Нет! еще дело так далеко не дошло!»
«Как же! Ведь вы согласны?»
«Охотно; но Веринька что-то…»
«Ангел-Веринька! Скажите ради бога: она отказала?»
«Нет, не отказала… Но что ты опять покраснел, брат Аркадий? И к чему приплел ты имя ангела к Вериньке? Э-э! любезный Аркадий, что все это значит? Неужели…»
«Веринька ваша еще свободна?»
«Да, потому что я не добился от нее ответа. Девичий ответ обыкновенно бывает – слезы! Но она не отказала – она просила только меня отсрочить; а потом умоляла отпустить ее к тетке. Так жених – без решения, с одним моим словом, что я согласен, но принуждать моей дочери не стану – уехал, и дело отложено».
«Итак, она не согласна? А вы не станете ее принуждать, почтенный, добродетельный человек?» – вскричал я, вскочив с своего места.
«Избави меня бог!»
«Вы отдадите дочь вашу человеку, который ее любит, которого она сама любит, с которым она будет счастлива, блаженна?» – продолжал я, крепко обняв старика.
Едва освободившись от моих объятий, старик принял угрюмый вид.
«Во-первых, так по-чертовски не обнимают добрых людей, а во-вторых, что это такое значит, брат Аркадий? Или и ты в женихи себя ладишь Вериньке?»
Я окаменел и старался разгадать по выражению голоса, что такое хочет сказать старик?
«Любезный! – продолжал он. – Мы люди старые; этой любовной вашей дребедени не знаем. Что ты наговорил мне о счастье, о любви, о чем еще… Аркадий, брат! я этого не замечал прежде – это нехорошо, нехорошо!»
«Итак, всякому позволяется любить Вериньку вашу, только не мне?»
«Любить всякому?.. Она ничего не знает обо всем этом вздоре?»
Я молчал.
«Знает? Это нехорошо! – сердито вскричал старик. – Помнишь ли ты анекдот в „Письмовнике“[96], что один кавалер спрашивал у девушки: „Как, сударыня, пройти к вашей спальне?“ – „Через церковь“, – отвечала она».
Негодование овладело мною. Я с жаром начал говорить о несправедливости низкого подозрения, о том, что любовь моя была чистое, святое чувство; но я не мог сказать старику, будто Веринька не знала о моей любви… Ах! она слишком знала о ней!
«И ты ей признался, чай, по-рыцарски, по-картинному, на коленях?»
«Нет! я молчал!»
«Как же она могла знать все эти пустяки, когда ты посылал к ней посла немого с грамотою неписаною? Вот я, например: ты не говорил, и я совсем этого не заметил. Мало ли вас увивалось вокруг Вериньки. Правда, ведь девушки иногда объясняются без слов, как-то глазами… Неужели это было причиною ее слез, ее отказа, ее отъезда? Глупо! Для чего она мне об этом не говорила!»
«Что же вы сделали бы, если б она сказала?»
«Я отвечал бы ей… – Старик сердито ходил по комнате. – Тогда бы я подумал, что говорить; а теперь, как ничего не сказано, так мне и говорить нечего».
«Но я вам говорю теперь это».
«То есть что Веринька тебя любит?»
Боже! мысль, в которой несколько лет не смел я отдать сам себе тайного отчета, – он сжал эту мысль, объемлющую все мое бытие, в один вопрос и сказал ее в виде допросного пункта, тремя холодными словами…
«Да говорите же, Аркадий Иванович! Тут уж молчать не время».
«Не знаю!» – промолвил я, едва не задыхаясь от горести.
«Ну, так дело-то, видно, все пустяки: обыкновенное глазенье молодежи друг на друга. Я так и надеялся на тебя, любезный Аркадий, что ты честный человек, что ты истинный друг мой. Женщины народ слабый; мужчины должны беречь их».
«Я посвящу всю жизнь мою на то, чтобы беречь ее!»
«Да говори же толком, чего ты от меня хочешь?»
«Отдайте мне Вериньку!» – вскричал я, едва держась на ногах.
Старик молча сел на диван и уперся ногтем в зубы.
«Отец мой!»
«Я, сударь, вам, во-первых, не отец, а во-вторых – дайте мне подумать».
«Подумайте!» – сказал я и пошел вон, сам не зная куда. Я не показал признаков сумасшествия перед отцом Вериньки – но видите, каков я теперь! А этому уже прошло три дня! Не спрашивайте у меня ничего: ни о том, что было со мною в эти три дня, ни о том, что я предпринимаю в будущем!
Аркадий кончил свое повествование. Я ничего не советовал ему, но притворился любопытствующим узнать разные подробности о благодетеле его, об училище живописи, об иконописании, увлек его в посторонний разговор, стал с ним читать. Семен Иваныч поглядывал в дверь с радостною улыбкою, видя, что мы разговариваем спокойно. Я ушел, когда уже было утро. С несчастными надобно обходиться как с больными, а Аркадий был истинно несчастлив.
На другой день, едва проснулся Аркадий, я был уже у него с наемного коляскою и предложил ему ехать верст за тридцать от Петербурга. Это казалось ему неприятно, но он промолчал и согласился. Я не давал ему покоя, ничего не спрашивал у него, видел, о чем хотелось ему говорить, и удалял этот разговор. Мы проездили сутки двои; я уговорил его потом ехать со мною на финляндские каменоломни.
Грустно, больно было мне смотреть на Аркадия во все это время, тем более что я не понимал еще и сам, как пособить ему. Но первый перелом его душевной скорби прошел. Когда мы воротились в Петербург, Аркадий сам предложил мне лекарство для больной души его.
Велик запас жизни, дарованный провидением человеку! На утлой доске выплывает человек с развалившегося, избитого волнами корабля к бесплодному утесу; неделю живет потом на этом утесе, голой скале, которую едва не заливают волны разъяренного моря, едва не сокрушают удары буйных валов, живет под свистом бурь, огнем молний и – уцеливает! Небо прояснивается, волны утихают, голод и жажда томят, но не умерщвляют его, и надежда не перестает гнездиться в сердце страдальца! И наконец она спасает его! Так и в нравственном мире.
– Почтенный друг мой! – сказал мне Аркадий, когда мы по приезде нашем отдыхали вечером в его мастерской. – Чем могу изъявить вам благодарность мою? Неужели вы думаете, я не вижу, не понимаю ничего, что вы для меня делаете?
Я пожал ему руку.
– Я заплачу вам тем, что к стараниям вашим спасти меня сам приложу все старания. Будь что будет! Назначено ли мне, в самом деле, проявить что-нибудь в будущем или ничтожно погибнуть – будь что будет! Всего более страшит меня какое-то мрачное предчувствие – и я верю ему: ничтожество – мой удел на земле! Гордые мечты мои погаснут бесплодно, великие думы мои убьет безжалостная судьба. Она зарежет меня перочинным ножиком, а не убьет громом! Но я погибну тогда только, когда истощу все силы в борьбе с нею. Вот вам моя рука и клятва!
– Принимаю ее, Аркадий, и даю тебе мою клятву: все, что от меня зависит, употребить для твоего спасения! Ты не знаешь себе цены, душа сильная!
– Сильная! Мне кажется, что я точно мог бы что-нибудь сделать… Скорее опыт сил моих, и – почему знать? Может быть, этим опытом я возвращу себе все? Это и была первая мысль моя, когда я узнал решение моей судьбы! Мысль, внушенная моим ангелом-хранителем, подкрепи меня!.. Только бы продышать мне как-нибудь… В будущем году назначена выставка… Мой «Прометей», идея, которую так давно и тяжко носил я в груди моей, – да, эту идею изображу я им! И когда восторг зрителей, голос народный, собственное мое убеждение скажут им, что я первый между ними, – не завидно первенство между пигмеями, но где же земля исполинов? – тогда отец ее поверит… хоть тому поверит, что я могу пропитать голову мою и жену мою… А она меня любит, у нее достанет сил сказать: он или никто!
На другой день я застал Аркадия за работою. Вдруг ожил он и совершенно изменился! Опять казался он тих, спокоен, весел. Вместо отдыха он ходил в Главное училище живописи. Там не любили, но боялись его и не смели отказать ему в льстивой ласке и притворном расположении. Возвратившись домой, Аркадий рисовал карикатуры на учителей Главного училища. Многие были забавны. Не описываю их. Иного стоило только нарисовать вернее, и выходила карикатура превосходная.
В это время, к большой досаде моей, мне надобно было ехать, для справок по моему делу, в Москву, в Симбирск. Я отправился. Аркадий дал мне слово писать и не написал ни одного письма. Отлучка моя продолжилась. Мысль об участи Аркадия беспрестанно тревожила меня. Впрочем, один общий наш знакомый уведомлял меня, что видается с Аркадием и что он здоров. Почти первое дело мое было, по приезде в Петербург, послать к Аркадию. Он прибежал опрометью вместе с моим посланным, и, к изумлению моему, веселый, радостный. Извинения в неписаньи писем, расспросы о здоровье были непродолжительны. Какое непостижимое смешение противоположностей может быть в человеке!
– Не буду рассказывать вам, как провел я все это время, – говорил Аркадий. – Я кончил моего «Прометея» и доволен им: вот все! Завтра приходите ко мне, почтенный друг мой, в двенадцать часов утра. Знаете ли, кого вы увидите у меня? Вериньку и отца ее!
– Как же это, Аркадий?
– О! не думайте слишком многого! – Аркадий засмеялся. – Я не был у старика более полугода. Он сам не заходил ко мне, и – чт_о_ за странный человек! – обрадовался, увидев меня. Я ни слова не говорил ему о прошедшем. Казалось, он был рад этому и изъявлял мне большую дружбу. Мы были, как будто старые приятели, которые не говорят ничего о временной размолвке. Неделя тому Веринька возвратилась. Она приехала в тот самый день, когда для моего «Прометея» принесли мне золотую раму. Это счастливый знак; притом же это случилось во вторник, и четырнадцатого числа – признаки хороши! Я только всего раз и виделся с Веринькою. Она похудела немного, но – чудный, настоящий ангел! Мы говорили мало, но – она меня любит! Видно, что глупое сватовство не состоялось: наш пятисотый жених не едет, ха, ха, ха! – Через три дня открывают выставку картин. Я просил старика прийти ко мне, посмотреть, что я приготовил на выставку… Ах! почтенный друг мой!.. – Аркадий в восторге обнимал меня.
– Предупреждаю вас, что я переменил квартиру и живу теперь на *** улице.
– Как? На той же самой улице…
– Где живет она. Мог ли бы я пережить столько времени, если б не глядел хоть на тот дом, где некогда видал ее!.. Впрочем, эта квартира гораздо удобнее прежней…
– Чего же теперь хочешь ты, чего ждешь ты, Аркадий?
– Счастья. Дайте, я запишу вам новый мой адрес! – Он убежал.
– Счастья! – прошептал я; сердце мое стеснилось…
Случалось ли вам видать, как молодого, неженатого, но живущего своим маленьким хозяйством мужчину посещает семейство, где есть одна, для которой приглашение его было сделано? Это мило и любопытно видеть! Сколько тут бывает мечтаний, приготовлений, робкого любопытства! Хозяин показывает подробности своего хозяйства; старики думают, что он для них только заботится и делается любезным, услужливым; она понимает истинную цель услуг, тихо мечтает о том, как можно б было устроить здесь, поправить там, быть счастливою в этом тихом убежище. А он, неловкий хозяин, попадаясь беспрерывно под дружеский выговор стариков, дает разуметь, что у него некому хозяйничать. Наконец уговаривают ее приняться разливать чай, управлять, распоряжать. Краснеют, спрашивают, хозяйничают… Это прелесть! И сколько после того бывает воспоминаний! Здесь она сидела, там глядела, там останавливалась, там сказала то-то…
Новая квартира Аркадия была в самом деле лучше и обширнее прежней; новая мебель украшала комнаты. Семен Иваныч ходил торжественно, одетый в старый свой праздничный фрак; весело и значительно посмеивался он и кивал мне головою. Едва пришел я, как жданные гости появились на улице. Их, разумеется, ожидали нетерпеливо, побежали к ним навстречу: ведь надобно было показать им дорогу. Шутливые восклицания старика отца слышны были из передней. В первый раз увидел я тогда Вериньку и отца ее.
О нем вам нечего говорить много: одно из тех созданий, которых называют добродушными весельчаками, – нечто не злое, не слишком умное, кругловатое по наружности, веселое, от нечего делать душе и сердцу, шутливое без остроумия, смеющееся каждой своей шутке, способное и плакать, когда бывает какое-нибудь горе. Но она?
Разрушать ли мне очарование моих читательниц, если они уже создали себе идеал Вериньки? Или взять на совесть грех и уверить их, что в Вериньке были все совершенства, что она была совершенная красавица? Ни то, ни другое. Вы знаете русскую пословицу: «Не по-хорошу мил, а по-милу хорош». Эта пословица – разрешение психологической задачи о том, что нам нравится и не нравится, что мы любим и ненавидим. Кронеберг[97], разрешая странную задачу любви, говорит, что в жизни человеческой бывают мгновения, когда душа вспыхивает молнией прекрасного и проникает сквозь свою темную, вещественную оболочку. В то же самое мгновение, когда одна душа таким образом является в мир, подглядывает ее другая душа и узнает в ней свое родное, небесное. Раз освещенный этою молниею души, вещественный образ человека, проявившего свою душу, остается навеки в душе другого, и уже ничто не разрушит его – ни время, ни самое безобразие! Там, где люди ничего не видят, мы видим этот светлый образ души, проглянувший для нас сквозь ничтожную оболочку и оставшийся в нашей душе. Для двух душ, свидевшихся таким образом в области земного изгнания, – что такое время, что такое расстояние? Они знают только одно: любить друг друга; когда они вместе, – любить и радоваться; любить и грустить, – когда они розно. Впрочем, Веринька для всякого, и не подглядевшего души ее, была милое, прелестное создание, цветущее всем тем, что дает нам молодость, обладающее многим, что остается и после нее. Она не была бы нигде заметною, но взор ваш, утомленный блеском красоты и изысканности, всегда мог бы успокоиться на ее милом лице, мог бы полюбоваться ее стройными, изящными формами после многих красавиц, которых не захотите любить и о которых говорите, отворачиваясь: «Как хороша!» Но идеал Аркадия – эта девушка, она – идеал его, высокого художника, великой души человека, понимающей все ясновидящими очами своими! Я смотрел на Вериньку, понимал возможность того, что она нравится, но не постигал безумия, околдования моего друга.
Аркадий усадил своих гостей и отрекомендовал им меня. Отец крепко пожал мне руку. Веринька взглянула на меня и тихонько, с улыбкою, сказала:
– Он много говаривал мне о вас!
Голос и улыбка были увлекательны; но – увлекательны – не более! Между тем старик отец ее повел шумный разговор. Надобно сказать, что с ним пришел еще какой-то аматёр, старый гравировальный мастер. Тот и другой занялись прежде всего водкой и закускою, поставленными на столе. Аркадий был как будто на иголках, метался, робел, хотел скорее начать свое торжество.
– Пойдемте смотреть поскорее мои картины! – сказал он наконец Вериньке тихо.
– Я сама нетерпеливо хотела бы видеть их, – отвечала она, взглянув на меня и как будто говоря: «Если, хоть для приличий, вы пойдете с нами».
Я встал с своего места. Аркадий схватил руку Вериньки.
– Вы уж и спешите, господа? – сказал отец Вериньки. – Да нет, брат Аркадий: я не расстанусь с селедкою! Чудо, чудо! Где ты брал? Скажи, сделай милость! Вот, сударь, объясню я вам о селедках… – продолжал он, обратясь к своему товарищу. Я не дослушал слов его, ибо спешил за нетерпеливым Аркадием. Он увлек уже Вериньку – он был так счастлив, так доволен; он с жаром прижал руку ее к губам своим. Легкий румянец пробежал по ее щекам; она украдкой взглянула на меня, потом на него; нежный укор изобразился в ее взорах, как будто она хотела сказать: «Что ты делаешь, безрассудный!»
– Милый друг! дай мне забыться хоть на минуту. Кто ручается даже за будущий час? – говорил Аркадий, не отпуская руки ее. Веринька еще раз взглянула на меня выразительно. «Что мне делать с ним, с этим прихотливым ребенком, – решите сами!» – вот что выразил взор ее.
– Он хорошо знает меня; он мне истинный друг, – говорил ей Аркадий.
Мы вошли между тем в мастерскую Аркадия, отлично прибранную, искусно отененную занавесами. Тут стояло полукругом несколько картин его и портретов. Аркадий оставил руку Вериньки и, горделиво сложив руки на груди, хотел насладиться ее восхищением.
Тут была картина Аркадия «Иисус в пустыне» – желание изобразить то, что так сильно поражало его в детстве. Но этой картиной Аркадий был недоволен. И не диво: он измерял ее достоинство по безотчетному идеалу своих младенческих лет. Вторая – «Чтение в семействе», о которой я уже говорил, еще несколько других и между прочим «Прощанье рыцаря». Закованный в железную броню, нежно, с горестью смотрит паладин на милую девушку; печально лежит голова ее на груди рыцаря; рука его обхватила стан ее. Знаток увидел бы в этой картине глубокое изучение германской живописи, тщательность в костюмах. Но душа художника не выражалась в ней вполне: он изображал чуждое ему – горесть счастливой любви; лучше мог бы он изобразить чувство более странное: наслаждение любви несчастной.
Независимое вдохновение можно было заметить в «Клятве швейцарских вождей» – предмете, взятом Аркадием из Шиллерова «Вильгельма Телля». Простота, с какою изображены были тут Штауффахер, Фурст, Мельхталь, толпа разнообразных лиц, поднятые к небу руки пастухов, смесь странного оружия их, швейцарская природа окрест их – все это было истинно и прекрасно. Художник понял поэта. Но весь Аркадий, вся жизнь его выразились в его «Прометее». Идея, которую великий Эсхил заключил в своей чудной трагедии[98], которую потом так хорошо выразил Байрон[99], – горделивое презрение воли тирана Зевеса, величие духа, превышающее самую судьбу, и страшное терзание вещественное, соединенное с скорбью об участи человека, с пророческим видением, заставлявшим Прометея среди мучений прорицать гибель Зевеса, – все это выражала картина Аркадия. Огромный кровожадный орел, подъемлющийся к небесам седой Океан[100], угрюмо погружающийся в бездны моря; дикообразный Эфест[101], держащий в руках орудие казни, страшный молот свой, и бесчувственно смотрящий на оживотворителя людей[102]; природа, содрогающаяся от бедствий Прометея и гремящей грозы небесной! Это был Эсхил, переведенный рукою Гете; миф первобытной Эллады, проникнутый огнем всеобъемлющего романтизма; событие древней истории, описанное в трагедии Шекспира… И Аркадий хотел, чтобы это произведение поняли его судьи, его зрители – чтобы это произведение поняла Веринька!.. Бедный Аркадий! вечно несогласный с собою, когда люди его понимали, и вечно непонимаемый ими, если был согласен с собою!..
С детским любопытством Веринька пробежала взором своим по всему ряду картин; обратила лорнет свой на «Прометея» и – содрогнулась. Только. Чего же вы хотите? Она была женщина: ее ли женской душе, жадной наслаждений счастием и радостью, можно было оценить этот миф глубокий, этот мир страстей, кипящий огненною лавою, сражающийся с волнами моря, которые влились в расселины горящего волкана. Взор Вериньки еще раз пробежал по всем картинам, и она сказала радостно и весело:
– Бесподобно! Прелестно, Аркадий! – Этим словом она заплатила дань своему роду, тому, что она была женщина! У них есть слова, которыми выражают они свои безотчетные чувства, свое ребяческое удивление. Таковы были разборы Гетевых и Вернеровых[103] созданий, писанные г-жею Сталь, – это женское «бесподобно, прекрасно!», растянутое на множество страниц.
Взор Аркадия потемнел и помрачнел; руки его крепче сжались на груди. Веринька взглянула на него и оробела, подошла к нему, хотела взять его руку; он не давал ей своей руки. В смущении она отошла к картинам и наклонялась к ним, как будто рассматривая их, но я видел, что она хотела скрыть свои слезы. Аркадий подошел к «Прометею» своему и горящим взором, с каким-то яростным негодованием, смотрел на него – он готов был уничтожить свое создание. И какой поэт не изорвет своей поэмы, вдруг услышав простое, детское «прелестно!», когда он с восторгом читает ее своей подруге! Это вода, влитая в зажженное масло! Он в облаках и думает, что он орел, а его тянут к земле ниткою: он бумажный змей, пущенный с земли прихотью ребенка. Я не хотел скрывать своих чувств от Аркадия.
– Аркадий! – сказал я, – поди, обними меня: ты великий, истинный художник! – Эти слова были сказаны мною от искреннего восхищения; они были животворною росою на страждущую душу художника.
– Почтенный друг мой! – воскликнул Аркадий и бросился ко мне. – Она не понимает! – шептал он мне. Тут, с детскою невинностью дитяти, с жаром любящей души, Веринька подошла к нему. Слезы капали из глаз ее, и она не скрывала их. Мгновенно опомнился Аркадий. Он схватил ее руки и целовал их.
– Аркадий, mon bon ami! – говорила Веринька. – Зачем вы требуете от меня невозможного? Могу ли я судить и понимать ваши прекрасные произведения? Одно, что их создал Аркадий, вот одно, что составляет для меня главную – всю их прелесть…
– Что их создал ты, скажи мне, Веринька! – воскликнул Аркадий, – и ты осчастливишь меня…
– Что их создал ты, – сказала она, нежно улыбаясь сквозь слезы.
О женщины! кто дал вам эту волшебную силу над сердцем мужчины, эту силу слабости? – и как умеете вы пользоваться ею! Аркадий готов был прижать теперь Вериньку, не умеющую оценять его произведений, к груди своей и забыть своего Прометея, свое искусство, всю вселенную у ног ее…
Разговор отца Вериньки и товарища его послышался в ближней комнате. Аркадий и Веринька опомнились. Он пошел навстречу гостей; она отошла к картинам и внимательно смотрела на них, хотя я видел, что она ничего не могла в них разглядеть. Ее щеки пылали, грудь волновалась, глаза перебегали с одной картины на другую в беспорядке чувств и мыслей.
– Ну! управились мы, брат, с селедкою, выпили, закусили; давай теперь смотреть картины! – говорил отец Вериньки. – Да ведь мы по-художнически, по-ученому смотреть будем! Ставь сюда кресла – так! Надобно выбрать настоящий point de vue![104] Хорошо! Эта картина невыгодно поставлена – а еще сам художник ставил! Ближе ее к окошку, чтобы лучше был свет. Отойди, Веринька! что ты знаешь!
– Отойдемте, сударыня, – сказал, смеясь, Аркадий. – Вас исключают из числа знатоков, а я теперь не имею права судить. – Он стал с Веринькою в стороне и тихо пожимал ее руку.
– Начнем с начала: с рам. Что это у вас нынче пошли в моду эти готические рамы, плоские, пестрые? То ли дело прежние, с бусами и сухариками, имевшие более эффекта! Хорошо, хорошо! Только терпеть я не могу этой темной немецкой живописи! Тут облака надобно было мягче сделать! Что это за костюмы ты написал, вот в этой картине?
– Это древние германские.
– Все немцы да немцы! Почему не национальные наши? Пора нам думать о своей родной живописи, пора, братец,! думать о русском! Тут clair-obscur[105] не точно смешан. Ошибка, братец! Рыцарь не мог прижать девушки так крепко к груди: ведь он был в железной броне! Зачем такие страшные носки у его сапогов?
– Так носили тогда.
– Так носили! Да ведь ты подражаешь природе не грубой и должен украшать ее! За что же ты и художник? Ты должен был украсить, сгладить костюм. А! Прометей! То-то художником-то быть: тотчас угадаешь! Хорошо! Ну, ведь не посоветуется, злодей, с опытными людьми! Во-первых, как он неловко положен…
– Да, ему, думаю, и в самом деле было не очень ловко лежать на Кавказе, – отвечал Аркадий.







