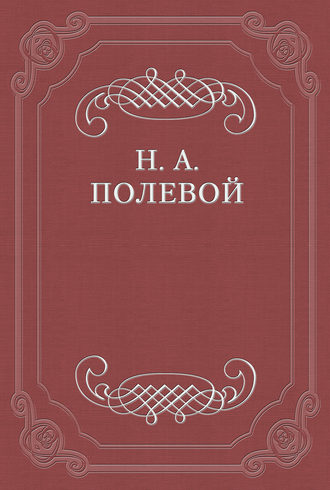
Николай Полевой
Иоанн Цимисхий
Книга III
Если ты видишь кого-нибудь возведенного на высоту счастия, гордого своими богатствами, надменного родом своим и подъемлющего взоры свои еще выше своего величия, не сомневаясь верь, что близкое наказание ожидает его. Судьба возвышает нас только для того, чтобы тем глубже было падение наше.[203][204]
Менандр, отрывок из потерянной комедии (Стобей, Serin, XXII)
Дня через два или три, после несчастного события на Ипподроме, в одном из домов царьградских, в обширной комнате, освещенной лампадою, сделанною в виде черепа человеческого, сидели два человека и беседовали, хотя ночь уже давно наступила, мрак облегал Царьград, и, говоря выражением старинных поэтов, «Морфей рассыпал мак на зеницы людские обильною рукою».
Дом, в котором находились собеседники, составлял одно из огромных зданий, принадлежавших частным людям, и находился на форуме, или площади Константиновской. Главный портик сего дома выходил на площадь, а самое строение терялось в огромных соседственных зданиях, и почти столько же находилось его в земле, сколько на поверхности земли. Так было во всех значительных зданиях царьградских, начиная с дворцов до чертогов вельмож и богачей. Подземелья, погреба, тайные выходы и входы были столь обыкновенны в домах царьградских, что говорили, будто Царьграда только одна треть на земле находится, другая висит на воздухе, третья зарыта под землею. В подземельях и погребах богачи и вельможи скрывали свои сокровища, укрывались сами во времена бедственных волнений, беспрерывно потрясавших благоденствие Царьграда. Богач считал бы свой дом несовершенным, если бы не было в нем потайных входов и выходов. Это сделалось, наконец, модою, щегольством. На что не бывает моды?
Дом, о котором мы говорим, мог почесться самым щегольским, если бы надобно было судить о нем по его подземельям и тайникам: он изобильно снабжен был ими, и многие из них были так скрыты искусством зодчего, что никто и никогда не мог бы догадаться об их существовании. Комната, где находились собеседники, нами упомянутые, была в одном из самых тайных подземельев строения. Это был погреб, глубоко опущенный в землю, и к нему надобно было пробираться множеством переходов, коридоров, тайных дверей, лестниц. Впрочем, особенным искусством зодчего, погреб этот, находясь в ряду других подземных комнат, был сух, тепел и, несмотря на вечный мрак, ибо свет дневной не проходил в него, он мог показаться жилищем роскоши. Стены и своды его были обмазаны крепким цементом и раскрашены, а капители красивых столпов даже раззолочены и множество подсвечников и ламп, в нем находившихся, могли ярко осветить его. На сей раз освещала его только лампада.
Странны были украшения этой подземной комнаты. Тут, в красивых шкафах находилось множество свертков папира и пергамента; на стенах висели чучелы разных животных; на столах расставлены были какие-то непонятные орудия, стклянки, пузырьки, банки, ящички, разложено было множество рисунков и чертежей.
За большим столом, заставленным разными орудиями, заваленным свертками и чертежами, сидели два упомянутые нами собеседника. Кто присутствовал на последней императорской аудиенции, тот мог бы узнать того и другого: один из них был философ, которого Никифор стращал гневом своим, за приверженность его к философии; другой, молодой царедворец, патриций Калокир, которому велел он отправиться в Киев, к Сфендославу, князю днепровских руссов.
– Да, мой сын! – говорил философ, – будь внимателен к словам моим, и я открою тебе тайны, каких еще не видал ты до сих пор.
«За тем пришел я к тебе, отец мой. Все, что доныне знаю о себе самом, только тревожит и смущает меня. Прошедшее для меня непонятно, будущее вовсе мне неведомо. Перед тобою открыты тайны былого и будущего. Открой их мне».
– Юноша! с какою жадностью стремишься ты узнать неведомые судьбы своего жребия! Но помышляешь ли о том: принесут ли они тебе радость и счастие, эти открытые тайны? Помнишь ли жреца египетского, поднявшего покрывало с истукана Изиды[205]? Что было его жребием? Безумие и ужас!
«Зачем же пугаешь ты меня, отец мой, когда сам обещал мне важные открытия? Не для того ли должен я был переносить разные испытания и перенес их? Не обещали ль мне говорить откровенно обо всем? Не для того ли открыли мне, наконец, тайное твое убежище и привели меня к тебе?»
– Так, но теперь испытание последнее. Скажи – не побуждает ли тебя к познанию только жадность славы и почестей? Не то ли одно влечет тебя, что в будущем откроется для тебя блестящее, высокое поприще? Если так – горе тебе! Ты ослеплен – ты обманываешь себя, обманываешь и всех нас льстивыми надеждами!
«Я не понимаю тебя, отец мой! Сказать тебе, что душа моя не волнуется радостно при мысли о величии и славе, которые, может быть, ждут меня в будущем, – значило бы скрыть от тебя мою душу. Да, я жажду их, почестей и величия, и путь, которым достиг я в мои лета того, что я уже есмь теперь – должен ободрять меня в самых смелых мечтах».
– Что же ты есть теперь, сын мой? – спросил философ с горькою усмешкою.
«Вопрос твой смущает меня, отец мой. Еще нет мне двадцати пяти лет, а уже удостоен я милостей моего великого государя, имел случай показать ему храбрость мою в битвах, был посылан от него в дальние страны и теперь снова отправляюсь туда с поручением весьма важным. Мое богатство, мой чин делают меня одним из почетных царедворцев – я всего могу надеяться!»
– Да, всего – блестящая участь, и тем более, что ты достигаешь ее своею заслугою. Может быть, если ты не погибнешь в дальних странствованиях, не будешь убит в какой-нибудь битве – ты сделаешься протоспафарием, логофетом, Великим доместиком. Тогда тебе надобно будет бояться только одного, чтобы не навлечь на себя немилостивого взора своего повелителя… Может быть, вечным угождением и лестью удержишься ты на своем месте, если какое-нибудь смятение, волнение, прихоть судьбы не уничтожат тебя, если интрига придворная не восстанет на тебя. Ведь все это может быть…
«Так, но ты смущаешь меня своею насмешкою».
– Право? А я хотел еще далее продолжать мою речь и до дна заставить тебя выпить сосуд с горьким питием правды, который должен очистить твою душу. Ты богат, ты патриций, ты царедворец, ты доказал храбрость свою в боях, ты посылан был в отдаленную Скифию – все так! Но неужели велика та заслуга, что ты не бежал постыдно с полей битвы? А посылке в Скифию не заключалась ли вся причина в том, что ты хорошо знаешь скифские языки и другого некого было выбрать? – Постой, юноша, и не перебивай речи моей! Богатство твое – как приобрел ты его? Ты сам не знаешь своего рода; ты жил в удаленном от столицы городе, не зная ни Двора, ни почестей. К тебе пришел хозяин этого дома, патриций Афанас, и объявил тебе, что ты наследуешь великое богатство после одного своего родственника, богатого человека, умершего в Херсоне и препоручившего ему передать тебе свое богатство. Потом друзья Афанаса представили тебя ко Двору, и милости Никифора начали на тебя обращаться.
«Конечно, – сказал с досадою Калокир, – я не имел еще случая оправдать себя великими подвигами…»
– Не выше ли тебя Афанас, когда он может получить все возможные почести при своем знатном роде и богатстве и презирает всем этим?
«Зачем же ты обольщал меня моею великою участью и открытием каких-то высоких тайн, когда начинаешь унижением меня в собственных глазах моих?»
– Затем, чтобы возвысить тебя после сего над другими дивным жребием твоим, отличным от всех других. – Чувствуешь ли силы лететь могущим орлом? Если ты чувствуешь силы свои, то не место логофета должно льстить тебе, не милость Никифора, но место великого человека и – первое между современниками!
«Первое! Но это первое место…»
– Неужели, как грубый франк, ты боишься рыкания золотых львов, которые стерегут это первое место?
«Скажи ж мне, отец мой, открой мне судьбу мою…»
– Если ты не будешь приготовлен к открытию, что поймешь ты из слов и изъяснений моих? Смотри. – Философ развернул лист пергамента, исписанный математическими знаками, испещренный созвездиями, цифрами, изображениями уродливыми. – Вот судьба твоя, Калокир!
Юноша смотрел и не понимал.
– Это гороскоп твой, – продолжал философ, – и я все читаю в нем так ясно, как будто бы это было написано самыми четкими буквами. Вот он – твой враждебный Водолей – вот влияние Афродиты, которого ты должен страшиться – вот три цикла жизни твоей…
«Отец мой! я предаюсь тебе – я отдаю тебе судьбу мою!»
– Итак, я открою ее тебе, когда ты поставишь целью жизни своей совершение великого своего предназначения, к которому ведет тебя рука тайных друзей и судьба твоя!
Узнай, Калокир, что мир здешний есть борьба добра и зла, ума и безумия, чести и бесславия, и – увы! – люди отвергают благо, предаются злу и не видят, как изливаются за то фиалы скорбей на землю! Они мыслят, что ум, Богом им данный, есть обман и обольщение; что знания и науки суть только хитрое сплетение сомнений; что философ и мудрец есть мечтатель опасный, заводящий во тьму. Древняя Эллада блистала мудростью и наукою – они исчезли, и – Эллада погибла. С проявлением Божественного закона, когда ум покорился ведению небесных откровений, люди отвергли его решительно, как земное нечистое брение – и чего не испытали они за то? Каких бедствий не перенесли? Близок есть час гибели – секира лежит при корне древа и гумно судеб готова возвеять лопата делателя! Времена страждут болезнью великого деторождения, и дивные чада родятся от них. Се, от Востока грядет гибель – и горе Царьграду! Се, на Западе гордый властитель Рима готовит перуны – и горе Царьграду! Но Север могущ и велик; широкоструйны моря и реки его: Калокир родился там, от крови скифа и гречанки, И возвратит он доблесть Царьграду, и будут снова мудрость на брегах Босфора и слава на стенах Седмихолмия!
Философ говорил все это в каком-то исступлении, и Калокир смотрел на него, не смея прервать его речей.
– Повеждь мне грядущее, судьба таинственная! Юноша – великое совершится: прейдут пять царств, настанут седьмая година и шестое царство. Восток и Запад дряхлеют; Север дышит дивною жизнью. Не пройти: славе Седмихолмия, если мудрость, и православие не оставят его. Настанут дивныя: Атлантида великого Платона[206] явится из недр Океана на Западе; человек снимет с облаков громы и молнии; возлетит под небеса на махинах, им созданных; без ветрила двигнется по морям; железом окует он землю и золотом разроет недра ее, чтобы прочитать в ее недрах тайны мироздания; с куском металла будет он плавать на морях[207], и послушные звезды будут показывать ему путь его; гром и молния создаст он и бросит на врагов; разложит он луч солнца, сочтет звезды, предскажет бег комет небесных! Горе непроницающему тайн, горе коснеющему во мраке! Не дивись словесам моим. Премудрость, создавшая дом свой на семи столпах, по слову Соломона, подчинила ему духов земли, когда он возжаждал ее всем сердцем, паче золота и серебра и драгоценностей Офира![208]
В начале жизнь и мудрость были едины, и человек читал в природе, как в книге, отверстой пред его взорами. Тогда сказалась она ему словом и звуком, очерком и цветом. Но тлетворное дыхание земли отягчило человека. Скрылась премудрость от взоров смертного, скрылась от людей, и открывается только взору избранного испытующего. Ведение превратилось в древо познания добра и зла. Но мудрые не погибли, как семена под снегом зимним; не скрыли они мудрости, им проявленной. Они облекли ее в символы; они изобразили ее в гиероглифах; они явили ее в науке и знании; они запечатлели ее в мифах Элевзина и Мемфиса, Дельф и Самофракии.[209]
Тогда восстало начало зла и вечную борьбу объявило избранным. Где не гонят ум, где не преследуется ведение? Сократ[210] испивает цикуту[211]; Архимед гибнет под мечом варвара[212]; Софокл влечется на суд[213], как безумный. Природа мстительна – она уничтожает памятники мудрости; меч дробит обелиски, и пирамиды разрушаются событиями…
Но мифы и символы живы, как луч солнца во мраке, его застилающем; ряды мудрых светят, как ряды звезд небесных, закрытых тучами. И таинственно сливаются судьба царств и жребий народов с жизнию и судьбою Мудрости.
Вражду и несогласие хотело посеять начало зла между Святой Истиною небес и тайнами Мудрости Земли. Да, не будет!
Велик был успех начала зла. Истребилась мудрость Египта и Эллады, Рима, Верита и Эдессы. Тогда увидели, как дряхлеет Юг и стареет Восток. Очи мудрых устремились на Север и в тамошних странах, отчизне Авариса, Замолксиса и Анархасиса, искали света[214]. И открыто им было!
Доколе море и земля, цвета синего и зеленого, пребудут символом Царьграда, основою силы его – Седмихолмие сохранится в могуществе и православии. Доколе избранные не соединятся с врагами православия – Седмихолмие сохранится в мудрости и ведении. Призови Север к Седмихолмию, и род скифа соедини с родом Константина, и сбудется надпись на гробе царя Константина Великого: «От Севера приидет свет, и мощь, и сила с величием».
Калокир слушал и невольно думал: «Если это называется у философов изъяснять, то, клянусь Зевесом, или я дурак, или он сам не понимает, что такое бредит!» – Но юноша продолжал оказывать внимание.
– Из сего поймешь ты, сын мой, почему с такою жестокостью начало зла напало на мудрых и избранных; почему возмутило оно враждою синих и зеленых, знаменовавших собою таинственное основание владычества Рима и Греции; почему возмутило оно тишину церкви ересями, и с именем еретиков соединило имя мудрых, воздвигнув на них гонение православных и поганых, верных и неверных. Увы! и мудрые сами заблуждались во мраке; лилась кровь; пламенели страсти; все казалось гибнущим, но – не погибло!
Тебе должно быть ведомо, как изъяснил это великий Епифаний[215], творец таинственных и бессмертных сочинений «Αγκυρωτον» («Якорь») и «Παναρτον» («Аптечка»), он доказал, что ереси существовали издревле, и двадесять ересей, разделенных на пять степеней, возмущали мир еще до воплощения Христова. Таковы были: варварство, до времен праведного Ноя и сынов его; скифство, до построения Вавилонского столпа, когда Фалег и Рег удалились в Скифию; эллинство, когда мудрецы поклонялись самим себе во имена ложных богов; самаританство – царство эссениев, севуенов, гарфениев и досифеев; наконец, иудейство – царство саддукеев, книжников, фарисеев, имеробаптистов, назареев, оссениев и иродиян. Но исчезли все сии зловещие тучи, и солнце правды сияло. От камения изведется глас, и дивно будет в очах человеческих – от Бога бо будет сие, а не от человека!
Когда совершилось шестое столетие от воплощения Бога слова, и близ было седьмое, Надежда воссияла в сердцах мудрых. От сынов Фалега и Рега воссел на престоле Царьградском император.
Ты не обычен к таинственным словесам мудрости, сын мой, и долго было бы изъяснять тебе смысл каждого имени, каждого символа. Буду говорить тебе просто.
Ты ведаешь, что Юстин, из простых пахарей Фракии, возведенный на престол Царьграда, был славянин, или скиф, и перемена прежнего имени его на имя Справедливого была таинственным знамением грядущего. Он передал престол Юстиниану, так переименованному из славянского Управд. Имя отца Управдова было Исток, т. е. начало, а матери Богаделеница, т. е. творящая дела Божии (Прокопий.). Льстецы, прикрывая их происхождение, наименовали отца Савватием, а мать Вигилантиею. Ты знаешь, что Юстиниан восшел на престол в 527 году. Сложи: 5, 2, 7 – получишь великое дважды семь, помножь на него 527, выйдет 7378 – великий цикл 7000 и 350, как половина 700, малого цикла; остаток 28, заключающий четыре седьмицы, когда три разделяют семь, и заключаются восьмью – 7378… Но, довольно – ты не поймешь моих числений – довольно, что Юстиниану обещано было великое: мудрость, победа, законодательство, слава храмоздания паче Соломона. И скажи: не славно ли было его царствование? Не гремел ли он победами? Не составил ли он вековечных законов? Не превзошел ли Соломона величием созданного им храма?
Но тогда-то начало зла усилило свою брань, и Юстиниан погряз в грехах и пороках. На ложе его возведена была распутная женщина; род его пресекся; царствование его было гибелью мудрости и оснований силы Царьграда.
До его времен продолжалась златая цепь мудрых, из Александрии перенесенная в Пергам, из Пергама в Афины[216], от великого Платона, мудрого Порфирия[217] и велеумного Ямвлихия до Плутарха, сына Несториева, Сириана, Эрмия, Прокла, Марина, Исидора Газского, Зенодота и Дамаския. В Афинах существовали тогда Академии платоников, Ликеи перипатетиков[218], Портика стоиков[219], Капосы эпикурейцев[220]. Юстиниан ниспроверг все, и мудрые бежали – погибнуть в изгнании, в стране, подвластной варвару Хозрою!
До его времени соблюдались на Ипподромах, знаменателях силы и величия, таинственные символы синих и зеленых. Он погубил их враждою и союзом, и с восклицанием: будь победитель! – они пали в ничтожество; имена их сделались с того времени игрушкою праздных. И погибла надежда избранных!
Но ничто не гибнет. Избранные сохраняются. Ты видишь во мне бедный остаток, последний луч мудрости и знания; Афанас есть последний луч зеленых, и с ним соединен последний луч синих, друг его Порфирий. Вот остатки того, что тройственно должно восстановить православие, мудрость и силу. По гласу нашему придут тысячи, дремлющие беспечно. А ты, юноша! ты – обречен быть вторым Упр_а_вдом на престоле царьградском!
«Как, отец мой?» – воскликнул Калокир.
– Да, только не с именем Юстиниана, но с именем Калокира – изящества и господства, красоты и величия (Καλος – Κυριος.). Се, жребий твой.
Если бы кто-нибудь за минуту спросил у Калокира: понимает ли он что-нибудь из речей философа? – он поклялся бы, что ничего не понимает. Но теперь, когда увидел он вывод запутанного многословия, ему все казалось чрезвычайно понятным, и голова его закружилась…
– Да, юноша, ведай, что в тебе видят избранного мудрые и сильные. Все падет окрест тебя и пред тобою – уничтожится бессмысленный ругатель мудрости, губитель знамений силы, Никифор, дерзающий думать, что он может истребить остаток философов и остаток синих и зеленых. Пусть истребляет он привидения их – «синие» и «зеленые» таятся во маке и воссияют светлою звездою в трех лучах мудрости, православия и силы.
Юноша! ты природный славянин, ты скиф! Тщетно после Юстиниана устремлялись ереси, безбожие, зловерие, стараясь истребить философов; тщетно и сами философы заблуждались, приставая к ересям; тщетно и синие и зеленые боролись, падали, исчезали; тщетно и род славянский уничтожался на царьградском престоле и заменялся родами исаврийскими и македонскими.
Судьбы не победит воля человеческая. Видно, что еще не наставало тогда время победы; надобно было прежде просветить Скифию святою верою и потом произрастить в ней ветвь спасения. Внимай же и дивись: при похитителе престола, Василии Македонском, славянам суждено было восхвалить Бога истинного на своем языке[221]! Внимай и дивись: родной сын Василия, Александр, хотел уничтожить род свой[222] и заменить его возложением императорского венца на главу славянина: ты знаешь, что Александр думал обречь монастырской обители Константина Порфирородного и облечь порфирою Гавриила, сына Василиева, славянина мудрого (Кедрин[223] и Зонара[224].). Похититель Роман Лакапин истребил род Гавриила; но что же? Скифская царица[225] пришла из отдаленной Киовии принять крещение, как будто возвещая близкое пришествие славян на престол царьградский, и в тебе, утаенном от меча убийц, сохранился род мудрого Гавриила. Юностью, умом и знанием цветешь ты при Дворе Царьградском, и никто не ведает, что ты есть сей благословенный плод, на который устремляются упования сильных и избранных; что в тебе примирятся Юг и Север, и тобою процветут мудрость, сила и вера!
О юноша! клянись мне, что ты будешь поборником православия и дашь место мудрости и мудрым при Дворе твоем; что ты будешь всегда допускать истину и правду до слуха твоего; что ты не почтешь мудреца злодеем и любомудрого врагом своим; что ты не смешаешь понятия о науке и знании с богопротивною ересью!
«Клянусь, отец мой!» – с жаром воскликнул Калокир, подымая руку над головою.
– Хорошо, благо тебе, благословение роду твоему! Но, клянись же мне еще исполнить то, что я скажу, тебе…
«Отец мой!»
– Клянись, или благословения не будет над тобою.
Увлеченный словами и видом философа, Калокир произнес страшную клятву, которую сказал ему философ, еще не зная, в чем клянется он.
– Клянись, что ты не взойдешь на престол царьградский ни хитростью, ни изменою, ни убийством; что ты не возложишь рук своих ни на Никифора, ни на детей Романа, ни на мать их, ни на весь род их!
«Отец мой!»
– Ты колеблешься…
«Но, я не понимаю…»
– Так неужели ты думал, что я возьму участие в деле, которому основанием будет убийство и измена? Или забыл ты, что Никифор и дети Константина императоры и владыки, забыл слово Божие: не прикасайтеся помазанным моим, мною бо царие царствуют?
«Но как же достигну я…»
– Так неужели мыслишь, если ты от веков избран и судьбою предназначен, мыслишь, что людской разум возведет тебя к чести и славе, рука человеческая будет предводить тебя? Слепец-юноша! Тот, кому небо престол, кто коснется горам – и дымятся, уравняет пути твои и проведет тебя по безднам моря! Веруй, знай свое высокое назначение и уповай на помощь неведомую! Она предыдет тебе, и как Гедеону ангел, возглашая: Господь с тобою сильный крепостью!
Юстиниан думал, что уже навеки истребил синих и зеленых, но четыре века прошло и они живы во мраке и гонениях. Он мыслил, что истребил мудрых и избранных, но они живы в наследниках златой цепи философов православных, умевших помирить мудрость языческую с истинами святой веры. Македоняне хотели казаться покровителями мудрости; Василий, Лев и Константин думали быть философами, и – не было им дано! Но в то же время мудрые существовали, и, утаенная вблизи, далеко гремела слава их между неверными и варварами. Когда казалась потухшею последняя искра философии, когда после Юстиниана и Копронима, казалось, угасло на веки светило разума, и на голос мнимых покровителей сбежались, как псы к трапезе, только бессмысленные риторы, суесловные витии, лжемудрые софисты, от Востока пришел глас. Халиф зловерный, Аль-Мамун[226] пишет к Феофилу[227]: «У тебя в Царьграде есть звезда мудрости, философ Леон. Он укрывается в бедной хижине; отдай его мне, и он будет обитать во дворце моем. Я сам пришел бы в Царьград внимать его учению, но не могу оставить престола, Богом мне врученного. Отдай мне мудрого Леона. Знание есть благо общее, и деля его, мы все обогащаемся. Возьми от меня 2000 литр золота и отпусти ко мне Леона». Изумился Феофил и не хотел поделиться даром Божиим. В хижине найден был мудрый Леон и в чертогах царских поведал мудрость. Но – горе мудрому, егда не настало время его! Имея уши – его не слышат, имея очи – его не увидят, имея разум – его не уразумеют!..
Задумчив и молчалив сидел Калокир, и философ, утомленный многоречием, казалось, отдыхал, также в молчании. Тускло горела лампада. Оба собеседника; не заметили, как вошел и стал подле них человек высокого роста, с длинною черною бородою. Калокир вздрогнул при его нечаянном появлении, но он всмотрелся в него и с радостью протянул к нему руку:
– Почтенный Афанас!
«Здравия Калокиру!»
Афанас посмотрел на философа и Калокира.
«Вижу, что мой мудрый друг открыл уже тебе, юноша, тайны наши, тайну судьбы твоей»,
– О Афанас!
«Или ты ужасаешься грядущего? Еще есть время, еще ты можешь отказаться… Только после сего не выйти тебе отсюда», – прибавил Афанас вполголоса.
– Нет, благодетель мой! Я предаюсь вам!
«Ты можешь назвать меня благодетелем, юноша; но, в самом деле, мои благодеяния корыстны. Честь и слава Царьграду! Вот для чего трудился я».
– Честь и величие мудрости! – воскликнул философ.
«Разумеется, – прибавил Афанас, улыбаясь. – Но я не умею говорить так, как говорит мудрый друг мой. Я воин и разговариваю мечом, убеждаю копьем, доказываю стрелами.
Калокир! еще мы равны. Будешь ты на престоле царьградском, и я первый преклоню колено мое пред тобою. Теперь еще не настало время для лести и обрядов.
Калокир! ты должен мне поклясться в том, чего потребую я за труд мой! Внимай: ты должен восстановить в полной силе все древние права синих и зеленых».
– Только? – спросил с удивлением философ.
«Другие условия до меня не касаются».
– Я обещаю тебе, почтенный Афанас, что древние права Ипподрома будут для меня священны и ненарушимы.
«Клянись! И вот та клятва, которую должен ты произнести!» – Афанас подал Калокиру медную дощечку, на которой была вырезана форма присяги. Калокир начал читать ее вслух, и – останавливался! Так страшна была клятва эта.
– Кажется, ты колеблешься?
«Не колеблюсь, но страшусь – не грех ли на душу клятва предметами столь священными, столь ужасная клятва! Господь запрещает клятву, и неужели недостаточно одного слова моего?»
– Я давно отвык верить словам и самим клятвам худо верю, но все-таки они повернее. Время, когда достаточно было слов: ей-ей и ни-ни – это время давно прошло! И притом, не разделяю ли я греха твоего? Горе идущему, горе ведущему! Ты должен произнести клятву; потом кровью подписать свое обещание…
«Такие ужасные обряды…»
– О житель Царьграда, о придворный императора царьградского! Неужели думаешь ты хитрить со мною? Если это пустой обряд – что за беда исполнить его? Если же ты намерен сдержать клятву – что за опасение произнесть ее?
«Слово грешное губит душу так же, как и дело, – начал философ. – Мой почтенный друг! самое отречение юного избранника нашего от клятвы не доказывает ли тебе искренность слов его? Опытный в хитростях, испытанный в лукавстве отречется ли сделать все, только бы достигнуть исполнения желаний своих?»
– Мудрый человек! Ты не знаешь мира и людей, и дел людских, ты, знающий течение светил небесных и умеющий понимать язык зверей и птиц! Если он содрогается теперь произнесть несколько страшных слов, не содрогнется ли он, когда надобно будет приступить к делу и по трупам и крови идти к цели своей… И потом, когда сядет он на престол, и его окружат измена и хищения, и ковы врагов…
«Давно изрек премудрый Пильпай: два рода людей окружают престолы: хитрецы, жаждущие злата и чести, и глупцы, которых самая зависть оставляет в покое (Перевод Сефа, Отд. X.). Но дело владыки воцарить с собою мудрость и ее призывать в совет, а не хитрости, и не ухищрению повелеть заседать с собою, но…»
– Да, ваш Платон какой-то, говорят, давно написал обо всем этом[228] толстую книгу, которую никто не читает! Говорить о деле и делать – великая разница. Тебе, мудрый друг мой, предоставил я первое – беру себе другое!
«Делать? Что ты разумеешь под этим словом?».
– То, что настало время для действия и никогда не было оно благоприятнее нынешнего. Разные бедствия вдруг, как будто с неба, свалились на нас, то дождь, то жар, то землетрясение; победа, кажется, села отдыхать на берегах Эвфрата; с берегов Дуная грозят нам большие хлопоты, и главное – последние действия Никифора раздражали народ, и забавная шутка его на Ипподроме совершенно разрушила в сердцах народа все, что приобрел он несколькими годами. Как все это счастливо случилось! Трудно было бы бороться с Никифором, когда бы, по-прежнему, он въезжал победителем в Царьград. Но теперь несколько переломанных рук и ног затмили в глазах народа все его дела и победы. Ха! ха! ха! Смейся мудрец над суетою человеческою и думай о том, как от малых причин происходят великие события! Весь Царьград вопиет теперь против Никифора: он не желает блага своему народу; он грабит его, отбирает у него даже коней и колесницы – пощадит ли имение? Он ведет безумные войны; он хочет, как Дарий, идти в Скифию и погубить там юношество царьградское[229]. Теперь время – пользуйтесь минутою, или она пролетит, и все пропадет, и при первой победе Никифора народ опять увидит в нем Бога земного.
«Что называешь ты: пользоваться минутою?»
– Разумеется: немедленно уничтожить Никифора и весь род Македонский. Друзья наши готовы – три галеры пустятся к Царьграду по знаку моему, и в двадцати легионах воскликнут: Смерть македонцам! Завтра же не останется следа их.
«Юноша, – сказал хладнокровно философ, обращаясь к Калокиру, – помни клятву, тобою мне данную!»
– Какую клятву? – воскликнул Афанас, сдвигая вместе свои черные брови.
«Клятву в том, что Калокир не проложит пути к престолу убийством и хищением».
– Как? Что ты говоришь?
«Говорю, что Калокир поклялся мне в этом и должен исполнить то, в чем поклялся».
Афанас побледнел. Рука его невольно взялась за кинжал. «И ты согласился, Калокир?»
Калокир не знал, что отвечать..
– Говори, юноша! – вскричал Афанас.
«Да, говори, – повторил философ, – говори смело, противопоставь твердую мудрость страстям человеческим, говори, что ты не хочешь лишиться благословения Божия, принимая участие в убийстве и смерти, грабеже и бедствиях, какие изливаются на Царьград, если только с мечом убийцы ты решишься исполнить судьбы – Божественные!»
– А! я этого не знал. Следовательно, мудрый друг мой! ты приготовил какие-нибудь другие способы для исполнения наших намерений? Ведь нельзя же Калокиру нашему прийти просто во дворец Никифора и сказать ему: «Позволь мне сесть на твое место, а ты поди в темницу, потому что мне велит судьба быть владыкою царьградским». Кажется, это невозможно?
«От человека невозможно, но все возможно от Бога, если есть на то его святая воля».
– Но Бог дал человеку ум и руки, и неужели ждать чудес?
«Не богохульствуй, Афанас, или горе тебе! Или мнишь ты своею бренною рукою совершить волю Божию?»
– Ну, не моею рукою, положим; но что же ты придумал?
«Я? Ничего я не думаю и не придумал». И философ начал обширное изъяснение о том, как слаб и ничтожен человек, как судьба разрушает его замыслы, и там восстановляет силу, где была слабость. Он приводил в пример Ирода и Юлиана отступника[230], Псамметиха[231] и Антония[232], и заключил любимыми изречениями Пильпая: не раскаиваются только два рода людей – не делающие зла и творящие добро; четыре предмета суть изображения пустоты и запустения: река без воды, царство без царя, жена без мужа, человек без ума; три человека должны быть осторожны: кто приступает к злому делу, кто идет на крутую гору, кто ест рыбу.
– А как называются те люди, которые рассуждают о том, чего сами не знают? – вскричал, наконец, Афанас с досадою. – Мудрый друг мой! я уважаю тебя, но теперь не тебе действовать должно. Какая нелепая – подлинно философская мысль: связать клятвою Калокира! Ты связал ноги человека и говоришь ему: бегай! Видно, что Богом определено философу рассуждать и думать, а не мешаться в дела государственные – особливо войну.







