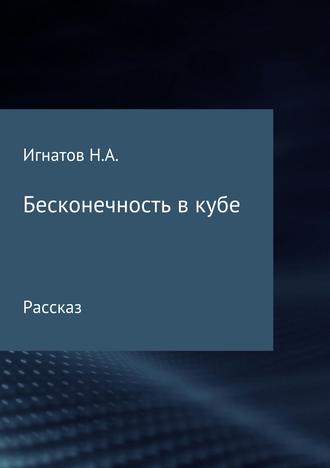
Николай Александрович Игнатов
Бесконечность в кубе
«Ясно всё. Пьёте. А я думаю с порога – что за вонь?! – сказала она совсем не злобно, а как бы с легким укором, – Привет, Денис, кстати. Игорь, я спать, не шумите сильно и когда курите, окно открывать не забывайте, а то мать завтра вернётся, опять ругать будет, что все обои прокурили. Ага, мальчики?»
Только она собиралась закрыть дверь и уйти в свою комнату, как Кочан (пьяный свин) её остановил: «Погоди, Галька! Куда ж ты? За ремнём? Так вот он… вот он лежит, на возь…возьми».
Голос его был каким-то жалостливым, срывающимся, и очень пьяным.
«За каким ремнём?», – посмотрела Галя на брата с недоумением.
«Которым вы с ма…терью душили меня, пока я спал!» – взвизгнул Кочан, задрав голову и ткнул себя указательным пальцем с длинным грязным ногтем в шею.
Лицо Гали почернело и глаза её налились слезами, хотя она изо всех сил сначала делала вид, что не понимает о чём он говорит.
«Что? Что он мелит, Денис? – обратилась она ко мне, но я только пожал плечами, – Вы совсем перепились что ли?! Кого душить? Я… мама… Тебя?!»
Последние слова она произнесла сквозь слёзы.
«Да что ты невинной прикидываешься? Я знаю! Знаю, что ты… мать и ты… вы давно хочете, чтоб я сдох! Надоел я вам и всё тут!»
Галя заревела и, как была в дверях, так и опустилась на пол, закрыв руками лицо.
«Динька, вишь какая артистка, – повернулся Кочан ко мне и кивнул в сторону сестры, – Во, глянь… как разошлася! Слёзы в три ру…чья. Кабы не знал её столь…ко лет, а и поверил бы!»
Взгляд его теперь стал совершенно пьяным, левый глаз был сощурен полностью для фокусировки вида.
Я оставался безучастным. Ни желания заступиться за Галю, на которую так гадко клеветал этот пьяный кретин, ни даже просто как-то вмешаться в сцену я не хотел. Да и не считал нужным – эти их бытовые семейные склоки были, в общем, привычным делом, и причины их были мне ясны давно. Всё, конечно, от боли, от труднопереносимой, душевной боли, от которой никто из них не мог скрыться, а посему и выбрасывали они периодически эту боль на того, кто ближе всех и роднее. Как бы в подтверждение моих мыслей, Галя вдруг перестала реветь, ловко вскочила на ноги (даром что толстуха) и, подбежав с искаженным злобой, заплаканным лицом к брату, начала неистово его молотить. Кочан сначала ничего не понял, не успел сообразить и уловить, так сказать, момент, по причине сильного опьянения, поэтому первые две-три пощёчины смачно и размашисто легли на его небритую рожу. Потом он вскидывал руки, стараясь защититься, но ему это мало помогало. Галя дубасила его с остервенением, потому быстро устала и удары её стали редки; а слёзы, меж тем, вновь появились на глазах её, она начала всхлипывать и говорить: «Сволочь ты сраная! Душить тебя! Ах ты сволочь неблагодарная! Да мы с матерью… да я замуж выйти не могу… И не выйду никогда, потому что за тобой, козлом, говно прибирать надо… потому что…»
Она совсем ослабела, её руки опустились, и сама она, вся обмякнув, снова сползла на пол и закрыла руками дрожащее в судорогах лицо. Кочан не проронил ни слова во время всей недолгой экзекуции; лицо его было красным от пощёчин, на левой брови виднелись даже капельки крови. Он убрал руки от головы и уставился на рыдающую сестру. По его пьяной физиономии нельзя было совершенно понять, что он думает, и тем более, что сейчас сделает: ударит сестру по голове, засмеётся или заплачет сам.
Мне вдруг стало ужасно скучно находится в переднем ряду на этой семейной драме, виденной, к тому же, мною уже не раз, и я молча встал и пошёл к выходу. Алкоголь действовал на меня всё слабее в последнее время и, напяливая кроссовки в прихожей, я уже был почти трезв. Кочан и Галя не обратили на мой уход никакого внимания. Завязывая шнурки, я слышал доносящиеся из комнаты слова: Игорёшка бубнил что-то жалостливо, а сестра довольно громко перебивала его, словами: «…скотина! И мать не бережёшь! Оттого она и пьёт! Сволочь! Да я на своей жизни крест поставила из-за тебя, гадина, а ты… неблагодарный…». И всё в таком духе. Громко хлопнув дверью, чтобы обозначить своё отбытие, я ушёл домой.
Дочитав это письмо, Олег взглянул на часы. Было уже поздно. Он уже достаточно выпил, и накопившаяся усталость неумолимо тащила его арканом в кровать. Посчитав, что двух десятков писем на сегодня достаточно, Олег пошёл спать. На душе у него было тяжело от прочитанного, и, вместе с тем, сладкая до приторности печаль разливалась по сердцу его от воспоминаний об их с братом детстве.
......................................................................................................................................................................
В другой раз он присел за письма только через две недели, когда вновь выдались свободные вечера. Долго вспоминая, на чем именно он остановился, Олег вынужден был некоторые записи прочесть повторно. Дойдя, наконец, до нужных, нечитанных еще, он наткнулся среди прочих на одно особенно длинное. Его он решил пропустить и прочесть позже, потому хронология (которая и без того еле присутствует) здесь совсем нарушается. Среди вызвавших интерес писем были следующие:
03.04
…сегодня вспоминал всё утро про Миклона. Когда я вышел из дома, было ещё темно и обугленные останки деревянного барака смотрелись в зимнем полумраке особенно печально. Сколько лет уж прошло, а никто эти руины так и не снёс, никому, видать, нет до них дела. Я поймал себя на мысли, что, хотя и хожу каждый день мимо этих засыпанных наполовину землёй и заваленных мусором фрагментов сгоревшего барака, давно перестал обращать на них внимание. Сегодня вот обратил. Мне тогда лет 11 было, когда случился тот пожар. Наш дом – сталинская пятиэтажка, углом к ней пристыкована ещё одна, а под ними, метрах в пятидесяти жалко сутулился двухэтажный деревянный барак. Срок деревяшки давно вышел, она жалобно глядела грязными окнами в равнодушное серое небо, прося пощады и избавления от опостылевшего дряхлого существования. Но небо было непреклонно, и земные представители его в лице администрации города, приказывали бараку жить и продлевали его муку магическими манускриптами с порядковыми номерами и заголовками вроде «приказ» и «постановление». Двор у нас с «деревяшечниками» был общий и, помню, детворы собиралось порой много. Люди, в большинстве, жили в бараке приличные, только вечно сетующие на бытовые неудобства (отсутствие канализации и центрального водоснабжения, к примеру) и мечтающие о лучших жилищных условиях. Но куда ж без алкашей?! Их тоже там хватало.
В общем, жил там один паренёк, звали его Миша, но все остальные дети из барака звали его Миклон. Вроде как он похож был на одного актёра из сериала «Клон», который тогда крутили по ящику. Миша был болен, кажется у него был ДЦП. Он был высокого роста, хотя, возможно, это тогда мне так казалось, потому как сам я был ещё совсем мелким; левая рука Миши была всегда неестественно скрючена в двух местах, а на лице его навечно запечатлелась глупая кривая улыбка. Это потом уже, повзрослев, я понял что и согнутость руки и гримаса на лице – следствия паралича, а в детстве я, как и все дети, просто думал, что вот, дескать, какой ты, Миша, уродец несуразный.
Вообще, он был добрый, застенчивый, хотя и стремился к общению. Его всегда влекло в компанию, несмотря на то, что почти все во дворе над ним издевались и смеялись. Злые, от каких-то затхлых северных ветров зачерствевшие дети. Миша не обижался, а только порой глаза его наливались печалью и это очень смешно выглядело на фоне его постоянной кривой улыбки.
Возможно его не столько тянуло к другим детям, сколько просто прочь из дому, потому, что дома ему было хуже. Родители его были неизвестно где, а жил он с теткой. Она порой неслабо сидела на стакане и часто била его за любой проступок, при этом крики её были слышны через открытое окно на весь двор. Хотя, конечно, она, должно быть, любила племянника, и вся злость её была следствием гнетущей усталости от трудностей одинокого воспитания и содержания непростого ребёнка. К тому же, ей страшно было взглянуть в будущность его: что она могла увидеть там такого, что придало б ей сил, а не ввергло бы в панику и депрессию?!
Миклон был старше всех детей во дворе, думаю ему было лет семнадцать, не меньше.
Одет он был как попало, но одежда и обувь его почти всегда были чистыми. Хотя, порой его наряд покрывался грязью и пылью уже через каких-нибудь двадцать минут после выхода на улицу. Ребята от скуки издевались над ним по-разному. К примеру, кто-то из них показывал пальцем ему за спину и восклицал с серьёзным лицом: «Смотри, Миклон, слона ведут!», Миша, конечно же, поворачивался (причём всем телом, повернуть одну голову ему было тяжело), и тут же один из ребят сильно пинал его по заду. Все смеялись и всем казалось из-за его лицевого паралича, что и он тоже смеётся; что, видимо, он легко мирится со своей ролью урода и мальчика для битья, оттого и сам приходит к ним, оттого и не убегает от них. Но, Мише, как потом выяснилось, было совсем не до смеха. Или вот ещё: кто-то из компании отвлекает Мишино внимание какой-то болтовней, спрашивает о чем-то, а другой придурок подкрадывается к нему сзади и садится на корточки под ногами его, нагнув спину; первый тут же сильно толкает Мишу и тот смачно и очень болезненно шмякается спиной оземь. Снова смех, да ещё сильнее, потому как Миклон, калека, и подняться толком со спины не может, а всё вертится, как жук и мычит: «ууу, мууу, а-стаать не моогуу», и лыбится, дурачок.
Говорил он ужасно, точнее говорить он почти не умел, ограничивая общение кивками, мотанием головой или простыми словами, типа «да», «нет» и проч. В общем, жил Миклон себе, жил своею Миклоновой неполноценной жизнью, а туман будущности его всё густел и чернел.
Однажды, помню, я сидел во дворе один. Было еще совсем рано, а может, было время к обеду, не помню точно, но почему-то никого из ребят больше не было. Миша подошёл тихо, я даже не услышал его шаркающей походки. Он стоял и смотрел на меня со своей нелепой кривой улыбкой и в глазах его я видел радость. Радовался он, видимо, тому, что застал меня одного, а я никогда не участвовал в идиотских надругательствах над ним и называл его почти всегда только по имени, потому как не любил этот скучный сериал.
Миша вдруг замычал чего-то и затряс правой, здоровой рукой. Но лице его выказалось напряжение, он силился сказать что-то, но выходило только: «ууу». Он протянул ко мне правую руку, и я увидел в ней старый потертый кубик Рубика.
«Ууу…уубик…ааа…абери» – промычал Миша и я понял чего он хочет.
Около часа мы с ним пытались собрать этот чертов кубик, точнее пытался собрать я, а Миша сидел рядом и взвизгивал как щенок от восторга. И восторгался он не просто моей возможностью использовать обе руки, а ещё тем, должно быть, что он может просто сидеть с кем-то вот так во дворе, даже играть, и его никто не бьёт, никто не оскорбляет и не подшучивает над ним.
Вскоре явились ребята. Миша сразу скис, осунулся, его глаза опустели и теперь застывший паралич улыбки смотрелся с такими глазами жутковато. Только завидев детвору, он быстро встал с лавки и пошёл домой. Кубик его остался у меня.
Где-то через пару дней, кажется, случилась та беда, что перечеркнула жизнь Миши и наложила печать уродства на все наши судьбы. Их барак загорелся. Пожар возник поздно вечером в одной из квартир первого подъезда, наверное в одной из тех, где жили алкаши… Миша жил во втором подъезде, а почти все остальные ребята из «деревяшки» – в первом.
Как сейчас помню: все стоят возле полыхающей половины дома, а огонь упрямо расползается по гнилым доскам фасада к другой половине. Казалось, поглазеть на пожар собрались все жители нашего двора. Взрослые отгоняли любопытных детей подальше от пламени, сами, при этом стояли довольно близко. Все, кто жил во втором подъезде успели, вроде как, выбежать на улицу и стояли кто в чём, глядя дикими глазами как в угли обращается их жильё, их скромные пожитки, их жизни.
Кто-то кричал, что из первого не все выбежали; кричали, что на втором этаже остались дети… и что они не могут выйти из-за упавшей горящей балки. Миша, стоявший где-то чуть позади, вдруг побежал в свой второй подъезд, к которому уже близко подбирался огонь. Через минуту он выбежал в старой кроличьей шапке и с жёлтой дубленкой в руке. Никто, кроме меня, по-моему, не обратил на него внимания. Он скрылся за углом дома, за которым одиноко горбатилась водонапорная колонка, единственный источник воды для жителей барака. Миша появился внезапно, буквально через полминуты, прямо у горящего подъезда; он надел дубленку, а шапку перетянул на подбородке резинкой. Со всей его зимней одежды ручьями текла вода. Все, кто его увидел, не поверили глазам, многие кричали, чтоб он не вздумал лезть в огонь. Но он полез. Почти не мешкая, Миша шагнул в пламя и невероятным усилием сумел сдвинуть горящую балку с прохода, при этом сильно обжег руки и лицо. Затем он поднялся на второй этаж. Через несколько секунд из подъезда выскочили кашляющие и обожженные, совершенно обезумевшие от ужаса дети, брат и сестра. Одни из тех, кто активнее всех издевался над Мишей. Их родители, не веря своему счастью, быстро увели их в сторону. Миша всё не выходил. Кто-то уже рвался идти за ним, собираясь тоже, по его примеру, надеть всё зимнее и мокрое, но остальные останавливали. «Куда? Уже поздно! Сейчас крыша рухнет!»
Крыша и вправду трещала и вся ходила ходуном, обещая обвалиться с минуты на минуту.
Где-то уже не так далеко послышалась пожарная сирена.
Тетка Миши, совершенно протрезвевшая от страха и горя, бегала вдоль дома и что-то кричала охрипшим голосом. Её пытались успокоить, но куда там! Дом горел как порох, пламя становилось всё жарче.







