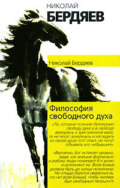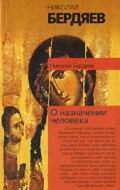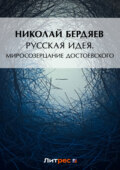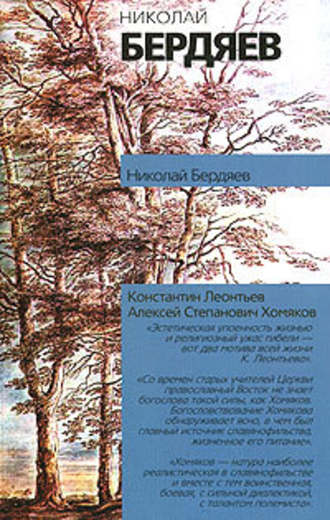
Николай Бердяев
Константин Леонтьев
К. Н. был эстет, он любил красоту и чувствовал красоту. Но эстетический вкус его не был безупречен. В нём не было настоящей утончённости западных эстетов. Его эстетическая культура не была достаточно высока. Выбор книг для чтения не отличался у него особенной изысканностью. Наиболее компрометирует вкус К. Н. то, что он любил стиль эпохи Александра III и способен был восхищаться им. Но ведь стиль эпохи Александра III был верхом безвкусия, упадком, смертью старой красоты, симптомом крушения русской монархии. Всё, что было выстроено в эту эпоху, отличается исключительным безвкусием и уродством. Весь дух этого царствования лишен красоты. В критических оценках К. Н. ему иногда изменяет вкус. Так, например, слишком большие восторги перед Б. Маркевичем не свидетельствуют о безошибочности вкуса. Является даже подозрение, что К. Н. восхваляет Маркевича как романиста за его консервативное направление. Но это – то же самое, что восхвалять художника за его прогрессивное направление. Есть недостаток вкуса и в «русской поддевке», которую К. Н. носил из эстетического протеста против Запада.
Очень характерна для эстетизма К. Н. статья «Несколько воспоминаний и мыслей о покойном Ап. Григорьеве», недавно напечатанная в «Русской мысли». Ап. Григорьев – замечательный и мало ещё оцененный русский критик. У Ап. Григорьева, подобно самому себе, К. Н. видит искание самой жизни. Ап. Григорьев не был близок со славянофилами, которые относились к нему подозрительно. Он был выразителем иной русской стихии, стихии разгульной и чувственной. К. Леонтьев явно более сочувствовал Григорьеву, чем славянофилам, с их добрыми семейными нравами. Поэзия разгула и женолюбия, по его мнению, таится в самых недрах русского народа. К. Н. влекло к Ап. Григорьеву его менее строгое отношение к женскому вопросу, чем отношение славянофилов, а также его более теплое отношение к европейскому прошлому. Бытовые добродетели славянофилов были чужды К. Н. Он был более церковен и более православен, чем славянофилы, но исключительно в монашеско-аскетическом духе. Ему, как и Ап. Григорьеву, страшна была безличность, а не порок. Вообще в К. Н. не было солидности и академичности, не было бытовой устроенности и слишком большого бытового благообразия, как у славянофилов. Он был шипучий человек. Он не советует А. Александрову делаться профессором, так как профессура не совместима с поэзией. Когда Александров женится на женщине круга, ниже его стоящего, К. Н. в письмах неустанно преподает эстетические советы и заботится о том, чтобы жена была comme il faut. Сам К. Н. был поэт жизни и монах, никаких других жизненных перспектив у него не было. Кроме поэзии монашества, он ничего не любил и не искал. Вот как описывает К. Н. свою радость жизни в письме к Е. С. Карцевой: «Скоро я буду, наконец, у себя в моей милой деревне, где петухи даже не смеют кричать громко, когда я пишу, где племянница обходит задами флигель мой, опасаясь нарушить поэзию мою тем, что, может, что-нибудь в походке её мне в эту минуту покажется некрасивым и моё созерцательное блаженство будет чуть-чуть нарушено… Опять зелень двора моего, опять столетние вязы над прудом; опять тринадцатилетняя Варька в красивом сарафане, которая подаёт мне прекрасный кофе, и всё по-моему, на японском подносе, и всё там стоит, где я хочу, и лежит там, где я желаю… Опять всенощная на дому по субботам… И шелест бесподобных рощ, и свирельки, и цветы полевые, и свидания с оптинскими старцами». В этом описании чувствуется весь Леонтьев.
Глава V
Учение о миссии России и славянства. Самобытный тип культуры. Критика национализма. Византизм. Неверие в русский народ. Предсказания о русской революции
I
Вопрос о России, о её судьбе, о её призвании в мире всегда был центральной темой размышлений К. Леонтьева. Он мучился о России. И у него было своеобразное учение о России, не похожее ни на учение славянофильское, ни на учение западническое. Взгляды К. Н. на будущее России претерпели большое изменение. Они были сначала оптимистическими, он был полон надежд и не свободен от иллюзий. Под конец взгляды эти сделались очень пессимистическими. Он доживал свою жизнь в состоянии почти полной безнадежности. Он не побоялся взглянуть действительности прямо в глаза и отказался от мечты всей своей жизни, разбил все свои надежды, уничтожил все иллюзии. У него было истинное бесстрашие, бескорыстие и свобода мысли. К. Н. принужден был изменить фактическую оценку, но он остался верен своему принципу. У него было очень оригинальное учение о национальности, заслуживающее серьезного внимания. Он не только не был националистом, как это может показаться на первый взгляд, но он был идейным врагом национализма. Племенное, кровное начало не имело для него самодовлеющего значения, и он относился к нему подозрительно. Подобно Вл. Соловьёву, он был универсалистом. В основе для него лежали универсальные начала, идеи, которые владеют национальной стихией и ведут к национальному цветению. Разложение и падение этих идей ведет к разложению и падению нации. Для Вл. Соловьёва такой универсальной идеей была по преимуществу римская идея, для К. Леонтьева – византийская идея. Он верил не в Россию и не в русский народ, а в византийские начала, церковные и государственные. Если он верил в какую-нибудь миссию, то в миссию византизма, а не России. И миссия эта была мировая. Византизм – мировое, а не национальное начало. Националистического партикуляризма у Леонтьева нет. Без организующего и оформляющего действия мировых византийских начал русский народ – ничтожный и дрянной народ. В русский народ К. Леонтьев не верил, не верил с самого начала. Он относился в высшей степени подозрительно ко всякой народной стихии. Народная стихия есть лишь материал, который должен обрабатываться не народом, а универсальными началами, великой идеей. Важен не народ, а великая идея, которая владеет народом. Церковные и государственные начала для К. Н. выше национальных. Это совсем не славянофильская постановка проблемы. «Я не понимаю французов, которые умеют любить всякую Францию и всякой Франции служить… Я желаю, чтобы отчизна моя достойна была моего уважения, и Россию всякую я могу разве по принуждению выносить». Он предвидел уже возможность такой России, которую он не будет любить и лишь по принуждению будет выносить. Либерально-демократической и атеистической России он любить не хочет. Идея для него дороже России. В этом он родствен Вл. Соловьёву, хотя идея его была иная. Леонтьев и Соловьёв явились на почве упадка и разложения славянофильства. Они живут в эпоху разрушения бытового уклада, вспоившего старых славянофилов. У К. Н. уже не столько органическое, сколько эстетическое восприятие русского народного быта. Эстетизм К. Н. и есть показатель того, что он был упадочником в славянофильской полосе мысли. Его философия есть философия отчаяния. Славянофильская же философия была благодушна. Резко расходился К. Н. со славянофильской школой и в своём отношении к Европе. Он никогда не думал, что в самых истинах европейской истории и европейской культуры (католичество, феодализм) были ложные и гнилостные начала, которые делают Европу низшим культурно-историческим типом. Несмотря на византизм, ему чужда была та идея, что истинна и высока лишь цивилизация, основанная на православии, и низка и ложна цивилизация, основанная на католичестве. Никогда не восставал он против аристократизма Западной Европы, против её рыцарства, как восставали славянофилы. Он ненавидел лишь современную, либерально-эгалитарную Европу, лишь торжество мещанства. Это совершенно другая постановка вопроса, чем у славянофилов. «Пока у Запада есть династии, пока у него есть хоть какой-нибудь порядок, пока остатки прежней, великой и благородной христианской и классической Европы не уступили места грубой и неверующей рабочей республике, которая одна в силах хоть на короткий срок объединить весь Запад, до тех пор Европа и не слишком страшна нам, и достойна и дружбы, и уважения нашего». Восток и Россию он ценил лишь потому, что надеялся, что они остановят торжество безбожия и демократического мещанства. «Если Запад впадет в анархию, нам нужна дисциплина, чтобы помочь самому этому Западу, чтобы спасать и в нём то, что достойно спасения, то именно, что сделало его величие, Церковь, какую бы то ни было, государство, остатки поэзии, быть может… и самую науку! (не тенденциозную, а суровую, печальную)». В этих словах нет никакой национальной исключительности. К. Н. совершенно не разделял обычных взглядов славянофильской школы на западную историю. Он высмеивает полемику славянофилов против западного двоевластия, против образования власти путем завоевания и против рационализма в Церкви. «Ещё остаётся вопросом – можно ли без независимости Церкви, без рыцарской аристократии, без борьбы сильных и резких сословий и истекших из этой борьбы договоров – можно ли создать столько великих вещей, сколько создал их старый, то есть прежний, Запад. А уподобиться новому Западу очень легко и без всего этого феодального и римского «зла». Разрушиться можно и без папства, и без рыцарства, и без договоров. Быть может, даже легче и скорее, не имея таких могучих реальных сил в своем прошедшем, чем переживши их. Почва рыхлее, постройка легче… Берегитесь. Поэтому не в том радость, что у нас не было двоевластия, а в том горе, что у нас Церковь слишком зависима от светской власти». Исторические взгляды К. Н. были объективнее, беспристрастнее и во многом вернее славянофильских, в которых была искажена история в угоду национальным симпатиям и самолюбиям. Историческая теория славянофильской школы не выдерживала серьезной критики. Оценки же К. Н. не зависят от исторической теории, они носят характер эстетический и религиозно-философский. Политическая мысль его была независимее и свободнее славянофильской, он был поистине свободный мыслитель.
Так же отличались и взгляды К. Леонтьева на русскую историю от традиционно-славянофильских. Он любил Петра Великого и высоко его ценил. Период цветущей сложности и разнообразия русской культуры он связывал не с допетровской эпохой, не с царствованием Алексея Михайловича, а с эпохой Петра Великого и Екатерины II. Европеизация России в то время его нисколько не отталкивает, он её оценивает положительно. «До Петра было больше однообразия в социальной, бытовой картине нашей, больше сходства в частях; с Петра началось более ясное, резкое расслоение нашего общества, явилось то разнообразие, без которого нет творчества у народов… Осталось только явиться Екатерине II, чтобы обнаружились и досуг, и вкус, и умственное творчество, и более идеальные чувства в общественной жизни. Деспотизм Петра был прогрессивный и аристократический. Либерализм Екатерины имел решительно тот же характер. Она вела Россию к цвету, к творчеству и росту. Она усиливала неравенство. Вот в чем главная её заслуга. Она давала льготы дворянству, уменьшала в нём служебный смысл и потому возвышала собственно аристократические его свойства – род и личность». Это не только не славянофильские, но решительно – западнические мысли. В этой оценке Петра и Екатерины нет никакой византийской мистики. Вообще нужно сказать, что царизм К. Н. обосновывает не столько мистически, сколько натуралистически. Его монашеско-аскетическое религиозное сознание не давало мистического обоснования земного теократического царства. У него был языческий, натуралистический культ царской власти. Идея же теократии в религиозно-мистическом смысле была ему чужда. В этом он отличался от Вл. Соловьёва. Мистическую санкцию царской власти он брал как натуральный исторический факт. Он связывал с этим фактом земные надежды на сложное цветение культуры, а не мистические надежды. Это очень чувствуется в его оценке Петра и Екатерины. В отличие от славянофилов он высоко оценивал политику Николая I, и прежде всего за то, что она была более государственной, чем национальной. В распре между Николаем I и славянофилами он решительно становится на сторону Николая I и считает его более прозорливым, чем славянофилов. Николай I, по его мнению, видел, что славянофилы стали на путь либерально-демократический и могут послужить процессу разложения и смерти. С царствования Николая I кончается в России период развития и прогресса, сложное цветение уже пережито, и начинается период смесительного упрощения, то есть разложения. Поэтому вступают в свои права охранение и реакция. Екатерина могла ещё создавать. Николай Павлович должен был охранять, чтобы не началось «смешение того, что было резко дифференцировано историческим прогрессом». К. Н. готов признать за славянофилами относительную правоту в вопросе о Церкви, в их желании более сильной и свободной Церкви, хотя «это правильное стремление своё к Церкви сильной и независимой они портили только племенными пристрастиями». Но в вопросе о государстве, о национальной политике был более прав Николай Павлович. Вот как описывает К. Н. своё отношение к славянофилам: «Оно (славянофильской учение) казалось мне слишком эгалитарно-либеральным для того, чтобы достаточно отделить нас от новейшего Запада. Это одно; другая же сторона этого учения, внушавшая мне недоверие и тесно, впрочем, связанная с первой, была какая-то односторонняя моральность. Это учение казалось мне в одно и то же время и не государственным, и не эстетическим. Со стороны государственности меня гораздо больше удовлетворял Катков… Со стороны исторической и внешнежизненной эстетики я чувствовал себя несравненно ближе к Герцену, чем к настоящим славянофилам… Читая только Хомякова, Аксакова, в голову бы не пришло ненавидеть всесветную буржуазию (в которую, в сущности, стремится перейти и работник западный); Герцен же издевался прямо над этим общим и подавляющим типом человеческого развития». Вся ткань существа К. Н. была иная, чем у славянофилов, иная клетка у него была. Он считал государственное начало в России более самобытным, чем общественно-народное. «Хотя прежние правительственные системы наши со времен Петра I внесли в нашу жизнь много европейского, но всё-таки и с этой стороны взятое государственное начало в России оказалось самобытнее свободно-общественного». Это – тезис, прямо противоположный славянофильскому. Славянофилы думали, что государственное начало со времен Петра коверкало нашу народную жизнь и что национальное начало хранится в обществе и народе. К. Н. не народник, он не верит в народ, в народную стихию и народные начала. Этим он в корне отличается от славянофилов, как и от Достоевского. Он верит в Церковь, верит в государство, верит в идею, верит в красоту, верит в избранные, яркие, творческие личности, но не верит в народ, не верит в человеческую стихию, в человеческую массу. И это делает Леонтьева совершенно оригинальным, единственным в своем роде явлением в истории русской литературы. Русские же более всего верили в народ, верили даже тогда, когда уже во всё перестали верить. Народничество – характерное русское явление, владевшее душами русской интеллигенции в течение всего XX века. И то, что Леонтьев был антинародником, не верил в народ и изобличал иллюзии всякого народничества, нужно признать самым оригинальным в нем. Но это не значит, конечно, что в своем антинародничестве он был всегда прав. В народничестве, как вере в русскую народную стихию, была своя правда. И для русской идеи за Хомяковым навеки останется большее значение, чем за Николаем I.
II
К. Н. был аристократом по инстинкту и по убеждению. Поэтому уже он не мог быть народником. Аристократизм – явление, почти не встречающееся в русской мысли. Вначале у К. Н. были ещё некоторые традиционные славянофильски-народнические иллюзии, от которых он потом освободился. Статья «Грамотность и народность» написана ещё в славянофильско-народническом духе. В ней мысль К. Н. ещё не созрела и не стала вполне самостоятельной. В ней можно ещё встретить традиционную идеализацию простого народа, крестьянства. Но мысли этого порядка были наносными у К. Н., не его собственными. Он сбивается на эти народнические мысли по традиционной связи с нашими самобытно-народолюбивыми мнениями, от которых не так легко было освободиться. Но он с самого начала подчеркивает различие между народом и простонародьем. Он защищает безграмотность народа, его «варварство» как источник национального своеобразия. Он боится, что от просвещения будет стерто с лица народного его своеобразие. Но это не народнический мотив, это скорее мотив аристократически-эстетический. «Вовсе не надо быть непременно равным во всем мужику, нет даже вовсе особенной нужды быть всегда любимым им и силиться всегда самому любить его дружественно: надо любить его национально, эстетически, надо любить его стиль». И К. Н. любит не народ, а «стиль» народа. У него было преимущественно эстетическое восприятие народа. Моралистические мотивы народолюбия были ему изначально чужды. Он готов был идеализировать русских мужиков как эстетическую противоположность мещанству. Ему нравились сельские церковки, полукрестьянские монастыри, избы под соломенной крышей, мужики за сохой. К простому народу в России, на Балканах, в Турции у него было эстетико-этнографическое отношение. Ему прежде всего нравилась живописность народного быта, своеобразная красочность его, и он хотел бы охранить эту живописность и это красочное своеобразие от разрушительных процессов. Он традиционно идеализировал сельскую общину как начало охранительное, предупреждающее развитие пролетариата. Но это была второстепенная подробность в его взглядах на Россию и её будущее. Внутренние начала и движущие мотивы его миросозерцания были иные, чем у славянофилов и народников-самобытников. Он открыл, что начало племенное, начало национального самоопределения, само по себе есть начало демократическое и по последствиям своим революционное, что через него торжествует либерально-эгалитарный прогресс, стирающий всякое национальное своеобразие. Он обнаруживает в национальном принципе самопротиворечие и самоистребление. Эти мысли К. Н. были крайние и в своей односторонности неверные, но в высшей степени своеобразные и оригинальные. Ему принадлежит заслуга радикальной постановки проблемы. Его замечательная статья «Племенная политика как орудие всемирной революции» (сначала названная «национальная» политика, но, ввиду возбуждаемых недоразумений, слово «национальная» было заменено словом «племенная») вызвала негодование в националистически настроенных консервативных кругах. П. Астафьев резко возражал ему и признал его врагом национального идеала. И. Аксаков видел в нём противника славянофильских идей. Аристократизм К. Леонтьева вел к тому, что правду и красоту он всегда видел не в народной стихии, не в национальном начале как в начале автономном, а в мировых, организующих церковных и государственных началах, принудительных по отношению к народной жизни, в объективных идеях. Правда и красота русского народа не в племенной стихии, а в византийских началах, организующих и оформляющих эту стихию. Византийские начала – аристократические начала, идущие сверху вниз, племенные же начала – демократические, они идут снизу. Россия во всем своеобразии и величии держится не национальной скрепой, не русским народным самоопределением, а византийским православием и самодержавием, объективными церковными и государственными идеями. Эти начала организовали Россию в великий и своеобразный мир – мир Востока, противоположный Западу. Свободное же господство народных начал, национального самоопределения, без принудительных начал сверху и извне, должно привести к разложению и распадению России. Русская революция как будто бы подтвердила частичную правоту К. Н. Леонтьева. Он оказался провидцем. Падение организующих и скрепляющих византийских начал привело к процессам разложения в России. Разлив народной, национальной стихии не удержал единства и силы России. Но русское государство вновь скрепляется путем народной активности. Леонтьев, несомненно, недооценивал и не понимал значения народной стихии в историческом процессе.
К. Леонтьев не верил в русский народ, как не верил ни в какой народ. Великий народ держится и процветает не собственной автономной стихией, а организующей его принудительной идеей. С беспощадной остротой и радикализмом анализирует он принцип национального самоопределения. Чисто племенная идея не имеет в себе ничего организующего, творческого; она есть не что иное, как частное перерождение космополитической идеи всеравенства и бесплотного всеблага. Равенство классов, лиц, равенство (то есть однообразие) областей, равенство всех народов, расторжение всех преград, бурное низвержение или мирное, осторожное подкапывание всех авторитетов – религии, власти, сословий, препятствующих этому равенству, – это всё одна и та же идея, выражается ли она в широких и обманчивых претензиях парижской демагогии или в уездных желаниях какого-нибудь мелкого народа приобрести себе во что бы то ни стало равные со всеми другими нациями государственные права. «Истинно-национальная политика должна и за пределами своего государства поддерживать не голое, так сказать, племя, а те духовные начала, которые связаны с историей племени, с его силой и славой. Политика православного духа должна быть предпочтена политике славянской плоти, агитации болгарского «мяса»… Национальное же начало, понятое иначе, вне религии, есть не что иное, как всё те же идеи 1879 года, начала всеравенства и всесвободы, те же идеи, надевшие лишь маску мнимой национальности. Национальное начало вне религии не что иное, как начало эгалитарное, либеральное, медленно, но зато верно разрушающее». «Национально-либеральное начало обмануло всех, оно обмануло самых опытных и даровитых людей; оно явилось лишь маскированной революцией – и больше ничего. Это – одно из самых искусных и лживых превращений того Протея всеобщей демократизации, всеобщего освобождения и всеобщего опошления, который с конца прошлого века неустанно и столь разнообразными приемами трудится над разрушением великого здания римско-германской государственности». «Люди, освобождающие или объединяющие своих единоплеменников в XIX веке, хотят чего-то национального, но, достигая своей политической цели, они производят лишь космополитическое, то есть нечто такое, что стирает всё более и более национализм бытовой или культурный и смешивает всё более и более этих освобожденных или свободно объединенных единоплеменников с другими племенами и нациями в общем типе прогрессивно-европейского мещанства. Космополитический демократизм и национализм политический – это лишь два оттенка одного и того же цвета». К. Н. отрицает самостоятельное значение племенного начала. «Что такое племя без системы своих религиозных и государственных идей? За что любить его? За кровь? И что такое чистая кровь? Бесплодие духовное! Все великие нации очень смешанной крови. Язык?.. Язык дорог особенно как выражение родственных и дорогих нам идей и чувств. Любить племя за племя – натяжка и ложь. Другое дело, если племя, родственное хоть в чем-нибудь, согласно с нашими особыми идеями, с нашими коренными чувствами… Равенство наций – всё то же всеобщее равенство, всеобщая свобода, всеобщая приятная польза, всеобщее благо, всеобщая анархия либо всеобщая мирная скука. Идея национальностей чисто племенных в том виде, в каком она является в XIX веке, есть идея, в сущности, вполне космополитическая, антигосударственная, противорелигиозная, имеющая в себе много разрушительной силы и ничего созидающего, наций культурой не обособляющая; ибо культура есть не что иное, как своеобразие». С этой точки зрения К. Н. не сочувствует славянской политике на Востоке. Ему дороги были не славянские, не национальные начала на Востоке, а начала византийские, церковные и государственные, великие организующие идеи. Поэтому он был за греков и даже за турок.
После освобождения и объединения Италия сделалась менее своеобразной и стала более походить на Францию и все другие европейские страны. В Италии произошло опошление тех самых картин духовно-пластических, на которых так блаженно и восторженно отдыхали вдохновенные умы остальной Европы. Германия после объединения «изменяется к худшему в отношении национально-культурном», теряет в своей оригинальности, делается более похожей на другие страны Европы. Национальное самоопределение и национальное освобождение обесцвечивает, ведет к демократической нивелировке. Это – очень парадоксальная мысль К. Леонтьева, в которую следует вникнуть. Она совершенно противоречит общепринятым взглядам. «Тогда, когда национализм имел в виду не столько сам себя, сколько интересы религии, аристократии, монархии и т. п., тогда он сам себя-то и производил невольно. И целые нации, и отдельные люди в то время становились всё разнообразнее, сильнее и самобытнее. Теперь, когда национализм ищет освободиться, сложиться, сгруппировать людей не во имя разнородных, но связанных внутренно интересов религии, монархии и привилегированных сословий, а во имя единства и свободы самого племени, результат выходит везде более или менее однородно-демократический. Все нации и все люди становятся всё сходнее и сходнее и вследствие этого всё беднее и беднее духом». Национальность образуют и ведут к своеобразному цветению объективные идеи, духовные начала. Принцип же национальности сам по себе – бессодержательный и демократический, он обесцвечивает. «Национальное начало, лишенное особых религиозных оттенков и форм, в современной, чисто племенной наготе своей, есть обман. Племенная политика – есть одно из самых странных самообольщений XIX века. Национального, в действительном смысле, в племенном принципе нет ничего». К. Н. пророчит, что национальное самоопределение и освобождение балканских славян приведет к совершенному национальному обезличиванию, к либерально-эгалитарной европеизации, к обыкновенному демократическому мещанству. Дело православия на Востоке от этого только потеряет. К. Н. издевается над возвышенными и благородными мечтами старых славянофилов, которые ждали от освобождения славян расцвета православной и всеславянской идеи. «Живя в Турции, я скоро понял ужасную вещь; я понял с ужасом и горем, что благодаря только туркам и держится ещё многое православное и славянское на Востоке… Я стал подозревать, что отрицательное действие мусульманского давления, за неимением лучшего, спасительно для наших славянских особенностей и что без турецкого презервативного колпака разрушительное действие либерального европеизма станет сильнее». Мысль об изгнании турок он считает не русской и не славянской, а обыкновенно-европейской, либерально-демократической и нивелирующей мыслью. К. Н. настаивает на том, что «бессознательное назначение России не было и не будет чисто славянским. Оно уже потому не могло быть таковым, что чисто славянского, совершенно своеобразного – ничего до сих пор у славян не было… Сама Россия давно уже не чисто славянская держава». Интересы православия на Востоке он ставит настолько выше интересов племенных, славянских, что говорит: «Самый жестокий и даже порочный, по личному характеру своему, православный епископ, какого бы он ни был племени, хотя бы крещеный монгол, должен быть нам дороже двадцати славянских демагогов и прогрессистов». Для Леонтьева Царьград должен быть или русским, или турецким. Переход же его в руки славян сделает из него революционный центр и больше ничего. Он не сочувствовал войне 77-го года, потому что она велась не за веру, а за освобождение славян, то есть была эмансипационной войной. Панславизм он считал большой опасностью для России. «Идея» православно-культурного русизма действительно оригинальна, высока, строга и государственна. Панславизм же во что бы ни стало – это подражание и больше ничего. Это идеал современно-унитарно-либеральный; это стремление быть как все. Это всё та же общеевропейская революция». Панславизм на Востоке представляется ему торжеством обыкновенного демократического принципа. Славянофилов обвиняет он в слишком большой склонности к бессословности и гражданскому равноправию, то есть к обыкновенному демократизму, к либерально-эгалитарным началам. Мы видели, что К. Леонтьев не славянофил, а туркофил. Он также германофил. И всё по тем же основаниям. В Германии он видит больше начал, охраняющих старую Европу, которую любит, и меньше начал уравнивающих и смешивающих. И особенно не любит он современную Францию как очаг всемирной революции, как демократическую республику. Он любит не Германию и германский народ самих по себе. Он в гораздо большей степени испытал на себе влияние культуры французской, чем германской, и был ближе латинскому духу, чем германскому. Но он любил и уважал монархию, аристократию и воинственные начала, которые в Германии были ещё сильны. И он был сторонником сближения России с Германией, хотя и предвидел возможность столкновения с ней. Он говорит, что «крепкий союз и вынужденная обстоятельствами война с Германией будут у нас в народе одинаково популярны!» В этих словах звучит презрение к народу, но они оправдались дальнейшими событиями. Он считал выгодным для России усиление и возвышение Германии, даже ценою нашего поражения. Это звучит чудовищно, особенно в наше время. Но в этом чувствуется истинное бесстрашие мысли. Как применял Леонтьев эти свои оригинальные мысли о национальности к России и русскому народу, к определению русского призвания в мире? Для этого прежде всего нужно рассмотреть его взгляды на византизм.