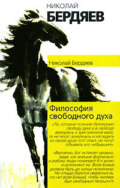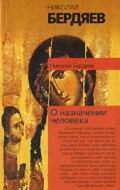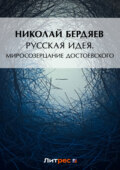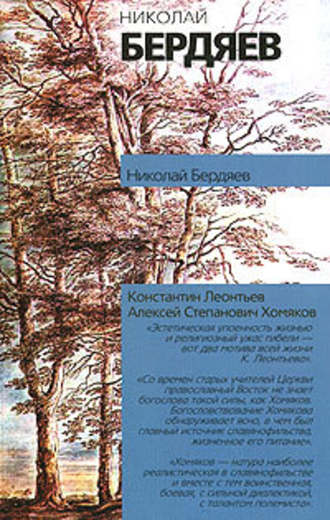
Николай Бердяев
Константин Леонтьев
IV
Встреча К. Леонтьева с Вл. Соловьёвым, тоже одиноким, непонятым и опередившим своё время мыслителем, была самой значительной встречей его жизни. Они были разные люди, очень не похожие по своему умственному складу, по характеру своего образования, по интимной душевной индивидуальности своей. Вл. Соловьёв был метафизик, прошедший немецкую философскую школу, отвлечённый богослов и схоластик, гностик с оккультными склонностями, интимный поэт, посвятивший стихи свои небесной эротике, и политический публицист, склонный к гуманитарному либерализму и к слишком иногда прямолинейному применению христианства к общественности. Построения Вл. Соловьёва были слишком гладки, слишком рационализированы, слишком ясны. В нём же самом было что-то неясное, не до конца раскрытое, недоговорённое. Он был один из самых загадочных русских людей, не менее загадочных, чем Гоголь, более загадочных, чем Достоевский. Достоевский в своем творчестве раскрыл себя, все свои противоречия, своё небо и свой ад, своего Бога и своего диавола. Соловьёв же не раскрыл, а прикрыл себя в своих произведениях. Его нужно разгадывать по намекам, по отдельным строчкам, по интимным стихам. К. Леонтьев был натуралист, прошедший школу естественных наук, художник, беллетрист и эстет, совсем не гностик, без сложных созерцательно-познавательных запросов, политический мыслитель и публицист очень сложной и углубленной мысли, для которого вопрос об отношении христианства к общественности ставился сложно-дуалистически. У Вл. Соловьёва была абстрактная и иногда обманчивая ясность мышления, что-то скрывающая и прикрывающая; у К. Леонтьева была конкретная художественная ясность мышления, раскрывающая всю сложность его природы и его запросов. Как писатель, Вл. Соловьёв не художник, как человек, он не эстет. Лишь в лирических стихах умел он выразить свою интимную романтику. К. Леонтьев – сложная, яркая, единственная в своем своеобразии натура, но совсем не загадочная. Он – ясный, в своем добре и в своем зле. Вл. Соловьёв – весь неясный и загадочный, в нём много обманчивого. О. Иосиф Фудель, близко знавший К. Н., в своей интересной статье «К. Леонтьев и Вл. Соловьёв в их взаимных отношениях» очень верно говорит: «К. Леонтьев имел обыкновение высказываться в разговоре или печати больше и дальше того, что он на самом деле думал. Это тоже сыграло печальную роль в судьбе Леонтьева. Его страсть к парадоксам делала из него какое-то пугало для людей, не знавших его; а его преувеличения в области душевных излияний до сих пор окружают его тёмным ореолом какой-то исключительной безнравственности. Совершенно обратное явление представляет Соловьёв. Он никогда не высказывал печатно всего того, что думал или говорил в кругу друзей». Во взаимных отношениях Леонтьева и Соловьёва, в их романе, у Леонтьева более открытое, искреннее и горячее отношение к Вл. Соловьёву, чем у Соловьёва к нему. К. Н. не только горячо «полюбил Вл. Соловьёва, но влюбился в него. Вл. Соловьёв был самым большим пристрастием его жизни, для него он готов был сломить некоторые свои идейные симпатии. Он имел огромное на него влияние, быть может, единственное в его жизни по своей силе. Слишком многое должно было отталкивать К. Н. в складе мыслей Вл. Соловьёва, но он преодолел это отталкивание. К. Н. пишет: «Я его очень люблю лично, сердцем; у меня к нему просто физиологическое влечение». Это – влюблённость. К. Н. находился под обаянием Вл. Соловьёва. Соловьёв же относился к К. Н. с любовью, высоко ценил его, но в его отношении есть осторожность, оглядка, сдержанность, нет вполне отдающего себя порыва. Оба они чувствовали, что их соединяет какая-то общая новая мука о России, что они открывают какой-то новый период нашей мысли, но по-разному переживают это. Оба они были одинокие мыслители и мечтатели, не понятые своим временем. К. Н. пишет о. И. Фуделю о Соловьёве: «Что он – гений, это несомненно, и мне самому нелегко отбиваться от его „обаяния“ (тем более, что мы сердечно любим друг друга); но всё-таки надо отбиваться; надо признавать всякую гениальность, но не всякой подчиняться». И Соловьёв высоко ценил К. Н. Он находит его «умнее Данилевского, оригинальнее Герцена и лично религиознее Достоевского». Он говорит К. Н.: «Я хочу напечатать в „Руси“ Аксакова, что нужно большое бесстрашие, чтобы в наше время говорить о страхе религиозном, а не об одной любви». К. Н. жалуется, что Соловьёв сказал это, но не напечатал. Вообще, в то время как К. Н. всегда восторженно говорит и пишет о Вл. Соловьёве, Соловьёв очень сдержан, не пишет о нем, как предполагал, не высказывается по существу. Серьезной критики К. Н. так и не дождался от Соловьёва, хотя более всего ждал именно его критики и более всего ею дорожил. К. Н. делает Соловьёва судьей в своем споре с Астафьевым по национальному вопросу. Но Вл. Соловьёв сдержан и уклоняется. К. Н. с горечью говорит, что Соловьёв его «предаёт» своим молчанием. Написанная потом статья Вл. Соловьёва о К. Леонтьеве, хотя и оценивает его довольно высоко, но сдержанна и суха, она не проникает в глубь «проблемы Леонтьева». У Вл. Соловьёва не было той способности «восхищаться», которая была у Леонтьева. К. Н. восклицает: «Но лучше я умолкну на мгновение, и пусть говорит вместо меня Влад. Соловьёв, человек, у которого „я не достоин ремень обуви развязать“, когда дело идёт о религиозной метафизике и о внутреннем духе общих церковных правил». К. Н. совершенно лишен был всякого чувства соревнования, авторского самолюбия, зависти. Это – очень благородная и редкая в нём черта. Он был резким и крайним в отношении к идеям и мягким и деликатным в отношении к отдельным людям. Вл. Соловьёв, наоборот, любил сглаживать крайности и противоречия в идеях, в личной же полемике был резок и беспощаден. Полемика Вл. Соловьёва против славянофилов, против Данилевского и Страхова возмущала К. Н. и по существу, и по тону. Это было тяжелое испытание для его дружбы с Соловьёвым. Но любовь его к Соловьёву выдержала это испытание. В ответ на запрос о. И. Фуделя, не поссорился ли он с Соловьёвым, когда встретился после того, как они долго не виделись, К. Н. отвечает: «Не только не поссорились, но всё обнимались и целовались. И даже больше он, чем я. Он всё восклицал: „Ах, как я рад, что Вас вижу“. Обещал приехать ко мне зимою. Да я не надеюсь». Вл. Соловьёв оказал большое влияние на К. Леонтьева в вопросе о будущем России, он пошатнул его веру в возможность в России самобытной, не европейской культуры. Мирился К. Н. и с тяготением Вл. Соловьёва к католичеству. Но он не мог вынести статьи Вл. Соловьёва «Об упадке средневекового миросозерцания». Этого испытания его дружба к Соловьёву не выдержала. Он не мог ему простить сближения христианства с гуманитарным прогрессом и демократией – это уже посягало на святое святых К. Н., на самое интимное в его религии и эстетике. Страстная любовь его к Вл. Соловьёву переходит в страстную вражду, вражду, на какую способен лишь влюблённый. Эта вражда отравила последние дни жизни К. Н. Перед смертью его более всего мучило отношение к Вл. Соловьёву. Он не находит уже в себе сил возражать на статью Соловьёва, в которой видит измену святыням, уступку духу либерально-эгалитарного прогресса. «Перетерлись, видно, „струны“ мои от долготерпения и без своевременной поддержки… Хочу поднять крылья и не могу. Дух отошёл. Но с самим Соловьёвым я после этого ничего общего не хочу иметь». Со свойственной К. Н. страстностью он предлагает добиться высылки Соловьёва за границу и вырабатывает целый план гонения на него. Он его подозревает в неискренности. В письмах он называет Соловьёва «сатаной» и «негодяем». Он предлагает духовенству возвысить голос против Соловьёва. Хочет, чтобы митрополит сказал проповедь против смешения христианства с демократией и прогрессом. Он разрывает фотографию Соловьёва. В столкновении Леонтьева с Соловьёвым чувствуется бессилие. Его смущает Соловьёв, так смущает, как не смущал никто ещё в жизни. Он во многом покоряется ему. И во многом Соловьёв был более прав. Он требовал осуществления христианской правды в общественной жизни. Но в чем-то последнем К. Н. не уступает Соловьёву. Столкновение и распря К. Леонтьева и Вл. Соловьёва не разрешились при жизни Леонтьева. Сначала Соловьёв был сильнее Леонтьева и влиял на него. Но под конец жизни Вл. Соловьёва начал побеждать дух Леонтьева, леонтьевский пессимизм по отношению к земной жизни, к истории. К. Леонтьев раньше Вл. Соловьёва почуял победу антихристова духа. Сначала Леонтьев разочаровался в своем идеале русской самобытной культуры. Потом Соловьёв разочаровался в своем идеале вселенской христианской общественности. Оба они подошли к темному пределу истории, к бездне. И взаимоотношения их для нас очень поучительны.
V
В последние годы своей жизни К. Н. тяжело переживал почти полное отсутствие литературного и идейного влияния, неуспех, непонимание, выпавшие на его долю. Он видел в этом загадку своей личной судьбы и называл это своим fatum’ом. Он переживал это религиозно и видел в этом внутренний смысл. Он чувствовал, что «есть в его судьбе нечто особое». «Признавать мне себя недаровитым или недостаточно даровитым, „не художником“, – это было бы ложью и натяжкою. Это невозможно. Этого я никогда ни от кого не слыхал. Такого решения и смирение христианское вовсе не требует… Многие люди могли бы сделать много для моего прославления; они, видимо, сочувствовали мне, даже восхищались; но сделали очень мало. Неужели это явная недобросовестность их или моё недостоинство? Да! Конечно, недостоинство, но духовное, греховное, а не собственное умственное или художественное. Богу не угодно было, чтобы я забылся и забыл Его; вот как я приучил себя понимать свою судьбу. Не будь целой совокупности подавляющих обстоятельств, я, быть может, никогда бы и не обратился к Нему… Не нужен, не „полезен“ мне был при жизни такой успех, какой мог бы меня удовлетворить и насытить. Достаточно, видно, для меня было „среднего“ succès d’estime, и тот пришёл тогда, когда я стал ко всему равнодушнее… И, убедившись в том, что несправедливость людей в этом была только орудием Божьего гнева и Божьей милости, я давно отвык поддаваться столь естественным движениям гнева и досады на этих людей». «Может быть, после моей смерти обо мне заговорят, а вероятно, теперь на земле слава была бы мне не полезна, и Бог её мне не дал». И он чувствует, что всё складывается в этом отношении фатально. Он замечает, что разные обстоятельства мешают появлению статей о нем. Люди, в личном общении высоко оценившие его произведения и его идеи, так и не пишут предполагавшихся статей о нем. Он ждал, что историки подтвердят его учение об упростительном смешении. Но историки не заинтересовались им. Вполне равнодушным к этому он быть не мог. Его огорчало невнимание к его идеям, и в письмах он часто возвращается к этой теме с большой горечью. «Несколько хороших, строгих даже и справедливых, критических статей, при сердечном ко мне равнодушии, больше бы меня утешили, чем эта личная любовь без статей… Приближаясь всё более и более к последнему дню расчета со всем земным, хотелось бы знать, наконец, стоят ли чего-нибудь твои труды и твои мысли или ничего не стоят!.. Мне самому, для себя, нужна была честная и строгая критика!» И его начинает раздражать, что Вл. Соловьёв «всё обнимает, и целует, и говорит: „Ах! как я рад Вас видеть!“ У него является сомнение, ему начинает казаться, что писать не стоит. «В мои годы писать прямо и преднамеренно для печати, какая, скажите, может быть особая охота, если не видеть сильного сочувствия, если не ощущать ежедневно своего влияния». О своей статье «Анализ, стиль и веяние» он пишет Александрову в предположении, что она не будет принята в журнал в том виде, как написана: «Если „нет“ – подарю Вам, на память о человеке, который за всё брался и ничем никому, кроме трех-четырех человек, не угодил. Да и то больше благодаря личному знакомству!» «Я же теперь, по предсмертному завету моего великого учителя, буду писать впредь или по нужде (денежной), или по большой уж охоте, которой быть не может у шестидесятилетнего человека, давно уже утомлённого молчаливым презрением одних и недостойным предательством других». Всё это звучит очень горько. К. Н. не был человеком с большим самолюбием, в нём не было чрезмерно развитого литературного честолюбия. Но есть предел невнимания. Писатель, сознающий своё призвание, не может чувствовать себя в пустыне, не может примириться с тем, что слов его никто не слышит. Новые поколения должны были прийти, чтобы К. Н. оценили и начали понимать его. По складу своего характера и по психологии своей К. Н. до конца оставался барином и не мог сделаться профессиональным литератором. Он писал по вдохновению или по внешним побуждениям. Но вдохновение его слабело от его fatum’а, от рокового непризнания и невнимания. В литературной судьбе К. Н. есть что-то типическое для одинокого, оригинального мыслителя, совершающего путь свой в стороне от больших дорог, на которых располагаются все «лагери» и все «направления». Влияние таких писателей, как Леонтьев, иначе определяется, чем влияние таких писателей, как Катков и И. Аксаков. В таком же положении был и Вл. Соловьёв, который достиг признания и оценки лишь своих статей по национальному вопросу, несущественных для главного дела его жизни.
VI
Очень интересно и характерно отношение К. Леонтьева к русской литературе и русским писателям. Он был тонким критиком, для своего времени очень своеобразным, не похожим ни в чем на тех русских «критиков», которые долгое время были у нас властителями дум. К. Н. более интересовался эстетикой жизни, чем эстетикой искусства. Для эстета писал он об искусстве и литературе мало. В его творчестве и в его жизни не видно, чтобы он существенно жил интересами искусства и литературы и искал в них восторгов и выходов из уродства жизни. От уродства жизни он бежал прямо в монастырь, а не в искусство. Красоты же он долгое время искал в политике и в истории, хотя пережил в этих своих исканиях одни горькие разочарования: он сам признаётся, что в политике он смелее, чем в эстетике. Для него «государство дороже двух-трех лишних литературных звезд». Он даже решается, со свойственным ему радикализмом, прямо сказать, что «в наше смутное время, и раздражительное и малодушное, Вронские гораздо полезнее нам, чем великие романисты», то есть полезнее самого Л. Толстого. Он искал жизни, а не «отражений жизни». И жизненное значение искусства он недооценивал. Из критических статей его наиболее замечателен этюд о романах Л. Толстого «Анализ, стиль и веяние». Это очень тонкий, по стилю несколько старомодный этюд. Для своего времени статья эта очень своеобразна и замечательна. В то время у нас ещё царила утилитарная критика, и самоценность искусства не признавалась. Ещё в шестидесятые годы К. Н. провозгласил самоценность искусства и красоты и отстаивал права эстетической критики. Ещё в 1860 году он писал в «Письме провинциала к Тургеневу»: «Если в творении нет истины прекрасного, которое само по себе есть факт, есть самое высшее из явлений природы, то творение падает ниже всякой посредственной научной вещи, всяких поверхностных мемуаров». В самых первых критических опытах К. Н. намечается возможность формальной эстетической критики. Моралистическая и общественно-утилитарная критика литературных произведений совершенно противна его эстетической природе. Формальная эстетическая критика, которой хотел К. Н. и которую пробовал осуществлять, не могла быть услышана и понята в шестидесятые, семидесятые, да и восьмидесятые годы. Он был предшественником нового литературного поколения, признавшего самоценность красоты. «Анализ, стиль и веяние» и есть первая и единственная в своем роде попытка подвергнуть романы Л. Толстого тонко-аналитической, формально-эстетической критике. Л. Толстого, как романиста, К. Н. очень любил и высоко ценил, особенно «Анну Каренину». Его пленяло, что Толстому принадлежит «инициатива восстановления эстетических прав высшего общества». У него были исключительные симпатии к Вронскому и князю Андрею как к мужественно-аристократическим типам, способным быть государственными деятелями. Очень тонко анализирует он несоответствие «Войны и мира» исторической эпохе и отдаёт предпочтение «Анне Карениной» как более совершенному художественному произведению. Пушкин, по мнению К. Н., вернее передаёт «веяние» эпохи. «Взыскательному ценителю для наивысшей степени его эстетического удовлетворения дороги не одни только события, ему дорога ещё и та общепсихическая музыка, которая их сопровождает; ему дорого веяние эпохи». Во времена К. Леонтьева в русской литературе не слышно было таких слов, как «общепсихическая музыка». Он упредил своё время, предвосхитил настроение начала XX века. Очень тонки такие его определения: «Язык, или, общее сказать, по-старинному стиль, или ещё иначе выражусь, – манера рассказывать, – есть вещь внешняя, но эта внешняя вещь в литературе – то же, что лицо и манеры в человеке: она – самое видное, наружное выражение самой внутренней, сокровенной жизни духа. В лице и манерах у людей выражается несравненно больше бессознательное, чем сознательное; натура или выработанный характер больше, чем ум». Он утверждает субъективный подход к эстетической критике: «Эстетическая критика, подобно искреннему религиозному рассуждению, должна неизбежно исходить из живого личного чувства и стараться лишь оправдать и утвердить его логически… Там личная вера – прежде, общие подтверждения – после; здесь субъективный вкус – сначала, разъяснения – после». Для эстетической критики необходима эстетическая организация, не всякий может быть критиком. Необходима эстетическая восприимчивость. У нас же были критиками люди с атрофией эстетического вкуса.
По своей эстетической организации, по своим эстетическим вкусам К. Н. был скорее европейцем, чем русским. И самый эстетический вкус его к Востоку был западноевропейским, а не русским вкусом. Тут мы сталкиваемся с такой стороной К. Леонтьева, которая сразу может смутить и показаться не вполне понятной. К. Н. не особенно любил русскую литературу, не особенно ценил её, не был поклонником её стиля. В русской литературе его многое шокировало, казалось антиэстетическим. «Я всё-таки нахожу, что в некоторых отношениях наша школа просто несносна, даже и в лице высших своих представителей. Особенно несносна она со стороны того, что можно назвать в отдельных случаях прямо языком, а в других общее – внешней манерой или стилем». Его отталкивает пристрастие русской литературы к уродству, нелюбовь её к красоте. «У нас просто боятся касаться тех сторон действительности, которые идеальны, изящны, красивы. Это, говорят, не по-русски, это нерусское! Живописцы выбирают всегда что-нибудь пьяное, больное, дурнолицее, бедное и грубое из вашей русской жизни. Русский художник боится изобразить красивого священника, почтенного монаха; нет! ему как-то легче, когда он изберет пьяного попа, грубого монаха-изувера. Мальчики и девочки должны быта все курносые, гадкие, золотушные; баба – забитая; чиновник – стрекулист; генерал – болван и т. д. Это значит русский тип». Ему противно отрицательное направление русской литературы, которое он видит у великих русских писателей, начиная с Гоголя. Его раздражает и отталкивает и морализм русских писателей, и их натурализм. В натурализме он обвиняет и Л. Толстого. Себя он называет «эстетическим мономаном, художественным психопатом». Он не выносит грубости и вульгарности в художественных произведениях. Не нравится ему и склонность русских писателей к психологическому анализу. «До смерти надоело это наше всероссийское „ковыряние“ какое-то… И я ведь – воспитанник той же школы, но только протестующий, а не благоговеющий безусловно». Настоящему художнику, по его мнению, дорога выразительность и яркость Он восторгается «многообразно-чувственным, воинственным, демонически-пышным гением Пушкина». По вкусам своим он был человеком Возрождения, и русская литература казалась ему мрачной и тяжелой, не радующей, не ренессансной. Его огорчает порча стиля в русской литературе. И он с любовью вспоминает старых художников, особенно европейских. «Я нахожу, что старинная манера повествования реальнее в хорошем значении этого слова, то есть правдивее и естественнее по основным законам нашего духа». Он хотел бы вырваться из рамки русской литературной школы. «Большинство у нас, – пишет он Александрову, – из рамки такого рода выйти теперь ещё не могут:

А я хочу разбить и сломать эту рамку!» «Надо с себя хотя бы на время свергнуть иго гоголевской школы, от которой и Лев Толстой освободиться не мог… Постарайтесь достать „Лукрецию Флориани“ Жорж Санд. Вот высокая простота рассказа. Хотя, конечно, и совсем не христианская; но ведь и Венера Милосская не была иконой Богоматери – однако прекрасна». К. Н. любил цветущее, языческое искусство, эстетически любил всё, что проникнуто духом Возрождения. Христианство же он любил исключительно монашеское, аскетическое. Русская литература была полна моральными христианскими мотивами, которые, по его мнению, не представляли ни настоящей цветущей культуры, ни настоящей религиозной христианской жизни. Или – Венера Милосская, Возрождение, Пушкин, или – Афон, Оптина Пустынь, старец Амвросий. Больше других К. Н. любил Тургенева, любил Толстого, хотя и видел в нём порчу, признавал Писемского и превозносил выше меры Б. Маркевича. Но он не любил Гоголя, видел в нём источник порчи русской литературы, и совсем не ценил Достоевского. Тут мы встречаемся с ограниченностью К. Н., с самым слабым его местом.
Гоголя К. Леонтьев считал родоначальником натуралистического и отрицательного направления в русской литературе. В этом была его коренная ошибка, которую он разделял со многими. Он не понимал характера гоголевского творчества, оно представлялось ему уродливым, он видел в нём истребление красоты. Ещё в молодости, когда Гоголь был жив, у него не было желания видеть его. «За многое питал к нему почти личное нерасположение. Между прочим, и за „Мертвые души“, или, вернее сказать, за подавляющее, безнадежно-прозаическое впечатление, которое производила на меня эта „поэма“… Во мне неискоренимо было то живое эстетическое чувство, которое больше дорожит поэзией действительной жизни, чем художественным совершенством её литературных отражений!» К. Н. любил не только красоту, но и красивое, и его отталкивали уроды и чудовища гоголевского творчества. Он не почувствовал странности и загадочности гоголевского творчества, которое должно было породить такие замечательные явления современной литературы, как творчество А. Белого. Из Гоголя же вышли Ф. Сологуб и А. Ремизов. Его беспокоило и отталкивало, что «Гоголь лицом на какого-то неприятного полового похож, или то, отчего это у него ни одна женщина в повестях на живую женщину не похожа: или это старуха, вроде Коробочки и Пульхерии Ивановны, или какая-то тень, вроде Анунциаты и Оксаны; какое-то живописное отражение красивой плоти, не имеющей души». Тут К. Н. чувствует какую-то жуткость гоголевского творчества, но не умеет осмыслить этого своего чувства, не умеет понять, в чем тут дело. В творчестве Гоголя был уже поколеблен органически-цельный образ человека. Гоголь – фантаст, он видит чудовища, а не людей. Он совсем не реалист. В его художественных восприятиях есть что-то, родственное художественному кубизму Пикассо. Но он – один из самых совершенных русских художников, достигавший красоты в изображении зла и уродства. Это было вне поля зрения К. Н., воспитанного на старой эстетике.
Ещё больше разочаровывает отрицательное и враждебное отношение К. Леонтьева к Достоевскому. Он пишет Александрову о Достоевском: «Мне похвалить его вовсе нелегко: я его „уродливых“ романов терпеть не могу; хотя и понимаю их достоинства». Казалось, К. Н. должен был бы чувствовать родство с Достоевским – у него самого было трагическое чувство жизни, был сложный религиозный путь. Но он говорит о Достоевском такими словами, которые трудно ему простить, недостойными словами: «Во всяком случае, уж и то великая заслуга „Войны и мира“, что там трагизм – трезвый, здоровый, не уродливый, как у стольких других писателей наших. Это не то, что у Достоевского, – трагизм каких-то ночлежных домов, домов терпимости и почти что Преображенской больницы. Трагизм „Войны и мира“ полезен: он располагает к военному героизму за родину; трагизм Достоевского может, пожалуй, только разохотить каких-нибудь психопатов, живущих по плохим меблированным комнатам». В этих неприятных словах одного из самых замечательных русских мыслителей о величайшем русском гении чувствуется дурная аристократическая брезгливость и внешний эстетизм, закрывающий возможность проникнуть в духовную глубину. Внешний эстет побеждает у К. Н. психолога. Его отталкивает в творчестве Достоевского вульгарность и уродство, отсутствие изящества и красоты, или, вернее, красивости. Он чувствует в нём демократа и филантропа. Это то, что К. Н. менее всего способен был простить. Он ставит Достоевского значительно ниже Толстого и готов преувеличить на счет Достоевского значение не только Писемского, но и Маркевича. Творчество Достоевского было отнесено им к некрасивому, и он не мог проникнуть в его тайны. Он эстетически не мог простить Достоевскому, что герои его – «психопаты». Он не чувствовал, что Достоевский открыл совершенно новую, небывалую красоту. «Публициста и моралиста я ценю в Достоевском несравненно выше, чем повествователя. „Дневник писателя“, не во гнев будь сказано поклонникам покойного романиста, – для меня во сто раз драгоценнее всех его романов». Тут мы встречаемся с границами духовной организации К. Н., которые он не мог переступить. Что-то очень глубокое было ему недоступно. Нужно только понять, откуда взялась эта ограниченность в суждениях о Достоевском. Эстетический и религиозный склад К. Н. закрывал для него бесконечный мир Достоевского и все его великие откровения духа. По эстетическому своему складу он был человек Возрождения, любил красоту и красивость, любил силу жизни и цветение жизни, был аристократом и питал отвращение к тому разрыхлению и размягчению души, в котором теряется всякая форма. По религиозному же своему складу он был весь в суровом византийском православии, любил исключительно монашеский аскетизм, был пессимистом, отвращавшимся от всех земных надежд. Такой духовный склад должен был мешать ему подойти к Достоевскому. «Считать „Братьев Карамазовых“ православным романом могут только те, которые мало знакомы с истинным православием, с христианством св. Отцов и старцев афонских и оптинских». К. Н. был близок со старцем Амвросием и решительно заявляет, что старец Зосима выдуман Достоевским, ничего общего не имеет с Амвросием и взят не из православия. Он резко нападает на «розовое» христианство Достоевского. Он приписывает это «розовое» христианство филантропическим и гуманистическим склонностям Достоевского и считает его малоопытным в религиозных делах. «Достоевский мог по своей субъективной натуре вообразить, что он представляет нам реальное православие и русское монашество в „Братьях Карамазовых“. Для Достоевского его собственные мечты о небесном Иерусалиме на этой земле были дороже как жизненной правды, так и истинных церковных нравов». К. Н. фактически был прав: старец Зосима имел мало общего со старцем Амвросием, он другого духа. Но ведь всё творчество Достоевского носило не реалистический, а пророческий характер. Пророческий же дух был чужд К. Леонтьеву. К. Н. так далеко заходит в отрицании Достоевского как религиозного психолога, что отдаёт предпочтение Золя: «Творчество Золя (в „Проступке аббата Муре“) гораздо ближе подходит к духу истинного личного монашества, чем поверхностное и сентиментальное сочинительство в „Братьях Карамазовых“. Пророческая религиозность „Братьев Карамазовых“ была закрыта для К. Н. Но он был прав в своем утверждении, что Достоевский не отражал действительного русского православия, традиционного православного монашества, а творил новое. К. Н. хотел написать роман и в нём изобразить своё обращение, но так и не осуществил этого плана. „Хочется, чтобы и многие другие образованные люди уверовали, читая о том, как я из эстетика-пантеиста, весьма вдобавок развращённого, сладострастного донельзя, до утончённости, стал верующим христианином и какую я, грешный, пережил после этого долголетнюю и жесточайшую борьбу, пока Господь не успокоил мою душу и не охладил мою истинно-сатанинскую когда-то фантазию“. Этот роман изобразил бы традиционную религиозную психологию – искание личного спасения. Достоевский же изобразил искание новой земли и нового неба, нового человечества, был человеком нового религиозного сознания.