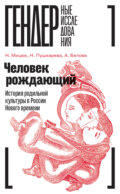Наталья Пушкарева
Сметая запреты: очерки русской сексуальной культуры XI–XX веков
Изнасилование девушки, «блуд умолвкой», равно как более или менее продолжительная связь с незамужней молодой женщиной, считалось в православной этике одним из наиболее серьезных нравственных преступлений, ибо невинная девушка стояла в православной «табели о рангах» неизмеримо выше не только «мужатицы», но и «чистой» (то есть не вышедшей второй раз замуж) вдовы. Но как относились к строгим церковным предписаниям те, для кого они предназначались? Прежде всего, обращает на себя внимание сам факт сохранения исповедных вопросов, касающихся добрачных связей, в епитимийниках XVI–XVII веков – молчаливое признание бессилия церкви в борьбе за их воспрещение.
Во-вторых, в вопросе о целомудрии православные проповедники оказались терпимее своих западных коллег (католиков): как ни осуждались в православии добрачные сексуальные связи, но отсутствие девственности не рассматривалось ими как препятствие к заключению брака, за исключением семей священников и великих князей (царей), долженствующих быть образцом для простых мирян35. Широко известен введенный поначалу как ритуал во время царских свадеб, но постепенно проникший и в народные брачные празднества, обычай «вскрывания почестности» невесты. («Молодой объявлял родственникам супруги, как он нашел жену – невинною или нет. Выходит он из спальни с полным кубком вина, а в донышке кубка просверлено отверстие. Если полагает он, что нашел жену невинною, то залепляет то отверстие воском. В противном же случае молодой отнимает вдруг палец и проливает оттуда вино», – так описывал ритуал итальянский посол Барберини в XV веке36.)
Всех, согрешивших до венчания, священники неизменно побуждали к супружеству и взимали лишь небольшой штраф с невесты или ее родителей, «аще замуж пошла нечиста» («аще хто хощет жену имети, юже прежде брака растлит, – да простится ему имети ю, за растление же – запрещение [причащаться] да примет на 4 лета»)37. Позже, в XVIII веке, в крестьянской среде на «девичье баловство» тоже зачастую смотрели снисходительно, по принципу «грех девичий прикроется винчом (венцом. – Н. П.)». Очевидцы свидетельствовали, что очень многие из невест приживали «еще в девках» по одному-двум, а то и по три ребенка, да еще и от разных отцов. Нелегко, полагали крестьяне, уберечь «молодку» от греха, чтобы шла она «как из купели, так и под злат венец», – но это ничуть не мешало стремлению родителей следить за «почестностью» дочери до брака. Если накануне венчания обнаруживалось, что невеста утратила невинность, дело «не рассыхалось»: «вперед не узнато, а может издасса (окажется. – Н. П.) лутше-лутшова», рассуждали крестьяне38. Длительно сохранявшаяся толерантность отношения к добрачным сексуальным связям в русской деревне была связана с традиционно сложившейся структурой ценностей, в которой семейной жизни уделялось одно из главных мест и в которой ценились в первую очередь хозяйственные навыки девушки, а не формальные признаки высокой нравственности (впрочем, уже в XIX веке положение изменилось, и церковный идеал нравственности постепенно превратился в народно-религиозный)39.
Разумеется, в ранние эпохи отношение к добрачным сексуальным связям девушек было в народе не менее, а куда более терпимым. Это следует принять во внимание при определении уровня брачности в допетровской России. По отношению к X–XVII векам он, несомненно, должен был превышать реальное количество церковных браков – тем более что они стали регулярно фиксироваться в церковных метрических книгах лишь после указа 1667 года, причем не сразу и поначалу со стороны священнослужителей очень неаккуратно и неохотно40. Хотя добрачные (точнее: «довенчальные») связи и возникающие на их основе половые союзы были недолговечны и непрочны, тем не менее они являлись немаловажным фактором, определявшим избыточные воспроизводственные возможности того времени.
Еще одним аргументом в пользу высокого уровня брачности в допетровской России является возраст начала половой жизни и, следовательно, детородного периода у женщин. Было бы ошибочным определять его лишь по возрасту невесты на момент венчания. Правовая норма православного канонического права определяла предельно-минимальный возраст первого брака для «женщин» в двенадцать лет41,42. Разумеется, это не означало, что все или даже большинство невест в Древней Руси и Московии вступали в брак в столь раннем возрасте. Низкий брачный возраст наблюдался прежде всего в среде князей и бояр, где – преследуя политические цели – могли выдать замуж совсем маленькую девочку («младу сущу, осьми лет»), «оженить» подростка (будущий царь всея Руси Иван III был «опутан красною девицею» пяти лет от роду). Дети в этом случае отдавались на руки «кормильцам»-воспитателям в новых семьях и до достижения половой зрелости супружеской жизнью не жили43.
У «простецов» возраст вступления в первый брак был, надо полагать, несколько выше, чем у представителей привилегированных сословий. Нелегкие обязанности хозяйки дома в крестьянской семье, вынужденной на равных помогать супругу в работе в поле и на огороде, ходить за скотом и приплодом, – могли выполнять лишь физически крепкие девушки, вполне готовые стать женщинами. Поэтому долгое время в крестьянских семьях существовал обычай отдавать девиц замуж отнюдь не в отрочестве. Однако стремление родителей следовать православной заповеди сохранения невинности до брака постепенно сделало ранние браки женщин в среде «простецов» обычным явлением. Во всяком случае, в XIX веке двенадцати-тринадцатилетние невесты-крестьянки не были редкостью («а было мне тринадцать лет», – признавалась пушкинской Татьяне ее няня, крепостная, выданная замуж по воле родителей и «не слыхавшая», по ее словам, «в те годы про любовь»). Физически такие невесты, разумеется, были незрелы44.
Знаток древнерусского быта Б. А. Романов справедливо видел в ранних браках «противоблудное средство»45. Действительно, православные нормы были выработаны в ответ на реально сложившуюся ситуацию – распространенность сравнительно ранних половых связей, которые требовалось «оформить». Возможность «растления девства» «по небрежению», «оже лазят дети [друг на друга или „в собя“] несмысляче», была и в Древней Руси, и позже, достаточно распространенной. Во всяком случае, вопрос о том, как наказывать родителей за подобные проступки детей, был поставлен в одном из самых ранних покаянных сборников46. В XV–XVI веках церковный закон всю вину за добрачный секс возлагал на растлителя: «Аще кто прежде брака [в] тайне или нужою растлит жену и потом законным браком съчетается с ею – блудника познает запрещения: 4 лета едино убо у дверей церковных да плачется»47.
Вопрос о неискоренимости блуда, которым духовные отцы готовы были именовать чуть ли не все виды сексуальных прегрешений в древней и средневековой России, сильно занимал идеологов христианской нравственности. «Едино есть бедно избыти в человецех – хотения женьска», – сетовал в связи с рассуждениями о блуде компилятор дидактического сборника «Пчела». Отчаявшись победить это «хотение», проводники и проповедники идеи целомудрия направляли все усилия на то, чтобы ограничить, а по возможности – воспретить распространение «бацилл аморальности» прежде всего среди холостого населения, причем не только юного, но и вполне зрелого, включая вдов и вдовцов. В связи с этой задачей в лексике составителей дидактических сборников примерно с XII века появляется различие между блудом (добрачным сексом, связью холостых, различными девиантами в общепринятой сексуальной ориентации) и прелюбодеянием (супружескими изменами, нарушением обета верности мужа и жены друг другу – так называемой седьмой заповеди – адюльтером прошедших через церковное венчание супругов)48.
Иногда слова «блуд» и «прелюбодеяние» использовались как литературные синонимы, но полностью ими не стали49. В современной инвективной лексике «блядство» как термин одинаково заменяет слова «блуд» и «прелюбодеяние». В Древней же Руси термин «блядня» был синонимичен прелюбодеянию, родственный ему лексический термин «блядство» – означал блуд, «половую невоздержанность» (И. И. Срезневский)50, а слово «блядение» использовалось главным образом как синоним пустословия, болтовни (ср.: нем. разг. «Bla-bla-bla» – болтовня), суесловия, вздорных речей. Ругательного оттенка все перечисленные слова в домосковское время не имели. Не имел его и термин «блядь» – синоним отглагольных («обманщик», «суеслов») и отвлеченных («вздор», «пустяки», «безумие») существительных51. Пример тому – помимо уже известных – имеется и в известной новгородской грамоте на бересте № 531. Она описывает семейный конфликт, вызванный ростовщическими действиями некой Анны с дочерью, ринувшихся в опасные финансовые операции без ведома хозяина дома, своеземца Федора. Когда тайное стало явным, Федор в сердцах назвал «жену свою коровою, а дочь блядью» – то есть обманщицей, скрывшей, как выясняется далее по тексту документа, прибыль от своих ростовщических афер52.
Инвективный оттенок перечисленные выше существительные и однокоренные с ними глаголы приобрели на Руси не ранее Московского времени. Однако уже в XVII столетии современники отмечали, что «грубые, неуважительные слова», «грязная брань» является характерной чертой повседневного общения россиян53, которых Адам Олеарий имел все основания назвать «бранчливым народом», переведя на свой язык наиболее употребляемые из ругательств и довольно точно транслитерировав их. Если верить Олеарию, к XVII веке слово «блядь» и однокоренные с ним глаголы и прилагательные употреблялись уже только как ругательства и иной смысл утеряли54.
Перечисленные Герберштейном и Олеарием инвективные выражения ярко характеризуют русскую культуру описываемого ими времени как культуру с высоким статусом родственных отношений по материнской линии, ибо только в таких культурах большую роль играют оскорбления матери. Упоминание женских гениталий и отправление ругаемого в зону рождающих, производительных органов, символика жеста «кукиш», изображающего женский детородный орган, намек на то, что «собака спала с твоей матерью» (Герберштейн верно отметил аналогичную брань у венгров и поляков), ругательства со значением «я обладал твоей матерью» (в инверсии о распутстве самой матери) – все эти признаки характеризуют особую силу табуированности именно разговоров о матери55,56 и попутно характеризуют значимость «матриархального символизма»57.
Сопоставление древнерусской литературной и инвективной лексики, относящихся к сексу и сексуальному поведению, позволяет заметить, что в ранние эпохи в языке существовали слова, обозначавшие детородные органы и сексуальные действия, не являвшиеся эвфемизмами и не имевшие в то же время ругательного смысла. В нашем современном языке эти дефиниции уже не употребляются. Между тем в покаянной и епитимийной литературе XII–XVII веков можно обнаружить около десятка наименований половых органов, в частности – женский (мужской) уд (или юд, то есть часть тела, орган), естество, лоно, срамной уд, срам, тайный уд (или удица); все они не считались «скверностями» и употребление их вполне удовлетворяло, вероятно, и составителей текстов, и тех, для кого они писались. В затруднительных ситуациях православные компиляторы использовали греческие термины: вместо русского термина рукоблудие (онанизм) использовалось греческое слово малакия, в запрещениях анального секса вместо «непотребно естьство» и «проход» употреблялся греческий термин «афедрон»58. Примерно к XVII столетию греческие аналоги все еще использовались в церковных текстах и литературном русском языке, но в его профанном варианте прочно закрепилось употребление в связи с сексуальным поведением одной лишь инвективной лексики – блудословья («нечистословья»)59.
Общим правилом в систематизации церковных наказаний за употребление бранных слов по отношению к женщинам был – как и в случае с самими прегрешениями и преступлениями данного свойства – учет социального и семейного положения пострадавшей. Оскорбление словом как вид преступлений типа dehonestatio mulieris (казус ложного обвинения в блудодействе) упомянуто уже в Уставе князя Ярослава Владимировича (XII век) и абсолютно идентично штрафу за изнасилование: клеветнически обругать женщину распутницей было все равно что совершить подобное обесчещение60.
Церковные законы позднейшего времени позволяют сделать еще одно важное наблюдение: наказание за блуд с невинной девушкой было более строгим, чем за прелюбы с «мужатицей». В церковной иерархии ценностей девушка стояла выше тех, кто был в браке или вне его «растлил девство», постольку одной из основополагающих идей в этической системе православия была именно идея сохранения «пречюдной непорочной чистоты», вечной невинности как идеала, доступного избранным («много убо наипаче почтенно есть девство, убо неоженившаяся вышши есть оженившейся», «аще хощет без брака пребывати, не ити замужь – добре есть се»)61. Исходя из этого нравственного постулата, проповедники причисляли обесчещение девушки, насилие над ней к числу тяжелейших грехов.
Однако исповедные вопросы, «список» которых компилировался исходившими из повседневной практики православными духовными лицами, косвенно свидетельствуют о том, что преступления против чести девушек были весьма распространенным явлением. И совершали подобные проступки не только те, кого исповедальники именовали «прост человек», но и сами лица духовного звания, долженствовавшие в идеале быть образцом для мирян. «Осилие» девушки, совершенное «простецом», каралось, разумеется, не столь строго, сколь преступление, совершенное «мнихом», попом, а тем более епископом (видимо, все же, казусы были, если правовые памятники не исключали этого исповедного вопроса). От четырех до шести лет епитимьи (поста «о хлебе и воде») для простецов, которых авторы требников еще надеялись «оженить» на обесчещенных девушках и тем или иным путем вернуть в лоно церкви, – противостояли многолетней (от двенадцати до двадцати лет) епитимье для черноризцев и священников. Епископа за подобные развратные действия предписывалось немедленно лишить сана62.
Еще более строгие моральные взыскания ожидали тех, кто «творил блуд» с обитательницами монастырей. Ранние церковные памятники оставили свидетельства того, что мирские и более того – вакхические соблазны вторгались порою в эти цитадели христианского благочестия: «Иже в монастерях часто пиры творят, созывают мужа вкупе и жены…», «иже пьють черницы с черньцы…»63. Следствия подобных пиров не заставляли себя долго ждать: «невоздержанье, нечистота, блуд, хуленье, нечистословье…», а в результате – наказания и тем, кто «девьствовати обещавши, сласти блудни приял», и тем, кто на этот грех их сподвигнул. Особенно греховными в этом случае казались проповедникам «съвокупления» тех, кто должен был являть «добронравие святительского подобия» – то есть черноризцев с монашенками: их «блуд» приравнивался к «кровоместьству» (инцесту духовных родственников)64. Глубоко безнравственным не без основания считалось осквернение девушки-«черноризицы»: церковные законы предписывали не пускать такого развратника в храм, ибо он – «сущщи убийца есть»65.
Усилия древнерусских и средневековых проповедников по утверждению христианских моральных норм в отношении блуда холостых были значительны, но результаты этой деятельности малоудовлетворительны. Поэтому из столетия в столетие в исповедальной и дидактической литературе неизменно присутствовала тема добрачных связей и блуда не вступивших в брак, а потому не подвластных «вождям слепых, наставникам блудящих». Эти «вожди» и «наставники» неоднократно жаловались на страницах своих посланий в «высшие инстанции» (епископу, митрополиту), что молодежь охотно «клянется» на исповедях «блюстися блуда». А на деле – одни «сблюдут како любо», другие – «мало», а третьи вовсе тут же «падают». Чтобы избежать кошмарного промискуитета, некоторые священники «на местах» на свой страх и риск (как епископ Нифонт в XII веке) рекомендовали тем, кто был еще не связан узами брака и безвольно отдался своим «чювствам», по крайней мере, удержаться от частой смены партнеров («аже ся не можещь удержати – буди с единою»)66. В то же время священникам было сверхнеобходимо не упускать подобную молодежь и холостых из поля своего зрения, заставляя их признавать недостойность своего поведения, «каятися» и с раскаянием «преставать от блуда». Победа над «блудливостью» холостого приравнивалась к угашению в нем «пламеня огненнаго»67.
В отличие от современных блюстителей нравственности, православные проповедники, говоря о растлении невинных, практически не интересовались возможностью и последствиями совращения юноши опытной женщиной. «Испортить», по их терминологии, могли только невинную девушку. В единственном найденном нами исповедном вопросе о беззаконной связи «жены» с отроком (а под термин «отроки» попадали молодые люди добрачного возраста, примерно десять-четырнадцать лет) упомянуто даже меньшее наказание обоим участникам проступка, чем за обычный блуд, – всего шестьдесят дней «сухояста» (поста на хлебе и воде)68.
Зато особый круг вопросов о блуде создавали ситуации незаконной связи представителя привилегированного сословия с «рабою» (так именовались в покаянной литературе все девушки и женщины из среды социально зависимого населения). Проще всего для древнерусских компиляторов дидактических сборников было бы следовать в этом деле пожеланиям византийского брачного права, предписывавшего «осподину» освобождать ту «рабу», которую он обесчестил69. Однако такое требование могло коснуться лишь изнасилования рабыни: казусы «пошибанья» и «осилья» рабынь чужими «осподами» рассматривались как уголовно наказуемое деяние, штрафы за которое росли от столетия к столетию (выплачивались они, разумеется, владельцам «рабынь»-холопок)70.
В определении наказаний за интимные связи холопок со своими «осподами» духовные отцы чувствовали себя не столь уверенно. С одной стороны, права владельцев зависимых «хрестьян» давали им возможность распоряжаться их судьбами. В то же время пределы этих возможностей были весьма неопределенны. К тому же на Руси с древнейших времен отсутствовало «право первой ночи», замененное денежной компенсацией в пользу князя еще при княгине Ольге (середина X века)71. Весьма тонкой материей представлялось и добровольное грехопадение холопки, и дальнейшее ее сожительство со своим господином: кого и за что здесь было наказывать? В случае если «съвкупление» господина с холопкой завершалось беременностью последней, то вне зависимости от ее дальнейшего поведения («родит дете» или же «проказит дете в собе», добившись выкидыша), – ее предлагалось освободить72. Если на беззаконную связь решался схимник – ему не позволялось три года входить в церковь и назначался на это время пост73. На венчание и законное закрепление мезальянса его участники не могли рассчитывать: церковь поначалу вообще пугала, что «от раб ведома жена есть зла и неистова» (то есть не женись на женщине, стоящей ниже тебя по статусу, – получишь сущее исчадие ада).
Однако к XVI веку всевозможные устрашения и запрещения всем решившимся на смешение классовых и социальных различий в браке74 сменились толерантным отношением некоторых церковных деятелей к мезальянсам. «Рабу-наложницу име[ющий], или оставит ее, или по закону оженится ею. Аще же есть свободна – да законно поимет ю» – предлагал один из требников московского времени. Принимая в свое лоно бывшую холопку-блудницу, церковный закон строго спрашивал уже с нее – «токмо ли с единым своим господином она совокупляшася»? В случае утвердительного ответа ее разрешалось венчать, а «блудящей с инеми» предписывался решительный отказ («отвержение») – пока не «очистится» поклонами и покаянием75.
Судя по сборникам исповедных вопросов, куда более распространенным было сожительство – прелюбы – «осподина» с рабою при наличии у него венчаной жены. Холопок, приживших от господина «чад», называли на Руси меньшицами – вторыми женами. Число вторых, «неофициальных» семей учету не поддается, но их существование оказывало, разумеется, влияние на брачность, рождаемость, детность и иные демографические показатели76. Блуд с рабою как пережиток многоженства (или как черта неистребимой склонности мужчин к смене сексуальных партнерш) к XV веку стал представляться одним из наименее значительных и требующих внимания грехов.
Вынести аргументированное суждение о самом многоженстве в допетровской России X–XVII веков трудно из‐за отрывочности данных. Известно, однако, что в домонгольский период, до начала XIII века, деятелям церкви время от времени приходилось иметь дело с открытым прямым двоеженством. Пока канонические сборники заверяли прихожан, что жить «бес стыда и срама с двумя женами» означает жить «скотьски» и назначали отлучение от причастия, летописцы пристрастно фиксировали подобные ситуации. О том же говорят и некоторые нормативные памятники77, упоминающие, что «друзии (некоторые) наложници водят яве (держат открыто) и детя родят, яко с своею (женою)», что в имуществе умершего главы семьи может возникнуть «прелюбодейна часть», полагающаяся незаконной, не «водимой» жене и детям от нее78. В среде «простецов» наличие вторых семей тоже было, в принципе, возможно79. Появление же в летописях сообщений о побочных семьях в среде знати вызывалось скандальностью самой ситуации и в то же время ее распространенностью.
О стремлении древнерусских мужчин к сексуальному разнообразию и готовности к частой смене партнерш косвенно свидетельствует и сообщение митрополита Ионы (XV век), ужаснувшегося тому, что – несмотря на запрещение оформлять третьи браки – «инии венчаются незаконно… четвертым и пятым съвкуплением, а инии – шестым и седмым, олинь (один) и до десятого…»80. В сборниках исповедных вопросов встречаются описание ситуаций группового секса, однако, как правило, между родственниками («аще два брата с единою женою осквернятся или две сестре с единым мужем…»)81.
Явления полигинии – сравнительно прочных и длительных связей вне основного, венчаного брака, наличия побочных семей – никогда не смешивались в сознании средневековых православных дидактиков с примерами уголовно наказуемых групповых изнасилований (толоки)82. Толока, если судить по текстам канонических памятников, зачастую сопровождала упомянутые выше игрища. Эти «компанейские предприятия», да еще нередко и с обманом, не были, однако, обрядовыми. И все же «сама теснота, сам физический контакт тел получал некоторое значение: индивид ощущал себя неразрывной частью коллектива, членом массового народного тела»83. Эти ощущения и переживания были сродни сексуальным и подталкивали к «всеобщему падению». В то же время в ранних памятниках отсутствовали наказания за блуд «двух мужей с единой женою». И это объяснимо: только на первый взгляд подобная форма интимных связей представляется пережитком дохристианской свободы. При более глубоком анализе они могут предстать (и не случайно именно такими и являются в покаянной литературе XV–XVI веков) показателем постепенной индивидуализации и сентиментализации сексуальных переживаний, началом признания в сексуальности (разумеется, не дидактиками, а теми, кто «грешил») самоценного аффективного начала84. Примечательно в этом смысле, что исповедный вопрос по поводу рассматриваемого нами казуса обращен к «жене» (если она «створит» подобное с несколькими мужчинами). И женщина в этом случае, как мы видим, выступает отнюдь не жертвой, а искательницей «сластей телесных».
Тезис о том, что образ женщины как воплотительницы сексуального удовольствия был едва ли не центральным в православной и вообще христианской этике, давно уже стал трюизмом. Большинство отцов церкви, а вслед за ними – составителей учительных текстов, всерьез полагало, что в массе своей женщины изначально более сексуальны, нежели мужчины. На Руси даже библейского Змия-Искусителя изображали подчас в виде женщины-Змеи, фантастического существа с длинными вьющимися волосами, большой грудью и змеиным хвостом вместо ног85. Полагая, что в браке именно «жены мужей оболщают, яко болванов», что любая «жена (в данном случае: женщина. – Н. П.) от Диавола есть», авторы проповедей регламентировали интимное поведение прекрасного пола с большей строгостью86. В многочисленных и разнообразных «беседах» о «женской злобе» (точнее – о зле и «нестовстве», вносимых в жизнь мужчин женщинами), злые жены неизменно представали (как и в аналогичных западноевропейских текстах)87 ярким олицетворением нравственных пороков, «прелюбодейницами», «блудницами», для которых «любы телесныя», то есть физиологическая основа брачного союза, представлялась более существенной, нежели основа духовная. Попытки женщин усилить свою сексуальную притягательность – использование косметики, притираний, нескромные движения – «вихляния» и соблазняющие жесты, в том числе подмигивания – «меганье», – неизменно именовались в православных текстах «дьявольскими», а сами женщины – «душегубицами», «устреляющими сердца» доверчивых мужей88.
Разумеется, в канонических сборниках вопрос об удовлетворенности самой женщины в сексуальных отношениях рассматриваться не мог89: секс сам по себе уже считался «удоволством»90. Единственным оправданием этого «удоволства» для женщины – в глазах древнерусских духовников – было частое рождение ею «чад» и пополнение, таким образом, числа благочестивых христиан.
Не только поздний фольклорный материал, выявляющий трезвое отношение крестьян к супружеской сексуальности («Дородна сласть – четыре ноги вместе скласть!», «Легши сам-друг будешь сам-третей», «Спать – двоим-быть третьему», «У двоих не без третьего» – записи XVII века), но и сопоставительный анализ православных назидательных текстов XV–XVII веков, с более ранними, XIII–XIV веков, позволяет ощутить смещение акцентов. Речь идет о постепенном отказе от категорического осуждения любых проявлений чувственных желаний и переходе к вынужденному согласию на их необходимость, медленном избавлении от страха за то, что любовь к ближнему может заслонить главную цель жизни (заботу о спасении души), к вынужденному признанию самоценности супружеской любви. Речь могла идти, разумеется, лишь о любви платонической, не чувственной91. Один переписчик учительного сборника, полного всевозможных «богоугодных» запретов и воспевающего аскезу, приписал в сердцах на полях: «Горко мене, братие, оучение! Месо велит не ясти, вина не пити, женне не поимати…»92
Действительно, формально интимная жизнь любого человека, в том числе супругов, если она подчинялась церковным нормам, должна была быть далеко не интенсивной. На протяжении четырех многодневных постов, а также по средам, пятницам, субботам, воскресеньям и церковным праздникам «плотногодие творити» было запрещено93. Требование это показалось одному из путешественников-иностранцев XVII века трудновыполнимым. Да и частые детальные описания нарушения этого предписания (названные в епитимийных сборниках «вечным грехом») создают впечатление о далеко не христианском отношении прихожанок к данному запрету94,95. Отношение к сексу как «нечистому», «грязному» делу заставляло церковных деятелей требовать непременно омовения после его завершения – что совпадало и с элементарными гигиеническими требованиями96.
Общим термином для «нормального», вынужденно-разрешенного супружеского секса в древнерусских и московских епитимийниках было «съвокупление». Простота и обычность акта совокупления рано вошла в народную поговорку97. Но наказаниями за малейшее отступление от введенной проповедниками «нормы» пестрят тексты всех исповедальных сборников, в частности за «невъздержание» подобного рода после принятия причастия (50 дней поста) и за соитие в постные дни98. Мечтая победить «соромяжливость» (стыдливость) прихожанок, исповедники требовали точной информации обо всех прегрешениях и в то же время, противореча сами себе, полагали, что «легко поведовати» может только морально неустойчивая злая жена.
К началу Нового времени отношение к «соромяжливости» женщины ужесточилось. С внедрением церковных представлений о целомудрии стали считаться предосудительными любые обнажения и разговоры на сексуальную тему, а в исповедных сборниках не только не прибавилось казусов и исповедных вопросов, но и имеющиеся были сокращены и унифицированы99. Реже стали встречаться запрещения супругам «имети приближенье» по субботам (ранее сексуальные отношения в ночь с субботы на воскресенье вызывали протест церковнослужителей в силу их связи с языческими ритуалами), исчезло требование воздержания по средам и пятницам. Изменилась «мера пресечения» для тех, кто «помыслив» о греховных плотских удовольствиях, не совершил ничего из воображаемого («не сътворил ничто же») – исповедник настаивал вместо прежних многодневных постов всего лишь на сорока земных поклонах100. Даже за соблазнение во сне предписывалось лишь «помолиться да поклониться» и не налагалось запретов «в олтарь влазати»101.
Регламентация интимной жизни женщин стала менее мелочной, но не менее строгой: так, в XVI веке в назидательных сборниках появилось требование раздельного спанья мужа и жены в период воздержания (в разных постелях, а не в одной, «яко по свиньски, во хлеву»)102,103, непременного завешивания иконы в комнате, где совершается грешное дело, снятия нательного креста104. В то же время стремление избежать богопротивного дела дома заставляло «нецих велми нетерпеливых» супругов и просто «женок» совершать его в церкви. Вероятно, это не казалось средневековым московитам кощунственным. Об этом говорит и то, что наказание женщин за этот проступок не было строгим105.
В отличие от Запада, в православных учительных текстах не было и не появилось запрещений «любы телесной, телесам угодной» во время беременности женщины106. Зато достаточно жестким оставалось введенное еще во времена первых переводных учительных сборников запрещение вступать с женой в интимный контакт в дни ее «нечистоты» (менструаций и шести недель после родов). Несмотря на положительное влияние этой рекомендации на здоровье женщин, «подтекст» ее был отнюдь не гигиенический. Женщина считалась «ответственной» за временную неспособность к деторождению, любое же кровотечение могло означать самопроизвольный или, хуже, специально инициированный аборт (отсюда – требование немедленно покинуть храм, если месячные начались у нее в церкви)107,108.
Применение контрацепции («зелий») наказывалось строже абортов: аборт, по мнению православных идеологов, был единичным «душегубством», а контрацепция – убийством многих душ109, поэтому епитимья за нее назначалась на срок до десяти лет. Некоторые клирики полагали, что применение контрацептивов «мужатицами» даже более предосудительно, нежели попытки избавиться от плода случайно попавших в беду незамужних «юнниц»110. Для церковных идеологов не было секретом, что аборт был нередко следствием досадной неосторожности «блудивших» жен, и потому о всех вытравительницах и решившихся на искусственное прерывание беременности говорилось как о безнравственных «убивицах»: «И не испытуем» (то есть вопрос – не дискуссионный) заключали они111. Любопытно, что контрацепция (в том виде, в каком она была известна в Средневековье) рассматривалась церковными деятелями как безусловное зло по отношению к здоровью самой женщины, а попытки избавиться от ребенка во чреве – предупреждалось в церковных текстах – могут привести к серьезным нарушениям в организме («омрачение дает уму») и даже смерти вытравительницы112.