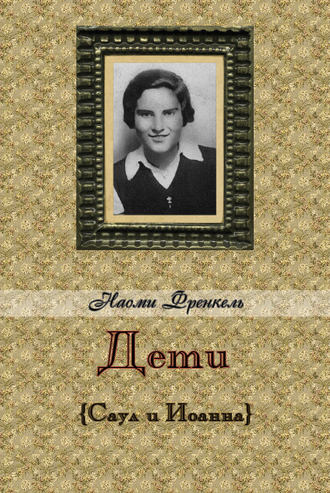
Наоми Френкель
Дети
– Эрвин, ну что-то ты там замешкался?
– Я иду, Герда! Я иду! – и замирает в дверях комнаты. – Вот, для тебя, Герда. – Он приближается к ней и протягивает плитку шоколада.
В полном удивлении, она сотрясается от смеха и кутается в свитер.
– Возьми, Герда, возьми.
Какая-то непривычная мягкость слышна в его голосе, и плечи ее вздрагивают. Лицо его какое-то совсем иное, словно что-то отвлеченное проступает в нем.
Она протягивает ему руку и бормочет:
– Очень красиво, Эрвин. Спасибо. Это действительно приятно.
Ее шершавая рука, дрожащая в его руке, пробуждает непривычные, забытые струны души. Губы прижимаются к ее руке с жадностью человека, который ждал этого мига давно, выстрадал его. Лицо ее тоже меняет выражение. В последние недели страдания сделали выражение ее лица смутным, огрубило его, и светлые глаза потемнели. Она разрывалась между верностью Эрвину и верностью партийному долгу. И выбрав партию, она замкнулась в отчаянии. После такого решения, она не была готова а таким эмоциям.
Все было перевернуто, вопреки всякой логике. Лицо ее было растерянным, красным, глаза увлажнились. Она положила свою холодную руку на его охваченный болью пылающий лоб.
– Но, Эрвин, Эрвин, – поглаживает она плитку шоколада, лежащую на одеяле. Эрвин склоняет к ней голову и обнимает ее плечи. Запах алкоголя ударяет ей в лицо.
– Ты пьян! – Она отталкивает его, и выражение омерзения проступает на ее лице. Эрвин отпрянул. Не он, а что-то более общее засмеялось в нем коротко и остро. Герда не может принять его беспомощность.
– Твой ужин там. Сядь и поешь, – указывает она на печь в углу комнаты.
Но Эрвин не голоден. Тошнота сжимает его горло. Он хочет удалиться в смежную комнату, к маленькому сыну, лечь на диван, отключиться от всего, и от нее тоже. Но не решается. Послушно идет к печке, извлекает сковороду с едой, которую она ему приготовила. На столе белая светящаяся чистотой скатерть, и посуда, приготовленная для ужина. Но эта чистота и порядок уже не связываются с его жизнью, которой завладел беспорядок и сумятица. Он рассеянно плюхается на стул, а Герда молчит. Чем-то раздражает нервы это тяжкое молчание. Он захлебывается, кусок не лезет в глотку, и он отталкивает тарелку. Дрожь от холода сотрясает его тело. Он кладет руки на стол, и голова падает на них. Босые ноги замерзли. Убегая от зеркала к Герде, он забыл надеть домашние туфли. Он хочет рассказать ей, что носки у него порвались, и смеется про себя: чего ему приходить к ней с такими мелочами? Чувство бунта против всего этого пробуждается в нем. Чувство сопротивления рождает в нем новые силы:
– Носки у меня порвались.
– Ах, – поднимает она голову, – действительно, я не проверяла твои носки в последнее время... Почему ты не надел хотя бы домашние туфли?
– Я не нахожу их.
– Сейчас принесу.
– Что ты? Не выходи из теплой постели в холодный коридор.
– Чего ты столько времени шатался по улицам после собрания?
– Ты уже все знаешь о собрании. Рыжий тип посетил тебя и сегодня.
– И не один. И не ко мне пришли. К тебе.
– Ко мне? Что им еще от меня нужно?
– Хотели с тобой поговорить. Пришли с добрыми намерениями. Они хотят отменить суд, учитывая былое ваше товарищество. Ты знаешь, Эрвин, внутренний партийный суд требует выводов и также... Приговора. – Голос ее холоден, и Эрвин опускает голову. – Эрвин, хотя бы один раз нам следует поговорить открыто. Я давно жду этого разговора. У меня нет больше сил – все это выдержать. Что будет, в конце концов, с нами, Эрвин?
Он уже слышал такой вопрос в ту ночь. В мозгу его смешиваются голоса.
– Что будет с тобой, в конце концов, юноша Эрвин?
Жестяная ложка ударяет в миску с ядом. Порывы ветра взвихривают снег за окнами, стучат в стекла. Печаль в голосе Эриха Бенедикта Фидельмана столь глубока, что в самом вопросе заключен ответ. Красный фонарь раскачивается на ветру и старуха, мать Хейни, говорит хриплым голосом: «Нет нужды в стольких словах, Эрвин, я видела знак на твоем лбу». Эрвин проводит ладонью по лбу. Сердце возбуждено ощутимо ночным безумием, а в душе усталость и размягченность, какие бывают после долгого, трудного и бесцельного диспута. Герда в ореоле света не поднимает головы, и молчание между ними, как пропасть.
– Герда, уже все сказано, слова тут уже не нужны.
– Когда было сказано что-то серьезное? – отвечает она сердито. – Давно уже мы не говорили откровенно.
– Говорили, Герда. Был долгий разговор. Нечего к нему прибавить.
– Эрвин, что ты говоришь? Ты...
Хотела добавить слово «пьян», но Эрвин вскочил со стула и смотрит на нее тем взглядом, в котором выражено все его душевное состояние. Она опять кутается в свитер, вид у нее несчастный.
– Герда, – придает он своему голосу добросердечный тон, – ты хотела сказать, что я пьян. Нет, дорогая моя, опьянение мое в эту ночь было не опьянением. Я вернулся к тебе из ужасных мест. Там все сказано, Герда. Там все потеряно. Я вернулся бездомным. Осталась нам лишь сила души. Силы, которым вручены наши жизни, не в силах отобрать наши души. И душа моя любит тебя, Герда. Странно, что в дни, когда, по сути, все разрушено, именно, в эти страшные дни я ощутил в себе любовь. Это талант души, как любой талант, и он обладает великой силой, если хочешь знать. Давай держаться друг за друга.
– Эрвин! – кричит Герда. – Если ты меня любишь, почему оставляешь меня на произвол судьбы?
– Я оставляю тебя, Герда? На кого?
– Ты оставляешь меня в их руках! Я остаюсь у них, Эрвин, чтобы стеречь твою жизнь. Не только потому, что, по-моему, нельзя оставлять воюющий фронт, не только потому, что оставлять его я считаю предательством. Не из-за всего этого я осталась с ними. Я не хочу потерять свой дом. Но пока еще я их лидер, я сумею защитить твою жизнь.
Он ерошит ее волосы и улыбается. Свет лампочки мигает. Ночь заглядывает в комнату.
– Бедная моя. Так и осталась наивной и чистой. Душа твоя не постигает, что они, твои друзья не отличают невинность от долга. Я о тебе беспокоюсь, Герда.
– Если так, Эрвин, почему ты не делаешь единственную вещь, которую надо сделать?
– Что ты просишь от меня?
– Сядь и успокойся. Они от тебя не требуют ничего, кроме твоего молчания. Что тебе до этой войны? Один, без партии, ты ведешь против них подстрекательские речи. И долго ты будешь это делать?
Снова в ее глазах ожесточение человека, решение которого неизменно, и он не хочет слушать никаких возражений. И от этого решительного лица в сердце его вернулось отчаяние. Он отворачивает от нее взгляд. Там, за темными стеклами, возникает лицо старухи, и низкий ее голос звучит в опустошенном мире, на собрании в память ее убиенного сына.
– Мой Хейни один пошел войной и не вернулся. И муж мой пошел не с толпой, один, и больше я его не видела. В тот день объявления войны, он вернулся домой с улицы и сказал:
«Голубка моя, толпа восторженно взывает к войне, а в углу, на ящике, стоит один единственный человек, Карл Либкнехт, и проповедует против войны. Я с ним, голубка моя... на фронт пойду, к оружию не прикоснусь». Вышел и не вернулся. От таких людей, как он, стараются быстро избавиться!»
Он снова смотрит на Герду:
– Я должен идти своей дорогой, даже один. Или ты бы хотела, чтобы я потерял самого себя, стал человеком без обличья, без внутренней сущности?
Она поджимает губы. Взгляд ее падает на чистую подушку, приготовленную для него.
– Разденься, Эрвин, – она ловит его удивленный взгляд, обращенный на чистую подушку. – В эту ночь тяжко во много раз. Поспим немного, Эрвин.
Когда он сбросил рубашку, на лице отразился ужас. Она увидела синяки на его руках и теле.
– Эрвин, что случилось? Что произошло?
– Бой, Герда, – отвечает он равнодушным голосом.
– Бой? Кто тебя бил? Кто тебе это сделал?
– Избили как надо!
– Кто? Кто?
– По двое с каждой стороны, Герда, – отвечает он с легким смехом, – я оказался между забастовщиками.
Он рассматривает свои руки в синяках, словно пытаясь определить, кто бил его. Герда сбрасывает одеяло. И с чувством солидарности бежит к нему и обнимает за шею. Слезы текут из ее глаз. Она прикладывает прохладные руки к его синяках.
– Они тебе это сделали. Все! Все! – сильные рыдания сотрясают ее.
Он сжимает ее в объятиях, целует в глаза, полные слез, чувствуя с удивлением чудные ее объятия.
– Что они с тобой сделали?
Он старается успокоить ее и слегка отстраняет от себя.
– Успокойся, Герда. Это обычное дело. Происходит каждый день.
– Но все это они тебе сделали. Все набрасываются на тебя. Все!
Она чувствует его одиночество, как свою вину. Прижимается к нему, и он обнимает ее. Они сжимают друг друга в объятиях, словно боятся потерять друг друга. Эрвин гасит лампу, держит ее в объятиях, гладит ее тело и голову, как бы защищая ее от стужи и ветра.
Глава четвертая
Утро неудач. Саул в кухне готовит себе утренний кофе. Отец и мать еще спят сном праведников. Сумеречные часы рассвета. Едва-едва пробивается слабый серенький свет сквозь ночные темные грозовые облака. Ветер посвистывает над разбитой жестью домашнего водостока, по которому стекает, наполняя двор, тающий снег с крыши. Длинные сосульки виснут на окне кухни. Снег падал всю ночь. Нога человека еще не ступала по девственному белому ковру. Не слышно голосов снаружи и в доме, только – посвист ветра. Один Саул бодрствует. Он склоняет взъерошенный чуб над кастрюлей, в котором кипит вода, и восходящий пар согревает сморщившееся от холода лицо. В кухне стужа. Слабые язычки пламени газа не в силах согреть помещение. Пальцы Саула одеревенели от холода. Он подтягивает до уровня рта темный свитер, но это, вместе с толстыми штанами для верховой езды, заправленными в шерстяные носки, доходящие до колен, не спасает от холода, сковывающего все тело. Он обхватывает двумя руками горячую чашку и ставит ее на стол, рядом с открытой книгой о герое русской революции, командире конной армии Буденном: с цветной обложки смотрит красное лицо с огромными усами. Медленно мажет Саул масло на булку и отрезает себе несколько кружков колбасы, словно этой медлительностью пытается отсрочить какое-то решение, которое должно быть принято в эти минуты, здесь, в этой холодной кухне. Лицо его хмуро и даже несчастно. У него большие неприятности. Задумавшись, он кладет толстые кружки колбасы на булочку с маслом. Медленно, пока родители спят, Саул нарушает все правила кошерности . Откусывает от вкусной трефной булки, склонившись над усатым всадником. Речь героя русской революции – на восьмидесятой странице. Саул дважды прочитал книгу, а речь – несчетное число раз.
Воробьи выпархивают из-под водостока, и заполняют двор ужасным чириканьем, кофе заледенело, а Саул так погружен в чтение речи героя, что даже буйный свист ветра за окном его не колышет.
– Ха!..Красное знамя, порванное в боях, развевается в руках пролетариев, готовых к битве против империалистов. Палачи революции в своих блестящих сапогах успевают сделать лишь несколько шагов от жилищ революционеров. Знамя мощно развевается на весеннем ветру, и Буденный на высоком коне натягивает уздцы, и голос его громом отзывается в сердцах.
– В бой, товарищи! Первая в мире власть рабочих и крестьян приказывает вам атаковать черную реакцию и добиться победы. Шашки к бою против хищных зверей в человеческом обличии. С пролетарским мужеством и большевистским упрямством – против изнеженных белоручек!.. – Какие слова! Но в это утро даже такие прекрасные слова не в силах успокоить Саула. Утро судьбоносного решения. Саул смотрит в книгу и не читает. По сути, эта книга – подарок Иоанне, купленный к последнему ее дню рождения, который праздновали в саду ее дома. Иоанна не была в восторге от этой книги. Никогда не упоминала имя Буденного в их серьезных разговорах, просто была к нему равнодушна. Вместо этого читала уже пятый раз книгу «Алтнойланд» («Старая новая страна» ) и до того была от нее в восторге, что повесила над своей кроватью портрет автора Теодора Герцля. И если он во время не сбежит, ее разговор об этой книге и ее авторе будет нескончаем. В последние дни Саул сторонился ее. В глазах окружающих он все еще ее друг. Но только в их глазах и глазах Иоанны. Но в душе своей он считает, что дружба эта завершилась, только она этого еще не знает. Он расстался с ней в день большого сионистского собрания. Оратором был Александр из Израиля. Он говорил об образцовом государстве, которое создадут евреи в их древней – новой стране. И тут же Иоанна стала ему нашептывать: «Как у Теодора Герцля, как в «Алтнойланд». И он очень рассердился. Из-за чего? Из-за того, что нет предела ее восторгу от книги, в которой буржуа собираются создать буржуазное государство. И мягкотелые белоручки в удобных креслах на верандах кафе обсуждают ее между двумя глотками кофе. Нет! – Саул поднимается со стула, идет к плите, нагреть себе вторую чашку кофе.
На том собрании Саул не успел сказать Иоанне, что совсем не в восторге от речи Александра. Абсолютно нет. Как он представляет себе создание образцового государства, если до этого не будут оттуда изгнаны все империалисты, плутократы, колониалисты и капиталисты – английские, арабские и еврейские? Даже намеком не упомянул Александр великую революцию, которую необходимо произвести в Израиле, чтобы там создать образцовое государство. Не смог Саул высказать свое мнение, потому что все встали и спели «Атикву». Но он, конечно, рта не раскрыл. В движении поют не эту буржуазную песню, а гимн рабочих «Крепись...» А Иоанна?.. Она, конечно же, пела эту буржуазную песню. Но потому что она вообще не участвует в коллективных спевках, и это справедливо, – она не сумела издать ни одного нормального звука, одну фальшь. И не только потому, что она вдруг решила эти звуки издавать, но при этом расчувствовалась до слез. Платка, естественно, как всегда, у нее не было. Ему стало за нее стыдно. Какой позор! И он решил – надо кончать эту дружбу с ней, прервать всяческие отношения! Невозможно больше терпеть все ее выдумки в последнее время! Например, в строчке песни «Здесь, в стране наших праотцев» она вздумала поменять слово «здесь» на «там». И тут же открыла по этому поводу шумную кампанию и говорит, и говорит, и возбуждает все подразделение, так, что все уже поют по-новому. Саул – в оппозиции! В последнее время он резко выступает против всего, что говорят их инструктора и товарищи по движению. Трудно быть в оппозиции. В общем-то, ему не очень нравится быть всегда против, тем более, что ничего хорошего это ему не принесло. Так или иначе, его постигли неприятности! Саул вскакивает со стула. Ноги совсем замерзли. Деревянный пол в кухне скрипит под его шагами. Только бы не разбудить отца и мать. Он останавливается у окна. Снежная пустыня протягивается до подоконника. Подвал Эльзы совсем исчез. Так или иначе, подвал пуст. Летом умерла мать Эльзы... Саул поворачивается спиной к белому двору, и шум ветра смешивается со стуком сердца.
Так или иначе, наступает судьбоносный час молодежного движения, которое отныне не является только мечтой. Летом выезжает первая группа на базу по подготовке к репатриации. Подразделение должно будет выбрать кандидатов. Великое дело! Атмосфера была накалена, глаза Иоанны сверкали, словно в нее вселилась лихорадка. Воздух в комнате, где велась судьбоносная беседа, просто стоял недвижным столбом от жары и невероятного напряжения. Только Саул был равнодушен. Его это не колышет. Его не интересует вообще молодежная репатриация. Кроме того, он был уверен, что его не выберут, ибо в последнее время у него были бесконечные стычки и ссоры с инструкторами и товарищами. Кто выберет оппозиционера кандидатом на репатриацию? И вот... его выбрали. Из-за Иоанны, естественно. Встала, говорила и убедила, вошла в раж и убедительно доказала, что нет лучшей кандидатуры для представительства их молодежного подразделения. Он являет совершенство человека, представляющего движение. Господи! Это беда! Он, который в душе решил оставить движение, избран его представителем. Белла и Джульетта, руководители движения, присоединились к мнению Иоанны, и вообще не коснулись его оппозиционности. Все было зря! Теперь он обязан принять решение в ближайшие дни. Сообщить однозначно, что он покидает движение!.. Хотя ему нелегко его покинуть. Он любит его. Но какова ценность столь мягкотелой любви, когда на улицах Берлина идет настоящая война. Саул хочет присоединиться к коммунистической молодежи, выйти на уличную борьбу, воевать, а не сидеть, сложа руки и оставить классовую борьбу до отъезда в Израиль, как этого требует движение от своих членов. Нет! Саул с пылающими гневом улицами Берлина. И любовь к сионистскому движению больше не представляет для него интереса.
Резкий гудок машины сотрясает кухню. Это привезли утренние газеты в киоск Отто. Огромный пес Ганса Папира заполняет ужасающим воем, явно возвещающим начало нового дня, переулок от края до края. Уже во дворе слышна сумятица голосов из дома. Восходит новое снежное вьюжное утро, как и каждое утро в этом месяце. Хлопотливое, полное забот утро.
Саул готовится на выход, берет с собой книгу, рабочую одежду, всю в пятнах, и несколько ломтей хлеба, приготовленных вчера матерью, вовсе не для школы. Саул больше ее не посещает. Осенью ухудшился ревматизм господина Гольдшмита, и нет у него больше сил – ходить без помощи толстой трости. Каждый день он вынужден сидеть в плетеном кресле, которое служило деду, и тот, сидя в нем у окна, взирал на узкий двор. Теперь Саул кормилец семьи, и весьма в этой роли преуспевает. Дела лавки под его руководством идут успешно. Он ловок, быстр, его на мякине проведешь. Каждое утро он отправляется на бойню, и не дает мясникам себя обмануть. Он что, не мужчина? Нет мужчин, подобных ему! Саул напрягает грудь. Есть, что напрячь! Он сильно вырос за лето и осень, почти достиг роста дяди Филиппа, и уже можно видеть, что он его обгонит в росте. Это наполняет Саула гордостью. Грудь и плечи расширились у него не по возрасту, мускулы окрепли, и летом он завоевал для подразделения первое место по плаванию. Нет сомнения, его уход оттуда нанесет подразделению большой ущерб. Они еще сильно пожалеют и почувствуют кто он, после его ухода. Это тоже доставляет ему удовольствие, улучшает настроение, но и немного печалит. Иоанна, несомненно, будет огорчена. Не так быстро она найдет себе нового товарища. Может, вообще не найдет, и его охватывает жалость к ней. Нет! Он еще недостаточно закален. Еще остались в его душе следы мягкотелости. Жалость... она не подходит к той жесткости, которой требует его душа. Молодой кормилец решительно сморкается. Лицо усиленно хмурится. К такому лицу идут едва пробивающиеся усики, пока еще очень тонкие, лишь едва покрывающие верхнюю губу пушком, который придает хмурому лицу некое легкое щегольское выражение, которое явно портит ему настроение. Из-за этого он приобрел очень темные очки с широкими стеклами, придающие его лицу серьезность, подходящую к его отношению к миру. Саул явно восстает против правил вежливости и уважения к окружающим. Прошло время, когда он боялся окрика отца и назиданий матери. От напора госпожи Гольдшмит мало что осталось. Ее глаза, которые были проворнее змеи, успокоились в последние месяцы, и лишь вспыхивают при появлении ее брата Филиппа, который упрекает ее в том, что она забрала сына из школы. Тогда госпожа Гольдшмит упирает руки в бока и говорит прежним сварливым голосом:
– Такова жизнь. Что мне делать? Попробуй ты сделать лучше.
Дядя Филипп уходит, и молодой кормилец посылает ему вслед презрительный взгляд. Чего ему, дяде, являться сюда со своими нравоучениями? Какое еще удовольствие от дяди?!
Саул натягивает брюки, затягивает их поясом, на пряжке которого знак магендавида, и к поясу приторочены кожаные ножны с длинным и острым кинжалом. Все это – обмундирование молодежного движения. Быстро надевает куртку зеленого цвета, затягивая ее широким кушаком и большой сверкающей пряжкой. Куртку эту он приобрел несколько дней назад, и на пряжке ничего не выгравировано. Голову покрывает синим беретом, который тоже в моде среди членов движения, натягивает на руки перчатки, берет из угла новый велосипед Иоанны, готовясь в дорогу. Дом уже шумит в полную силу. Во двор вышли люди с ведрами в руках, собирают чистый снег, чтобы приготовить утренний кофе. Во многих квартирах замерзли краны.
Утро в разгаре. В соседней комнате, около постели матери, звенит будильник. Саул проходит в лавку, с большим шумом поднимает жалюзи, вешает большое объявление между колбасами, висящими в витрине: «Сегодня – молотое мясо, свежее и высококачественное!»
Сегодня день обычных забот. День молотого мяса. Очередь за субботними закупками начнется лишь завтра. Но у Саула еще много забот, кроме заработков. Сегодня он торопится не на бойню, а совершенно по другим делам.
– Всем врагам Израиля такую погоду, – говорит за его спиной мать, которая пришла в лавку в утреннем домашнем халате, из-под которого торчит длинная ночная рубаха. Глаза ее, как и глаза Саула, следят за ветром, бьющим по домам и людям.
Саул уже у дверей. Хорошо, что не видит своего лица в эти минуты. Ничего в нем не осталось от жесткости и хмурости. Несчастное лицо мальчика, боящегося выйти на сильный ветер. Но госпожа Гольдшмит хочет как-то поддержать сына, и даже погладить его по щеке, напутствуя в дорогу, но не осмеливается, разве можно даже подумать такое – гладить по щеке сына, ставшего кормильцем? И она лишь довольствуется выражением, произносимым ею в последнее время часто беспомощным голосом:
– Такова жизнь.
В слабом утреннем свете переулок вытянулся вдоль заснеженных тротуаров. Серые ветхие дома вырисовываются, как заплесневевшие грибы. Громко слышны голоса в эти ранние часы утренней пустоты переулка. Громоздкими выглядят фигуры, топчущие девственный снег. Все дома полны шума. Только киоск Отто одинок и безмолвен. Два огромных снеговика, вооруженные рваными метлами, высятся по обе его стороны Ветер бьет по липам напротив киоска, сшибает рваные картузы со снеговиков, развевает набросанные на них лохмотья. Много таких снежных истуканов выстроилось вдоль переулка, много часов тратят на их лепку безработные переулка. И стоят эти истуканы, как белое войско с одними и теми же бессмысленными обликами, обдуваемыми ветром.
Перед мясной лавкой стоит Изослечер, друг Саула по острогу, и ковыряется в носу.
– Изослечер, – одергивает его Саул, – перестань ковыряться в носу.
Изослечер мгновенно подчиняется приказу, почти вытягиваясь по стойке смирно. Саул его работодатель, посылает в разные места и дает небольшие поручения за одну марку в час. Одна стыдоба этот Изослечер: все лето сидит в тюрьме, в душной камере, без возможности сделать хотя бы глоток чистого воздуха, а теперь, когда сильный мороз, он выброшен из теплой тюрьмы, только Саул прислушивается к его вздохам, хранит ему верность. Он любит отдавать ему команды голосом, силящимся быть металлическим, строгим, и видеть, как тот с великим прилежанием их исполняет. Ему приятно, что Изослечер зависит от щедрости его души, и то, что он поучает старика. Что касается телесного воспитания, тут Саул должен признать поражение. Он повел Изослечера в общественную баню, принес теплую и хорошую одежду, оставшуюся от покойного деда, и даже заплатил парикмахеру за бритье. Но все это оказалось впустую. Изослечер почувствовал себя плохо после мытья в общественной бане, ибо весь пропах хлоркой, а он точно знал, что хлор это сильный яд. Неделю он болел после этого мытья, и ничего не помогало, пока он не пошел и не продал все одежды деда, благословенной памяти, нашел себе пристанище в трактире, и не сдвинулся оттуда, пока не спустил все деньги до последнего гроша, и из него испарился весь запах хлора. Пришел он к Саулу в рубище из мешковины, и от деда остались на нем лишь ботинки. Но из-под теплых носков, подаренных ему Саулом, поблескивала бумага, лучше которой, по его мнению, нет для сохранения тепла ног. К этому следует добавить, что волосы снова отросли у него, как у дикобраза, и борода проросла такой же дичью. Это по части физического воспитания. Что же касается воспитания духовного, тут, несомненно, у Саула были успехи. С большим прилежанием слушает Изослечер сентенции своего работодателя, и глаза его с обожанием взирают на Саула, как бы говоря: какой ты мудрый, Саул! Он даже приобрел при помощи Саула мировоззрение. Это обожание Изослечера очень по душе Саулу.
– Доброе утро – Цафра Тава, – говорит он по-арамейски, – есть ли для меня сегодня работа, Саул?
– Нет. Сегодня день молотого мяса, – указывает Саул на объявление между колбасами в витрине. В обществе Изослечера он вырабатывает в себе краткость, деловой разговор. Изослечеру нет дела, и глаза его косят в сторону рюкзака работодателя. В день молотого мяса, который обычно является днем, когда Саул шатается по всему городу по многим своим делам, не связанным с бизнесом, он обычно делится завтраком со своим другом.
– Что сегодня есть на пропитание, Саул? – деловито спрашивает Изослечер.
– Колбаса «салами» первого сорта.
– Отлично! – с большим удовлетворением произносит Изослечер, и в глазах его выражение мольбы. – Саул, сможешь ли ты одолжить мне одну марку в счет завтрашнего дня, чтобы я зашел к Бруно и согрелся рюмочкой? – И уже протягивает руку.
– Денег нет, питье алкоголя запрещено. Это лишь приносит ущерб здоровью.
– Почему, Саул? Почем у ты мне всегда запрещаешь питье и курево, а я тебе говорю, что в этом мире еще ничего лучшего не придумали.
– Чепуха. Алкоголь и курево ослабляет душу и тело. Сидит революционер в остроге. И нет такого революционера, кто бы время от времени не сидел в остроге... – Изослечер кивает головой в знак согласия: уж он-то разбирается в делах острога.
– Сидит, страдает, – продолжает Саул, – душа его жаждет шнапса и сигареты. Он к ним привычен. Это же смешно, чтобы революционер страдал из-за таких мелочей.
– Почему? – упрямится Изослечер, который в отношении спиртного не уступает Саулу. – Я знаю многих революционеров, которые любят пропустить рюмку, и дымят, что твои трубы.
И сразу замолкает: видит в конце переулка горбуна Куно, пытающегося выпрямиться. Новые ботинки Куно скрипят по снегу. Превосходные ботинки с меховой подкладкой, и все в переулке не перестают хвалить их.
– Да, да, есть люди, которым улыбается успех даже в эти дни.
Изослечер бежит за Куно, не отрывая взгляда от толстой сигары, торчащей у того из рта. Опять Куно и шагу не ступает без роскошно пахнущей дорогой сигары в губах, и докуривает ее всегда до половины, а вторую половинку отшвыривает, как истинный господин. Изослечер молниеносно нагибается и хватает окурок, чтобы никто из стариков, шатающихся по переулку, не опередил его. Куно уже исчез в трактире Флоры. Перед дверьми трактирщик Бруно сметает снег с крыльца. С большим уважением распахивает двери перед горбуном. Изослечер хочет вернуться к Саулу, но его нет. Он ведет велосипед к киоску Отто в конце переулка. Изослечер орет ему вслед охрипшим голосом:
– Саул! Подожди, Саул!
Но Саул не оборачивается и еще убыстряет шаги. Сильно сердится на своего подопечного, который оставил его посреди важной беседы, и из-за кого? Из-за этого горбуна и его окурка! К тому же, известно каждому, что горбун – подонок, осведомитель, шпионит в переулке в пользу нацистов, и любой уважающий себя человек держится от него подальше.
– Саул, подожди. У меня к тебе дело. Очень важное, честное слово!
Саул останавливается, но не из-за Изослечера, а из-за долговязого Эгона, проходящего мимо и свистом вызывающего Ганса Папира. Эгон научился хорошо свистеть. Теперь он не просто Эгон, а сержант Эгон, одет в форму, свастика на рукаве. Саул не упускает возможности плюнуть ему вслед. Он делает это медленно, три раза подряд, в снег. Эгон удаляется, Изослечер приближается к Саулу, тяжело дыша от быстрой ходьбы, скашивает глаза, покрасневшие от ветра и мороза.
– Иди домой. Ты мне сегодня не нужен!
– Ладно, Саул. Чего тебе сердиться на человека, который хочет себя развлечь. Всего лишь развлечься. Запрещено курить, Саул, несомненно, запрещено. Но мне есть тебе что-то рассказать. Вправду, Саул. Подожди. Тебе будет интересно. Даже очень.
– В чем дело? Нет у меня свободного времени.
– Речь идет об Эльзе, Саул.
Саул останавливает велосипед, зубы его стучат от холода, взгляд обращен к Изослечеру.
– Говори!
– Дело в том, что Эльза теперь не Эльза, а Цили. Вернее, Эльза в обычной жизни, и Цили – как звезда в искусстве.
– Что?
– Что слышишь. В трактире у Карлы Миллера, в Голубином переулке. Около Александерплац. Там она просиживает целые дни, словно зарабатывает у Карлы Миллера. Но это не так.
– А как?
– Он зарабатывает на ней, а не она на нем.
– То есть.
– Просто, Саул. Это большая выдумка. Карла на ней зарабатывает большой капитал.
– Он что, ее продает? – вскрикивает Саул. – Этот гадкий тип буржуазного вырождающегося мира.
– Он никакой не тип, он просто дурак, каких мало, но в отношении Эльзы проявил большую мудрость. Он даже ее не продал. Что еще можно у нее продать? Он сделал из нее большую артистку. Танцовщицу, Саул.
– Чепуха какая-то. Что вдруг Эльза – танцовщица?
– Почему бы нет? Она все еще красива. Бедра, ноги, и все остальное при ней. Карла снял для нее комнату на третьем этаже своего дома, и там каждый вечер собираются у него и у Эльзы все те, которые ему верны и не пойдут фискалить в полицию, и могут потратить десять марок, чтобы увидеть Эльзу в роли Евы. Я тебе говорю, Саул, совсем голой. Очень рекомендую посмотреть. Я могу тебя ввести к ней, Саул, за десять марок. Только не торгуйся со мной.
Лицо Саула покраснело, не только от мороза и ветра. Он продолжает идти, толкая велосипед. Изослечер бежит следом за ним, бежит и говорит. Дыхание его пресекается.
– Саул, что в этом такого? Десять марок это дорого? Что это для тебя?
– Иди своей дорогой, – кипит Саул, – продажная твоя душа.
– Почему? Что ты всегда чураешься девушек и всего, что с ними связано? Я тебе говорю, еще не придумали в мире ничего лучшего.
– Иди своей дорогой, сказал.
Изослечер вовсе не собирается идти своей дорогой, пока Саул не поделился с ним хлебом с колбасой «салами». Торопливо подпрыгивает мелкими шажками за Саулом и говорит, не умолкая, до того, что голос его уподобляется чириканью голодных воробьев под водостоками домов в утреннюю стужу.
– Саул, Саул, ну, подожди. Что случилось, Саул? Я знаю, знаю. Что ты сердишься из-за странных взглядов у вас в движении по поводу девушек. Никогда я не слышал, чтобы парень относился к половому вопросу так, как ты мне об этом рассказывал. Это относится к монахам и священникам. Погоди, Саул, чего ты бежишь, как сумасшедший? Я тебе говорю, ты умно сделаешь, если оставишь твое странное движение, и как можно быстрей. Саул! Погоди! Я не поспеваю за тобой! Что ты так бежишь? Я думал, что ты уже оставил это странное движение, и потому предложил тебе пойти к Эльзе. Это стоит сделать. Стоит! Не беги так, прошу тебя! Я был уверен, что ты уже оставил движение, и можешь пойти к Эльзе.






