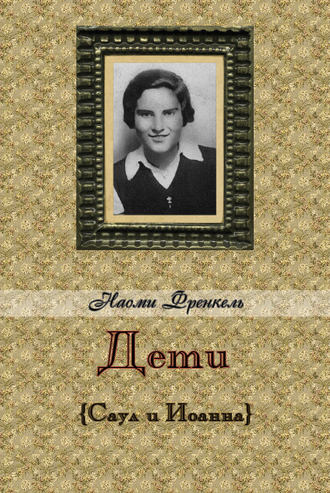
Наоми Френкель
Дети
– И нашел, – пытается отгадать доктор.
– Конечно же, нашел, и совершенно случайно. Была ярмарка в городе частых ярмарок Лейпциге. Евреи Каллы в Венгрии, были купцами, и Калл девятнадцатого века приехал в Германию, в Лейпциг – выставить свои товары. И тут судьба избрала его внести путаницу в жизнь моего друга Дики. Господин Калл, еврей из Венгрии, записал свое имя и адрес в гостевой книге самого роскошного отеля города, завершил все свои дела и вернулся в свою страну и семью. Не прошло много времени, и в этот же отель прибыл прусский Калл, и, записываясь в гостевой книге, с удивлением обнаружил Калла, опередившего его, венгерского Калла, которого он разыскивает много месяцев. Как честный и педантичный исследователь, он тут же послал письмо купцу Каллу. Пришел короткий и вежливый ответ. Не может быть никакой связи между евреем Каллом и прусским аристократом Каллом. Но педантизм и порядок ринулись на помощь офицеру-исследователю, и он явился к еврейскому купцу, и тут обнаружилось, что поколения не смогли стереть внешнее сходство между ними. Оба высокие, оба блондины, оба светлоглазые, и у обоих прямые, тонкие и точеные носы. Как объяснил мне, мой друг Дики, светлый германский тип остался главенствующим в семье, несмотря на то, что к нему присоединились только венгерские смуглые и темноволосые еврейки. У моего друга Дик, отец, был очерк лица прусских офицеров. Высокий, светловолосый и светлоглазый, с прямым носом, друг мой красив. Итак, пришел прусский офицер к еврейскому торговцу, вместе они стали ворошить родословную венгерской семьи Калл, добрались до шестнадцатого века, к потерянному сыну, и удостоверились, что ни родственники – прусские офицеры и еврейские купцы.
– И тут, – качает головой доктор, затрудняясь поверить рассказу сына, – тут можно предугадать конец истории: офицер отвернулся от купца, вернулся домой, и сын из шестнадцатого века так и остался отверженным.
– Ошибка, отец. Прусские Каллы не отказались от венгерских Каллов, потомков отверженного сына. Наоборот, они гордились ими. Венгерские Каллы были богачами, вежливыми, культурными, внешне красивыми и добрыми по характеру людьми. Их не надо было стесняться. Прусские Каллы наладили с ними крепкие семейные связи. Каждый год собирались на семейные собрания. Все эти сходки прусский офицер фиксировал в книге, внося еще большую путаницу в жизнь моего друга. Книга писалась как семейная хроника, начиная со священника, который отлучил своего сына от семьи. История отверженного сына была записана без единой нотки фальши, и была принята с уважением прусскими аристократами семьи Калл. Книга была напечатана на немецком и венгерском языках. И когда ушел из жизни офицер-исследователь, сыновья его продолжили дело отца. Из поколения в поколение прусские и венгерские Каллы продолжали семейные сборы, попеременно, в прусском доме, в Германии, и в доме венгерской семьи Калл. Каждое поколение дополняло книгу семейной хроники, и портреты членов обеих семей стояли рядом на страницах этой впечатляющей книги. Они любили и уважали друг друга, протестанты и евреи. Это могло продолжаться до конца всех поколений, когда внезапно, к вящему удивлению всех Каллов, отец Дика, потомок глубоко набожных евреев, решил вернуться в лоно религии своего праотца, протестантского священника, и стать христианином. Иудаизм извел его душу, и он твердо решил исправить дело своего отверженного предка и пройти обряд крещения. Обе ветви семей – прусская и венгерская – с неприязнью отнеслись к этому поступку. Прусские Каллы со своей педантичностью и прямолинейностью в течение всех поколений, так же, как и венгерские Каллы, не допускали никаких отступлений от семейных традиций, и не вернули в лоно семьи родственника, сменившего религию. Он был отвержен обеими ветвями семьи, женился на глубоко верующей протестантке, сухой и черствой педантке. Дики родился от этого слияния сухости и горячности, тонкости и предательства, и эта путаница стояла у его колыбели.
– И так вы встретились в Геттингене. Ты и он... Оба с запутанной родословной.
– Нет, отец, ошибаешься. Путаница пошла моему другу на пользу. Не видел в жизни более веселого и радующегося всему человека. Он снял комнатку рядом с моей в небольшой гостинице, в Геттингене. Уже в день приезда он постучал ко мне в дверь, не ожидая ответа, открыл ее, и, не обращая внимания на беспорядок, и еще не назвав своего имени, громко воскликнул: «Ты болен, парень! Виски! В этом случае помогает только виски». Принес бутылку. Сделали по нескольку глотков один за другим, и я поднялся с кровати.
– Слава Богу.
Когда мы закончили пить, Дики поручил мне роль экскурсовода.
– Это потрясающий город, – восхищенно вскрикнул отец.
– Да. Месяцами жил в нем и не находил никакого очарования. Но с появлением Дики, я стал подолгу гулять с ним. Угла не осталось в Геттингене, который Дики не просил бы посетить, не было ресторана в округе, где мы не перепробовали блюда. Парень был веселым, город красивым, но стоял год 1932. Однажды мы гуляли по старинной городской стене и наслаждались романтической атмосферой города, и вдруг – барабаны, и трубы, и огненные знамена, и свастики. Коричневорубашечники устроили шествие у подножья старинной стены, и при этом орали песню, о которой я тебе сегодня напомнил, отец. Я хотел тут же вернуться и запереться в своей комнате, но Дики... Ах, отец. Дики поднялся на стену, измерял ее шагами, радовался и возбужденно орал в мою сторону: «Ганс, смотри! Средневековье. Настоящие средневековые дни. Старинная стена. Старый колодец, вековые деревья, башни, и коричневые рыцари идут оттуда. Дни средневековья, Ганс! Потрясающе!»
Гнев охватил меня, и я заорал ему в ответ:
– Кончай ломать комедию!
– Почему нельзя высмеивать это? Плакать, что ли?
Он продолжает смеяться, а шум у старого колодца усиливается. И в завершение шествия, из множества глоток, поверх кожаных ремней, вырывается песня:
Взметнутся наши знамена, и станет вокруг горячей,
Когда еврейская кровь потечет с наших мечей.
– Ты еще можешь шутить и веселиться, – орал я ему, – но я... еврей.
– И я, – с удовольствием отвечает мне Дики и кривит свой германский орлиный нос – Отец, не поверишь, если расскажу: там, у колодца, над головами визжащих рыцарей «Смерть евреям!», между нами возникла ссора, кто из нас больше еврей или больше немец. Кто из нас способен принять это, а кто нет, и голоса наши гремели не менее сильно, чем крики шествующих внизу. Так мы препирались, когда вдруг Дики зашелся от смеха и сказал:
– Ганс, мы сошли с ума, запутались окончательно.
Дики опустил голову мне на плечо, и там, в присутствии орущих коричневых рыцарей, завершил свой рассказ. Вместе с отцом они оставили Америку. Дики ехал закончить учебу. Да, забыл тебе рассказать, отец, что Дики – талантливый физик-атомщик, а отец сопровождал его в поездке в Европу. Мать осталась дома одна, соломенная вдова, как выяснилось позднее. Когда они прибыли в Европу, отец объявил сыну, что пути их расходятся. Он собирается в Венгрию, к евреям Каллам, помириться с семьей. Но Дики он с собой не возьмет, ибо Дики – христианин. И разве не зря проводит все годы своей жизни под присмотром нелюбимой женщины? Сын глубоко набожной протестантки должен вернуться в лоно протестантской прусской семьи, чего отец не в силах сделать. Дики исправит грех предка, жившего в шестнадцатом столетии. Итак, Дики расстался с отцом и матерью. Я сердито заметил ему:
– Почему же ты не вернулся к своим аристократическим родственникам?
Он повернулся ко мне, и лицо его стало печальным:
– Я боюсь вернуться к прусским офицерам. И они изменились, и маршируют, как коричневые рыцари по улицам Германии. В моих жилах течет еврейская кровь, Ганс. Я в их глазах сын скверны, несмотря на то, что моя мать глубоко религиозная христианка. Усилия несчастного отца пропали даром. Я остался сыном без отчего дома, без родителей, без народа и Бога. Но я не плачу, как ты. Ганс, такие понятия, как национальность, народ, религия, еврей, христианин, партия и мировоззрение, весьма туманны и не поддаются ясной и четкой формулировке.
– Ну, и куда же направишься? – закричал я.
– В космос, Ганс. Истина открывается только в исследовании объективной реальности. Лишь наука может раскрыть мне сущность жизни. Там тебе не лгут, и ты не лжешь сам себе. Истина – это насущная необходимость науки. Там никто меня не преследует, там я не потерянный бездомный сын. Там дом мой – вселенная. Ганс, идем со мной. Год 1932 – это год чудес. Обозначается путь к великим открытиям. Быть может, мы откроем такое, что потрясет основы мира. Может, дано будет нам, двум потерянным сыновьям, вернуться в великую человеческую семью, столь богатую истинными достижениями. Едем со мной в Копенгаген, к великому ученому-физику Нильсу Бору.
– Ты сошел с ума? Я и физика? Никогда ею не интересовался.
– Жаль, – сказал он, – ты потерял много времени, постарайся его наверстать: игра стоит свеч. Вот, я и еду с ним. Убегаю в Копенгаген, попытать счастье в новой жизни.
Доктор Блум неожиданно встает со стула, приглашая сына идти за ним. Они быстро минуют комнаты. В запущенной столовой из радиоприемника несутся праздничные мелодии балетной музыки. Почти в гневе доктор выключает приемник, врывается в коридор. Сын – за ним. Они стоят на пороге комнаты, забитой книгами, бумагами, мебелью и уймой вещей. Все это набросано в полном беспорядке на стулья и столы. Смутный запах затхлости и прели, всегда стоящий между стенами этой комнаты, еще более сгустился от прибавления вещей. С комода улыбается кукла, изъеденная молью, и над нагромождением тряпья, в основном, красного цвета, смотрит с портрета банкир Блум темным тяжелым взглядом.
– Что за беспорядок здесь, в комнате деда! – восклицает Ганс.
– Заходи, сын мой, заходи, – и слова «сын мой» соскальзывают с языка отца, как сами собой разумеющиеся.
Ганс переступает порог и останавливается перед портретом деда. Доктор стоит сзади, у письменного стола с мраморной чернильницей, в которой высохли чернила. И, кажется, тяжелые взгляды семейства Блум обращены со всех сторон – со стороны деда, Ганса из своего угла, отца от письменного стола.
– Почему такой невероятный беспорядок в кабинете деда? Некому здесь убрать, отец?
– Беспорядок связан с тем, что я репатриируюсь в Израиль, страну праотцев, оставляю Германию навсегда.
– Я тебя благословляю, отец. И ты собираешься осуществить свою старую мечту?
– Да, да, новая жизнь, Ганс. Но что делать со всеми этими вещами, которые накопились в нашей семье с дней нашего предка, старика Ицика... Тут много твоих вещей, хранящихся в ящиках стола и шкафов.
– Ну, ты, естественно, возьмешь их с собой в Палестину.
– Не дай Бог, Ганс, какая глупость: брать рухлядь в новую жизнь?! Отныне мне следует стать легким в перемещениях и в душе. Куда я все это дену в новой стране? Где расставлю всю эту громоздкую и тяжелую мебель? В деревянном бараке, где, вероятно, буду проживать? Выхода нет. Вся эта рухлядь идет на продажу.
– Не дай Бог, отец! Все эти старые и красивые вещи, скопившиеся за много поколений отдать на публичную распродажу? Как это, отец?
– Ну, а что мне с ними делать, Ганс?
– Просто храни их, отец. Сними склад до...
– До каких пор, сын?
– Пока ты построишь себе дом в новой стране. День этот придет.
– Отлично, – мямлит доктор, – иди сюда.
Сын лавирует между грудами вещей, становится рядом с отцом, кладет руку на стол.
– Ганс, – говорит доктор, – итак, ты полагаешь, что мне надо снять склад для всех наших вещей? Здесь – в Германии?
– Нет. Никто не знает, что родит завтрашний день.
– Если так, бери все с собой. Семейное имущество перейдет к тебе, в Копенгаген.
– Но, отец...
– Это понятно, Ганс. Ведь ты же законный наследник. Придет день, и ты откроешь двери склада, извлечешь оттуда всю рухлядь. В них возникнет необходимость, когда ты построишь свой дом.
– Придет день, отец. Закончу учебу, найду свое место в этой жизни. И тогда, конечно же, захочу построить свой дом. И с твоего разрешения, отец, возьму часть этих вещей.
– Где же ты построишь свой дом, сын?
– В любом месте, отец, где может такой, как я, жить свободной и достойной жизнью.
– Ганс, – говорит доктор, – за это следует выпить.
Тянет сына к комоду. Запах отличного вина ударяет им в ноздри.
– Вот, Ганс, – доктор подносит бутылку к слабому свету лампочки, – еще дед обращал внимание на эту бутылку. – Быстро направляется в угол, к стеклянному шкафу, полному старого фарфора и хрусталя, достает два хрустальных бокала.
– За жизнь, сын мой, за будущую нашу встречу.
– За новую жизнь, отец! – сын поднимает взгляд к портрету деда.
– Это он внес путаницу в твою жизнь, Ганс. Когда ты родился, я был еще слишком погружен в мечту: хотел, чтобы ты был во всем похож на твою мать. Дед же требовал совершить обрезание, и тем связать тебя союзом с нашим праотцем Авраамом.
– Отец, я никогда об этом не жалел, – торопится ответить сын.
Долгий звонок отдается эхом по всей квартире, они испуганно ставят бокалы на комод.
– Барбара! – говорит доктор.
– Нет, отец, это извозчик. Я заказал его. – Ганс намеревается пойти к двери, но останавливается на миг и передает отцу записку:
– У меня к тебе еще одна просьба, отец. Речь о моем друге Дики. Дело связано с его прусскими родственниками Каллами, и не дает ему покоя. Он хочет знать, каковы они в настоящем смутном времени. Пожалуйста, отец, поезжай к ним, передай привет от Дики. Если тебе станет ясно, что они все еще хранят семейные традиции, напиши нам. Если нет, то, как говорится, на нет и суда нет.
«Майор фон Калл», прочитывает отец записку, прячет в карман своего пиджака, и тяжелыми медленными шагами провожает торопящегося сына.
– До свидания, отец.
Извозчик у открытых дверей переминается с ноги на ногу. Сильный холод врывается в квартиру.
– Мы не оставим друг друга в одиночестве, Ганс.
– Нет, отец.
Доктор целует сына в лоб. Лицо Ганса краснеет. Дверь быстро захлопывается, словно бы сын пытается сбежать от чувств, охвативших его. Доктор торопится к окну. Одинокая карета движется по Аллее между трамваев и полицейских машин, исчезает в Бранденбургских воротах. Доктор не отрывает взгляда от опустевшей улицы и до того погружен в себя, что не слышит, как Барбара вошла в гостиную. Так как в комнатах горел свет, и двери были распахнуты, она поняла, что здесь что-то произошло. Тотчас подняла голову и принюхалась к воздуху гостиной.
– Кто-то здесь был, доктор? Не ваша ли девица?
– Никого здесь не было, – нет у доктора сил – рассказывать Барбаре о Гансе и выслушивать ее вопросы. – Никого здесь не было, Барбара.
– Доктор, – восклицает Барбара, – кто оторвал листки от календаря?
– Кто? – спрашивает доктор, сам удивляясь тому, что она обнаружила.
Второе октября исчезло, и ноябрь-месяц, как и положено, светится на календаре. Барбара ищет под столом в урне оторванные листки.
– Был бы это кто-то во плоти, – поднимается она, – он бросил бы сюда листки, не так ли, доктор? Но листков нет. Это он! Он был у вас, доктор?
– Был, Барбара, был, – пытается от нее отвязаться доктор и остаться наедине со своими мыслями. Но Барбара не отстает.
– Дверь в комнату старого господина открыта, доктор, – она торопится туда, доктор – за ней. Она останавливается у комода, лицо ее сияет, она указывает на бокалы.
– И вы еще говорите, доктор, что здесь никого не было?
– Ничего я не говорю, Барбара, но следовало бы навести порядок в комнате, – сухим тоном говорит доктор, – кому нужен такой беспорядок? – И торопливо уходит.
Барбара подходит к окну и молитвенно складывает руки. Из окна свет падает во двор, и световом столбе туманятся от холода деревья и едва различимые предметы.
– Он приходил, – бормочет старуха, – он приходил, чтобы нас спасти. Отвести от трагедии. Их столько, этих трагедий. Кто знает, что день грядущий нам готовит?
Барбара смотрит на портрет старого господина. Его тяжелый взгляд печально обращен на старуху.
Глава вторая
Вороны кричат в пустынном саду. Качаются на ветвях, напротив окна. Карканье их все более хрипло. И дерево стучит ветвью в стекла, словно пытается внести стужу и карканье в теплую комнату. Издалека, в просвет снежных туч проглядывает луна, и каштаны вдоль аллеи чернеют, подобно рельефным гравюрам собственных теней. В своем движении облака влекут с собой световую вуаль, и гуща деревьев смешивается с ночным небом. Тьма окутывает небеса и землю, гонит летящие в окно влажные комья бесконечного снегопада.
Тонкие клубы дыма закручиваются кольцами от сигареты Эдит на фоне плачущего оконного стекла. Лицо Эдит обращено к саду, спина – к семье, сидящей в комнате. Траур плохо сочетается с ее изящным, светлым обликом, словно пытаясь наказать ее, запечатав ее грешную красоту.
– Он идет? – обращается Фрида к ее молчаливой спине.
– Ничего нельзя различить в темноте, Фрида, – лицо Эдит прижимается к стеклу.
– Гейнц, – восклицает Фрида в отчаянии, – он не приходит!
– Придет, – спокойным голосом отвечает Гейнц, только нога его раскачивается, показывая, что голос не соответствует состоянию его души.
Гейнц устроился в кресле около камина, освещаемого красными свечами. Свечи эти поставили кудрявые девицы для украшения комнаты. Камин горит но не дает тепла. Над камином, рядом с портретом покойной госпожи Леви, теперь висит портрет покойного господина Леви. Портрет нарисовал художник Шпац из Нюрнберга по памяти и по фотографии, которую сделал фотограф в день рождения Бумбы. Это был последний праздник, в котором участвовал господин Леви. Если бы дано было господину Леви оценить свой портрет в золотой раме, он бы, несомненно, сказал: «Слишком хорош».
Под этим, воистину совершенным портретом отца сидит Гейнц, и покачивание его ноги свидетельствует о тяжких колебаниях: Эрвин упросил его прийти вечером на собрание в память Хейни сына-Огня. Сегодня исполнилось два года со дня его гибели. Город погружен в снега и стужу. Большая забастовка работников транспорта создает тревожную атмосферу. В совместной забастовке нацисты и коммунисты борются против профсоюзов, которые запретили эту забастовку. Такой день не обходится без жертв. Участие в собрании, на котором выступит с речью Эрвин, уже само по себе таит смертельную опасность. Врагов у Эрвина множество. Гейнц вздыхает, не стоит выходить на улицы в этот вечер! Огромная ответственность лежит на нем. Он теперь глава семьи.
– Иоанна, – решительным окриком ставит Гейнц предел своим колебаниям, – немедленно убери ноги с кресла, как это тебе пришло в голову – так сидеть в обществе!
Иоанна краснеет. Она сидит в кресле, обтянутом цветным шелком около центрального отопления, положив ноги на кресло, чтобы юбка прикрыла ее обнаженные, посиневшие и больные коленки. Только недавно она вернулась из клуба Движения. Из-за забастовки встречи в клубе происходят в ранние послеполуденные часы, сразу же после окончания учебы в школе. Длинный путь проделала Иоанна на велосипеде Саула по снегу, на ветру и стуже. Замерзшая, она свернулась клубком в мягком кресле, но колени поторопилась прикрыть не из-за холода, а из-за Фриды. Утром Фрида зашла к ней в комнату, принесла ей пару длинных шерстяных носок, и не сводила с нее глаз, пока та не натянула эти ужасные носки на ноги. Иоанна, конечно же, оставила эти носки у входной двери, и надела обычные, оставляющие колени открытыми, как у любого скаута, не боящегося мороза и снега. Но страх перед Фридой велик. Она опускает голову к коленям и делает вид, что ничего не слышит. Но со стороны камина опять доносится столь строгий голос, что даже пес Эсперанто, лежащий у ног Гейнца, поднимает голову от удивления.
– Иоанна, ты что, не слышишь, что я говорю?
Эдит у окна вскидывает голову и резко поворачивает лицо внутрь комнаты:
– Гейнц, оставь ее в покое. Иоанна может сидеть здесь так, как ей захочется.
Голос ее необычно резок. Да и лицо ее необычно. Резкий голос явно идет вразрез с мягкостью и печалью на нежном ее лице.
– Как ей захочется? Не всегда хорошо вести себя по собственному желанию.
Несмотря на то, что слова Гейнца произнесены несколько шутливо, и скорее направлены к Эдит, а не к Иоанне, все ощущают скрытое напряжение, которое в последние месяцы чувствуется между ними. Они постоянно спорят о поведении, привычках, воспитании детей. Гейнц превратился в строгого педанта во всем этом и навязывает свой режим всем. Только Эдит оспаривает его, становящуюся невыносимой, категоричность. И они столько спорят, что все уже стали равнодушными к этим препирательствам. После того, как все подняли головы на миг, они возвращаются к своим занятиям, и только попугай продолжает участвовать в диалоге между Эдит и Гейнцем громкими криками:
– Госпожа, я несчастен! Госпожа, я несчастен!
– Бумба, – говорит Эдит нервным голосом, –накрой его клетку, чтобы он уже заснул, этот крикун. Невозможно выдержать его крики каждый вечер.
Она спиной продолжает чувствовать пронзительный взгляд Гейнца. Этот изучающий взгляд преследует ее в последние месяцы, вместе с тайным голосом в душе. Эти взгляды Гейнца, как бы выслеживающие ее тайну, – настоящую причину напряжения между ними.
Впервые остановился на ней этот пристальный изучающий взгляд в то жаркое лето. Окна были распахнуты, и ароматы сада проникали в комнату. В кабинете господина Леви собрались друзья. Это уже стало новым обычаем в доме Лев: один раз в месяц собирались в кабинете покойного его друзья, почтить его память мудрыми беседами. Приходили Александр, доктор Гейзе, священник Фридрих Лихт, семейный врач доктор Вольф и, конечно же, Филипп. И Эрвин, который решился работать литейщиком на фабрике «Леви и сын» и часто сопровождал Гейнца. В тот день все были взволнованы, голоса звучали тревожно и громко»
– Как это случилось? Как это могло случиться? – кричал тишайший доктор Гейзе. – Как это смогли канцлер Фон-Папен и его правительство баронов мановением руки убрать прусское социал-демократическое правительство, и канцлер стал единым и единственным правителем Пруссии!
– А как это могло случиться, – гремел Александр, травмированный еще более глубоко – что социал-демократическое правительство так постыдно сдалось? Если сейчас не создадут единый фронт прогрессивных сил, судьба наша предрешена.
Голос священника Фридрих Лихта был настолько округлым, что из этой велеречивости было понятно одно: нет большой надежды на такой фронт. Эрвин неожиданно встал и вышел. Никто не обратил на это внимания, ибо в то же время зазвонил телефон. Дядя Альфред из университетского городка на юге Германии беспокоился о родственниках в бушующей Пруссии.
Сразу все побежали к телефону – поговорить с Альфредом. Никто не обратил внимания на предостережение Филиппа:
– Будьте осторожны в разговорах. У телефонов в наши дни длинные уши.
– Это первый шаг к авторитарному режиму, – сказал доктор Гейзе.
Гейнц взял трубку, и после того, как выслушал слова дяди, неожиданно сказал, не отрывая взгляд от Эдит:
– Нет, дядя Альфред. Я не знаю точно, каково участие нашего друга Эмиля Рифке в этом деле... Естественно... Все доказательства канцлера фон-Папена это сплошная глупость. Что?.. Нет, дядя Альфред, Я не верю в верность нашего друга Эмиля республике. Что?.. Да, у нас все в порядке. Все здоровы. И Эдит. У нее отличное здоровье, – колючие глаза Гейнца впивается в ее лицо.
Газета дрожит в ее руках. На странице красуется большой портрет офицера полиции Эмиля Рифке. Причиной отставки социал-демократического правительства Пруссии режимом рейхсканцлера, послужили крупные столкновения, вспыхнувшие в городе Альтона.
Нацисты организовали шествие в рабочем квартале. Все рабочие этого города – красные. Начались кровавые стычки, было много жертв. Беспорядки грозили распространиться по всей стране. Такие кровавые столкновения в Берлине – каждодневное дело, и граждане города вопят на всех перекрестках, требуя наведения порядка в государстве. Канцлер фон-Папен обвинил прусское правительство в том, что оно не в силах навести законный порядок... Более того, в его руках факты, что само правительство связано с коммунистами и провоцирует их к беспорядкам, чтобы нанести поражение нацистам. Из Берлина в Альтону послан офицер полиции, и он замешан в этих беспорядках. Офицер схвачен, заключен в тюрьму и предан суду... – газета дрожит в руках Эдит.
– У меня болит голова, – говорит она хриплым голосом и встает с места, – пойду принять таблетку.
Она чувствует пронзительный взгляд Гейнца, упирающийся ей в спину и сопровождающий ее до двери. Она бежит в сад. Там, на скамье сидит Эрвин, опустив голову.
– Ты здесь? – вскрикивает она удивленно. Между ней и Эрвином отношения всегда были прохладными, несмотря на то, что она знала его еще подростком. Эрвин был единственным в ее окружении, кто никогда не обращал на нее внимания. В глубине души она не прощала ему его демонстративное равнодушие, и чувствовала себя даже существом низшего сорта в его присутствии, как женщина, очарования которой не оценивают. Вот и сейчас он бросил на нее короткий взгляд и сказал, как бы отстраняясь от нее:
– Сегодня душно. Я вышел подышать немного чистым воздухом.
Она побежала и спряталась в гуще кустов белых роз. Она спрятала лицо в лепестки, пытаясь успокоить в этом аромате душевную бурю. Что ей сейчас делать? Она знает правду. Эмиль не действовал от имени республики. Она знает, кто его послал, но поклялась ему хранить тайну. Губы ее сжаты. Не только из-за клятвы...
Эдит сорвала белую розу и растоптала ее ногами. Боже... Стояло лето. Прекрасное лето. Дни затягивали сиянием своим даже траур по отцу. Филипп всегда на ее стороне. Все видят в нем главу семьи. Но офицер полиции Эмиль Рифке не дает оттолкнуть себя в сторону. От него приходят письма, бесконечные телефонные звонки... Она отбивается, восстает. Не отвечает на письма, не берет в руки телефонную трубку, но в душе ее тоска по нему, чувственный кошмар, который хуже во много раз реальной встречи, кошмар, затягивающий ее в пугающие бездны воображения. Сидя с семьей за столом, она захлебывается, забывает ложку, отталкивает тарелку и не отрывается от сигареты. Окружающие беспокоятся, принимая все это за переживания и глубокую тоску по отцу, которая не оставляет ее. А она чувствует себя порочной, продажной, Эмиль исковеркал всю ее жизнь, и это невозможно исправить, завлек ее в свои сатанинские игры. Почему бы ей не раскрыть его карты? Он ей отвратителен, но именно этим отвращением она привязана к нему еще сильнее. Лето было, как сплошной кошмар, пылающий у нее в крови. Имя Эмиля не сходило со страниц газет. Борьба между коммунистами и социал-демократами велась из-за дела Эмиля. Коммунисты предъявляли доказательства, что офицер действовал от имени их противников, социал-демократы, наоборот, считали, что он поддерживал коммунистов . Из-за этой сильнейшей вражды, и бесконечных обвинений, которые они выносили на страницы газет, не возникало подозрение, что есть еще третья сторона, во имя которой офицер может действовать. Эмиль сидит в тюрьме, и суд откладывается с месяца на месяц. Эдит, которая раньше никогда не брала в руки газет, стала прилежной читательницей прессы всех направлений. Может, он действительно принадлежит к одной из рабочих партий? Может, сменил мировоззрение и стал коммунистом... как Эрвин, который там свой в доску. Поймала себя на том, что смотрит на него, и равнодушие ее исчезло. Эрвин, тоже немец, как Эмиль, но не нацист, вызывал надежду в ее душе. Может быть, и Эмиль больше не нацист? И тогда... еще все можно исправить.
Гейнц не спускал с нее своего острого вопросительного взгляда. Все лето ни о чем ее не спрашивал. И вообще никто к ней не обращался с вопросами. Имя Рифке старались при ней не упоминать, обходясь с ней с особой осторожностью. Черные ее одежды, бледное лицо, хрупкий облик, отгородили ее чертой, за которую никто не решался переступить. Даже Гейнц. Прошло несколько месяцев после смерти отца, и дом воспрянул к новой жизни. Дед вернулся к прежней энергичной деятельности. Но у каждого остались угрызения совести за то, что они так быстро оправились от траура в суматохе повседневности. Эдит, единственная, сохранила в своем хрупком облике общую скорбь. И, казалось, все хотели продолжать ее видеть такой, хранить этот ее траурный облик в своих душах, чтобы успокоить свою совесть. Ореол святой реял вокруг нее, и она осталась одинокой в своих размышлениях и колебаниях. Только сердце ее терзалось беззвучным воплем:
– Ложь! Я лгу вам всем! Никто из вас не чувствует, насколько я лжива!
Эдит рассеивает облачка дыма своей длинной сигареты. Глаза Гейнца уткнулись ей в спину. Она хотела раскрыть ему свою тайну и облегчить свою душу ответив его вопрошающему взгляду, что лелеет надежду: Эмиль больше не нацист.
Наступил такой день, воскресенье, жаркое и сияющее. Город был полон гуляющей публикой. Вся семья разбежалась. Дед взял с собой Фриду – покатать на судне по одному из озер вблизи Берлина. Не хотел оставить Эдит одну в доме, и заставил ее отправиться на прогулку с Филиппом. Они сидели в ее автомобиле. Она сняла на один день траур и надела светлое летнее платье. Поехали в один из лесов, недалеко от города, и добрались до небольшого озера, глубокие зеленые воды которого прозрачны и покрыты водяными лилиями. Филипп попросил остановить машину. Он был очень взволнован и почти силой потянул ее на траву у берега озера. Над ними распростер ветви платан, и птицы прыгали с ветки на ветку. Отражение ее возникло на прозрачной поверхности между водяными лилиями, Филипп обнял ее и прошептал:
– Гляди на свое отражение, Эдит. Какая же ты красивая! Как водяная принцесса, возникшая из глубины вод.
Она была утомлена. Страсть Филиппа явно облегчала боль ее души. Горячность его губ снимала эту боль. Она разрешила ему делать с ней все по собственному его желанию, и в его объятиях раскрыла свою тайну.
– Я хочу с тобой поговорить об Эмиле.
Он прикрыл рукой ее рот и сказал, счастливо смеясь:
– Оставь это, Эдит. Все, что касается Эмиля, не имеет больше для меня значения.
Она замолчала, вскочила на ноги, сказала угрюмо:
– Возвращаемся домой. Я устала.
Он полагал, что ее мучает совесть, и она все еще глубоко погружена в траур. Он проводил ее до машины с осторожностью и деликатностью, которая была ей ненавистна. Вернулась домой и продолжила облачаться в черное. Мысль захватила ее, как лихорадочное безумие: только один человек в силах одним махом избавить ее от угрызений совести – и это сам Эмиль. Вполне возможно, что все было излишне, все ее страдания, Эмиль больше не нацист. Его положительный ответ – ее единственная надежда... Тотчас же написала начальнику тюрьмы просьбу – встретиться с офицером полиции Эмилем Рифке. Пришло разрешение. В ближайшее воскресенье перед ней раскроются ворота тюрьмы.






