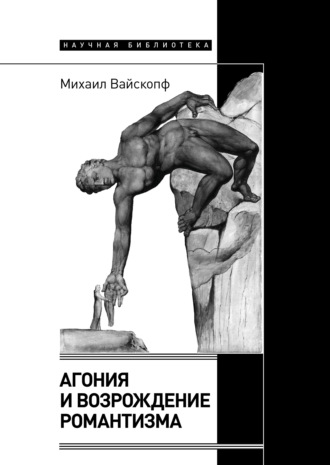
Михаил Вайскопф
Агония и возрождение романтизма
Мнимый Гоголь в роли ревизора
Как литературные прецеденты, так и возможные бытовые источники «Ревизора» достаточно изучены. Подытоживая их список, Ю. В. Манн в своем комментарии к академическому изданию пьесы добавляет к ним еще две истории. Первая – это навеянная премьерой «Ревизора» реплика П. Серебреного: «Один степной помещик сказывал нам, что в их именно городке случилось точь-в-точь такое происшествие…»[107]. Куда занимательнее выглядит другой приведенный им сюжет – тот, что рассказан у В. И. Шенрока со ссылкой на А. С. Данилевского. Речь идет о том, как в августе 1835 года Гоголь вместе с ним и И. Г. Пащенко (своим младшим соучеником по Нежинской гимназии) путешествовал из Киева в Москву:
Здесь была разыграна оригинальная репетиция «Ревизора», которым Гоголь был тогда усиленно занят. Гоголь хотел основательно изучить впечатление, которое произведет на станционных смотрителей его ревизия с мнимым инкогнито. Для этой цели он просил Пащенка выезжать вперед и распространять везде, что следом за ним едет ревизор, тщательно скрывающий настоящую цель своей поездки <…> Благодаря этому маневру, замечательно счастливо удавшемуся, все трое катили с необыкновенной быстротой, тогда как в другие раза им нередко приходилось по несколько часов дожидаться лошадей[108].
Не исключено, что именно эта дорожная мистификация спустя несколько лет отозвалась в знаменательном сочинении на темы «Ревизора». В начале 1841 года в петербургском журнале «Пантеон русского и всех европейских театров» появилась повесть Н. Ковалевского «Гоголь в Малороссии» с подзаголовком «Уездная быль»[109]. В стилистическом плане она была совершенно открыто ориентирована на «малороссийского» Гоголя – на его пародийно-пафосные интонации, которые были приспособлены здесь к сентиментально-ироническим установкам нарождающейся натуральной школы. С первых же строк демонстративно используется помпезно-комическая риторика «Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем»: «Как жаль, что я не художник! Какой верной, отчетливой кистью изобразил бы я задумчивые лица двух знакомых мне путешественников»[110] и т. д. (С. 16). Путешественников этих двое, и зовут их тоже вполне по-гоголевски: Федор Блюдечко и Евгений Ситечко. Это молодые и образованные чиновники, служащие в канцелярии полтавского гражданского губернатора. Едут они в Ромны, где Ситечку ожидает невеста, по которой он истосковался. Но на почтовой станции нет лошадей, и путники изнывают в многочасовом ожидании. Негодующий на задержку Ситечко импульсивен, вспыльчив, чернобров и (что естественно для публикации в театральном журнале) походит на актера, исполняющего роль Гамлета. Совсем иначе выглядит его друг Блюдечко – «юноша лет двадцати двух, стройный, бледнолицый, в стальных очках». Он предается воспоминаниям о «хорошенькой незнакомке» – юной девушке, с которой недавно танцевал на каком-то вечере. Наконец, отчаявшихся путников осеняет счастливая мысль – раздобыть лошадей на ближнем хуторе. Друзья узнают, что принадлежит он местному судье – помещику по фамилии Гнида и его жене Гнидихе. Затевая мистификацию, Блюдечко возлагает надежды на «натуру своих земляков», – и, как мы вскоре увидим, его расчеты оправдываются.
Если зачин «были» стилизован под повесть о двух Иванах, то обстановка хутора и повадки его обитателей столь же отчетливо нацелены на идиллические сцены «Старосветских помещиков», включая сюда гастрономическую доминанту уездного быта, согретого добродушием и взаимной привязанностью. Сам распорядок их жизни тоже по-гоголевски подан как монотонная череда стереотипных действий.
Онуфрий Лукич до сих пор еще почти влюблен в Степаниду Петровну <…> Угодно ли вам знать, как они проводят время в своей деревушке? Вот послушайте! Поутру Онуфрий Лукич, в тулупе и колпаке, входит в спальню Степаниды Петровны, которая, уже помолившись Богу, сидит за чайным столиком. «Доброго утра желаю вам, Степанида Петровна!» говорит Онуфрий Лукич и целует руку жены своей. «И вам того же!» отвечает Степанида Петровна – и взамен целует руку своего мужа. Потом они пьют чай с густыми сливками и бубликами, усыпанными маком. Здесь у них обыкновенно происходит маленький спор: Онуфрий Лукич охотник до пенок. Степанида Петровна, зная это, собирает в ложку всю пенку сливок и кладет их в стакан своего мужа. «Вот уж этого я не люблю!» говорит Онуфрий Лукич: зачем же вы себе не оставили ни крошки? Ну, какой такой смак в сливках без пенки? Подвиньте ко мне вашу чашку, поделимся!»
– Та вкушайте! вкушайте! – отвечает Степанида Петровна: – ведь это ваше лакомство!
– Нате-бо, возьмите хоть половину!
– Та вкушайте сами! – говорит Степанида Петровна и никак не соглашается подставить свою чашку. Онуфрий Лукич поневоле должен скушать один свою любимую пенку.
После чаю они занимаются хозяйством (С. 21).
Из «Старосветских помещиков» перенесены сюда даже «деревянные стулья с высокими деревянными же спинками <…> Таких стульев вы не увидите нигде, кроме Малороссии» (С. 20)[111]. Тем же этнографическим колоритом насыщен весь дом, включая «огромную картину, изображающую малороссийского Гетмана» с чубом, бандурой и саблей. Прислуга разгуливает босиком, хозяйские сыновья с аппетитом едят вареники, «обмакивая их в густую сметану», а отец обожает родные малороссийские песни. Национальный консенсус нарушает только очаровательная хозяйская дочь, шестнадцатилетняя Феодосия, а по-домашнему Феся, обучавшаяся в пансионе. Она наигрывает нечто немецкое на убогом фортепьяно, а когда отец просит ее спеть «лучше что-нибудь наше родное, малороссийское», поначалу отнекивается: «– Да я совсем отвыкла петь по-малороссийски… У нас в пансионе все по-русски… – Вот то и скверно! – возражает Онуфрий Лукич. – Своего кровного языка забывать не должно!.. Конечно, в обществе, а паче при москалях надо говорить по-русски, но в своей семье…» (С. 22). Чтобы ублажить отца, Феся исполняет близкую его сердцу песню «Виють витры…».
Внезапно сладостное пение прервано: мальчик-слуга извещает о приезде двух панычей, один из которых «сказал, что его фамилия Гоголь». Услышав описание его наружности – «тощий, худощавый, бледнолицый, в очках», – хозяин в смятении восклицает: «Так и есть! Он, как раз!» Слугу заставляют обуться и наспех, без особого успеха, обучают москальскому политесу, приказывая говорить с гостями только по-русски – «слышу» вместо «чую», и пр. Сам Гнида переодевается в парадный сюртук и велит домочадцам принарядиться. Взамен сытных украинских блюд на кухне в спешке готовят городские деликатесы – крем, вафли и безе. Словом, поднимается переполох.
– Да кто ж это к вам приехал, друг мой? – спросила испуганная Степанида Петровна, – уж не ревизор ли?
– Эге! рассказывай: ревизор! тут такой приехал, что погрозней еще твоего ревизора… Ревизор, когда есть за что, погоняет тебя в суде, при знакомых людях, да тем и кончится! А этот опишет тебя с головы до ног <…> Вот он какая птица!
– Э!! А какая ж он птица? – спросила Степанида Петровна, внимательно выслушав рассказ мужа.
– Сатирический писатель.
– Писатель?.. Вишь какой!.. Ну, и он человек опасный?
– Стало быть, что опасный! Вот… прошедшую зиму, когда я был в Полтаве… Предводитель затащил меня в театр… Зашли… я сел в кресло… музыка прогремела… открылся занавес… гляжу – фу ты пропасть! знакомые лица!! Думаю, что за дьявольщина: по сцене расхаживают не актеры, а наши дворяне? ну вот именно, наши Гадячане!!.. Мундиры наши, походка наша, разговоры наши, все обращение наше… один даже из тех дьяволов меня передразнивал!.. (С. 23.)
Высказанное тут мнение о гоголевской комедии как о слепке с действительности было расхожим уже в то время[112]. Специфика состояла разве что в украинских привязках, в ссылке на Полтаву и Гадяч. В данном случае Н. Ковалевский вторит Ф. Булгарину, который в своей известной рецензии из адаптированных им русско-патриотических побуждений определил место ее действия как городок не русский, а «малороссийский или белорусский»[113]. Более того, судья у Ковалевского в разговоре с женой вообще охотно подчеркивает именно эту сторону дела: «– А ведь подумаешь, где такой мудрости нахватался?.. Не издалека! Земляк миргородский! – Миргородский!.. Я думала, по крайней мере, петербургский…» (С. 26).
Общеизвестно, что украинская стихия, при всем ее лирическом и этнографическом обаянии, воспринималась тогда как материал, тяготеющий к юмористике, или как нечто, подлежащее преодолению для культурной среды. Соответственно, у Ковалевского украинские сантименты сохраняются помещиками лишь для домашнего, приватного пользования. Но и в этом случае они остаются принадлежностью старшего поколения, тогда как городская молодежь, представленная Фесей и обоими гостями, уже обрусела.
Судья, который конфузится своих малороссийских повадок, гордится тем не менее этническим родством со знаменитым земляком, прославившим отчий край. Когда Федор Блюдечко объявляет ему, что он хотел бы всего лишь поскорее добраться до Полтавы, если хозяин снабдит его повозкой, тот горячо протестует: «– Чтобы я вас отправил в повозке? Да за кого вы меня считаете?.. Мы, малороссияне, умеем угощать своих гостей… А особенно своего народного сочинителя, – прибавил он вполголоса – и физиономия его выражала благородную гордость» (С. 24). Однако сам этот «народный сочинитель», все явственней претендовавший на роль именно русского – или же всероссийского – национального писателя и, в частности, занятый тогда идеологической русификацией «Тараса Бульбы» (для издания 1842 года), менее всего был заинтересован в этнической провинциализации своего дара. Иными словами, Ковалевский вместе с его малороссийским патриотом оказал тут автору «Ревизора» медвежью услугу.
Повесть оказалась банальным анахронизмом и в самой трактовке гоголевской комедии как простого, хотя и очень забавного, фарса. С другой стороны, Ковалевского совершенно не беспокоила столь же избитая мысль о главном этическом пороке «Ревизора» – отсутствии нравственной альтернативы и того положительного лица, которое должно было уравновесить все грехи его убогих персонажей. Поправки такого рода уже наглядно предлагались Гоголю. Еще в июне 1836 года, всего через два месяца после премьеры комедии, на сцене Александринского театра появилась ее благонамеренная версия – пьеса кн. Цицианова «Настоящий Ревизор», изданная вскоре отдельной книгой[114]. Спустя три года свою фантазию о добродетельном ревизоре – повесть «Приезд вице-губернатора» – опубликовал Р. Зотов[115], драматург и крупный театральный чиновник, почитатель гоголевского сатирического таланта.
Текст Ковалевского, далекий от моралистических притязаний, как бы закреплял за Гоголем ту исконную и постылую территорию «жарта»[116], на которую выталкивали его снисходительные критики вроде Н. Полевого. Всего за год до повести в столице вышло чрезвычайно авторитетное пособие по русской словесности – второй том книги Н. И. Греча «Чтения о русском языке», где содержалось известное, часто цитируемое потом суждение о «Ревизоре»:
Это, правда, собственно не комедия, а карикатура в разговорах <…> обычаи и приемы многих, особенно женщин, не настоящие русские, а более белорусские; в ней часто нарушаются правила вкуса и благопристойности; язык вообще неправильный и варварский; но в этой пьесе столько ума, веселости, истинно смешного, удачно схваченного; выведенные в ней лица представлены так живо, резко и натурально, что ее смотришь и перечитываешь всегда с новым удовольствием, сердясь на автора, что он написал только одну комедию, да и ту без рачительной обработки[117].
И далее (явно полемизируя с неупомянутым Белинским, превозносившим «Ревизора») Греч снисходительно резюмирует:
Мы уверены, что Гоголь своими будущими произведениями займет почетное место в ряду наших комических писателей, но это время еще не наступило[118].
В пугливом ожидании таких произведений томятся и хуторяне Ковалевского. Визитер, выдавший себя за Гоголя, полностью отвечает их представлению об авторе «Миргорода» и «Ревизора» как въедливом и придирчивом юмористе:
– Такой егоза, что вот так и цепляется… так и придирается к каждому слову! Что ни скажу, а он, знай, ухмыляется!.. Раза два принимался было хохотать. В особенности оконфузил меня тот чертенок! – сказал Онуфрий Лукич, который стоял, грозя пальцем своему слуге <…> – Постой! постой! я тебе намну чуприну, чтоб знал, как отвечать при гостях: будешь помнить Гоголя!..<…> Надобно его ублажать, а то он, – чего доброго! распубликует меня невежей, или, что еще хуже, скрягой! (С. 24.)
Судье вторит его испуганная супруга, наказывая Фесе одеться получше: «Он такой критикант, всех описывает!» (С. 25). Впрочем, Блюдечко, смущенный собственной мистификацией, вскоре пытается отречься от писательского звания – но судья ему не верит. Рассказывая об этом жене, Гнида вплетает в свои впечатления цитаты из «Ревизора». Мнимый Гоголь смешан с Хлестаковым, а сам судья – с доверчивыми жертвами его вдохновения:
– Разговорился!.. Весельчак!.. Сам хохочет, и такие преуморительные анекдоты рассказывает… Но только что он за тонкая штука!.. У, что за тонкая штука!.. Представь себе: я спросил его, не приготовляет ли он какой-нибудь статейки? А он скорчил фигуру изумления и сказал, что он отнюдь не сочиняет, что он не наш «Гоголь-сатирик», а так, однофамилец… <…>
– А может, и впрямь однофамилец? Вот славно, когда наделали такого шуму из пустяков!
– Ни-ни! меня не надуешь! Я с двух слов узнал, что он Гоголь… с одной улыбки: улыбается, ведь как иначе! Представь себе человека, которому сильно хочется смеяться, но он, из политичности, удерживает свой смех: вот его улыбка! Я ту же минуту приметил, что в улыбке его есть уже что-то этакое… такое… одно слово – гоголевщина!.. Однофамилец?.. Понимаю я, очень понимаю, для чего ему хотелось быть у нас инкогнито! <…> А там, глядь, он перекрестил бы меня из Гниды в какую-нибудь Землянику и предал бы тиснению весь рассказ мой от словечка до словечка (С. 26).
Вскоре Блюдечко узнает в Фесе ту самую девушку, с которой недавно он танцевал и которая пленила его воображение. Покидая вместе с другом усадьбу – на хозяйской коляске – он прощается с героиней лишь на краткое время, ибо собирается вскоре вернуться. И застенчиво прибавляет: «– Только извините меня пред вашим папенькой… Я не Гоголь, я Федор Блюдечко…» (С. 27). С извинениями обращается он на прощание и к самому судье, но тот в ответ его урезонивает:
– Ах, перестаньте! перестаньте! я же вам говорю, что я должен благодарить вас за честь, которую вы оказали вашим посещением… Я расскажу всему Гадяцкому уезду, какого гостя я принимал в моем доме… Только уж, сделайте одолжение, – прибавил Онуфрий Лукич, – если задумаете что-нибудь новенькое… этак вроде Ревизора… не помяните меня лихом, а если бы можно доброе словечко обо мне замолвить – замолвите: буду вам крайне благодарен.
– Вы меня все-таки принимаете за литератора!.. Право, мне совестно; как честный человек, уверяю вас, что я от рождения моего никогда ничего не печатал… Скажу более – я не Гоголь…
– Нет уж, сбросьте с себя ваше инкогнито, – сказал Онуфрий Лукич с самодовольной улыбкой, – я вас узнал!.. Ей, узнал – с первого раза… с одной вашей улыбочки… (С. 28).
В заключительной главе, действие которой происходит через полгода, показан новый приезд обоих чиновников. Блюдечко вернулся, чтобы отпраздновать свою свадьбу с Фесей, а уже женатый Ситечко – чтобы быть у него шафером. Словом, гоголевский сюжет о сватовстве псевдоревизора к дочери городничего нашел тут счастливое завершение.
* * *
Скорее всего, Ковалевский передал здесь те визуальные впечатления, которые отложились в памяти людей, имевших возможность присмотреться к Гоголю времен «Миргорода» и «Ревизора». Не исключено, что создатель «уездной были» опирался на собственные воспоминания, но столь же вероятно, что он обыграл и какие-то давнишние толки о знаменитом писателе. Дело в том, что после первых представлений комедии ее автор надолго уехал за границу, оказавшись вне поля зрения любопытствующих соотечественников. Не располагали они пока что и его печатными портретами[119] – приходилось довольствоваться застывшим стереотипом, к которому и подтягивался у Ковалевского образ самозванца. Правда, тогда, в пору «Ревизора», Гоголю было уже 27 лет, а не 22 года, как Федору Блюдечко, но в остальном они весьма схожи. Худой, бледный юноша в очках, выведенный у Ковалевского, вполне соответствует тому облику комедиографа, который зарисовал П. А. Каратыгин на генеральной репетиции «Ревизора» и который он прокомментировал в беседе с сыном. Гоголь запомнился ему как «невысокого роста блондин <…> в золотых очках на птичьем носу <…> Никто не догадывался, какой великий талант скрывался в этом слабом теле»[120]. Что касается пресловутого «птичьего носа» (который ассоциировался вдобавок и с самой фамилией Гоголя), то в повести он деликатно заменен упоминанием о сатирическом писателе как о птице.
Даже лукавая «улыбочка» гостя и его способность удерживаться от смеха, столь впечатлившая Онуфрия Гниду и воспринятая им в качестве главного признака «гоголевщины», тоже в общем совпадает с тем, что известно нам о специфической манере Гоголя-чтеца и юмористического рассказчика. С. Т. Аксаков даже счел ее отличительным свойством малороссийского юмора[121].
К тому времени, когда Ковалевский живописал самозваного Гоголя, Гоголь подлинный был устремлен уже к новой, пафосно-дидактической стадии своего творчества, которой предстояло разрешиться «Мертвыми душами», «Театральным разъездом», «Развязкой „Ревизора“» и эпистолярной публицистикой. Но каким бы наивным анахронизмом ни выглядела в 1840-х годах повесть Ковалевского, она все же смогла оказать определенное воздействие на этого нового Гоголя, поскольку являла собой беспрецедентный опыт по внедрению его собственной личности в чужой литературный текст, запечатлевший устоявшийся взгляд на писателя. Автор «Ревизора», сам как бы ставший его персонажем, увидел себя со стороны, глазами своих читателей.
Вместе с тем «уездная быль» еще не могла сказаться на втором отдельном издании комедии, напечатанном в 1841-м. Работу над ним Гоголь закончил в Риме в первой половине марта 1841 года – то есть как раз тогда, когда в далекой Москве только что вышел номер «Пантеона» с сочинением Ковалевского (цензурное разрешение от 26 февраля). В Россию Гоголь приехал лишь в начале октября.
Иначе зато обстояло дело с последующей редакцией, опубликованной уже в 1842-м в составе гоголевских Сочинений. Там явственно отозвались пассажи из Ковалевского – точнее, тревоги его судьи, взбудораженного своей литературной участью:
А там, глядь, он перекрестил бы меня из Гниды в какую-нибудь Землянику и предал бы тиснению весь рассказ мой от словечка до словечка.
И ниже:
А потом перекрестит тебя в какого-нибудь Тяпкина-Ляпкина, да и предаст печати, на потеху всего уезда… Да что? всей губернии!.. Да что? всей империи! (С. 23.)
В новой версии «Ревизора» его тирада повторится почти дословно. Под влиянием «уездной были» впервые прозвучат и выпады Городничего в адрес неведомого литератора – то есть самого Гоголя, – и отчаяние по поводу того, что вся Россия узнает о его позоре. Да и не только Россия:
Мало того, что пойдешь в посмешище – найдется щелкопер, бумагомарака, в комедию тебя вставит <…> и будут все скалить зубы и бить в ладоши.
И там же:
Вот, смотрите, смотрите, весь мир, все христианство, все смотрите, как одурачен городничий!
Опасения персонажей «Гоголя в Малороссии» касательно насмешливой наблюдательности комедиографа («Так вот и цепляется… так и придирается к каждому слову»; «такой критикант, всех описывает!») в том же 1842 году отозвались и в «Театральном разъезде», у Дамы среднего света:
Но только какой злой насмешник должен быть этот автор! Я признаюсь, ни за что бы не хотела попасться к нему на глаза. Этак он вдруг заметит во мне смешное.
Напомним, что поздний Гоголь интерпретировал свое искусство как сложную систему направленных друг на друга зеркал, совместно корректирующих объект отражения. Суммарным его героем, как и суммарным читателем, становится в итоге сама Россия. Отобразив в «Мертвых душах» различных ее представителей, собранных в «типы», автор способствует их нравственному исцелению, а в перспективе – духовному пробуждению всей империи. Для этого он сгущает либо негативные, либо позитивные их черты. Взирая на первые, читатель, по его замыслу, будет отторгаться от них с благородным негодованием, а любуясь вторыми – тянуться к добру, олицетворяемому положительным героем. Но чтобы сделать такие образы по-настоящему действенными, автор должен придать им жизненную достоверность, узнаваемость. Это именно та способность, которую приписывает ему встревоженный судья: «Всякого скопирует… выльет как живого», – и которую сам писатель через несколько лет объявит главным своим достоинством. Изображая свою творческую эволюцию в письме к Жуковскому, или так называемой «Авторской исповеди» (1847), Гоголь приписывает аналогичную оценку собственного дара сперва своим нежинским соученикам, а затем Пушкину, обнаружившему у него «способность угадывать человека и несколькими чертами выставлять его вдруг всего, как живого»[122]. Тогда-то, продолжает он, Пушкин и подарил ему сюжет «для большого сочинения» – сюжет «Мертвых душ». Однако столь ответственное произведение потребовало от Гоголя как досконального изучения «души всякого человека», так и собственной перестройки.
Чтобы убедительно представить «нынешнего русского человека», ему, живущему на чужбине, необходимы «все те бесчисленные мелочи и подробности, которые говорят, что взятое лицо действительно жило на свете». Но стоит ли самому писателю путешествовать для этого по России? Отвергая целесообразность таких вояжей, Гоголь рисует их гипотетические результаты, вторящие сюжету Ковалевского:
Разъездами по государству немного возьмешь <…> Могут принять за какого-нибудь шпиона, и приобретешь только сюжет для комедии, имя которой бестолковщина. Если же узнают, что разъезжающий есть и писатель вместе, тогда положенье еще смешнее: половина читающей России уверена серьезно, что я живу единственно для осмеяния всего, что ни есть в человеке, от головы до ног[123].
Это как раз то представление о «сатирическом писателе, который пострашней всякого ревизора», что ранее продемонстрировал Онуфрий Лукич:
А этот опишет тебя с головы до ног, подметит всю твою натуру: все поговорки, все ухватки, ничего не оставит в покое, до всей подноготной докопается <…> да и предаст печати, на потеху… (С. 23.)
Однако если разъезды заведомо бесполезны, как же он, живущий вдали от России, сумеет собрать необходимые ему сведения? За ними Гоголь обращается прямо к читателям. Второе издание поэмы, выпущенное в 1846 году, он предваряет обращением, где просит их присылать ему свои поправки, возражения и уточнения – а «о слоге или красоте выражения здесь нечего беспокоиться»[124]. Главное, чтобы они поподробнее с ним делились своим собственным опытом, по возможности иллюстрируя его подходящими житейскими историями, «не пропуская ни людей с их нравами, склонностями и привычками, ни бездушных вещей, их окружающих». Иначе говоря, читателю предлагалось стать соавтором книги. Пером Гоголя Россия должна была писать – и переписывать заново – самое себя. Увы, просьба осталась безответной, о чем он укоризненно напоминает в «Выбранных местах» – в одном из «Четырех писем к разным лицам по поводу „Мертвых душ“», где сюжет поэмы осмыслялся «как дело, взятое из души, и душевная правда».
Сама же эта его установка на доверительность, безыскусность и чистосердечие тоже, по-видимому, подсказана была персонажем Ковалевского. Когда жена спрашивает судью, зачем Гоголь, выдавая себя за собственного однофамильца, предпочитает действовать «инкогнито», Онуфрий Лукич разъясняет:
Ну, для того, чтоб я обращался с ним не как с писателем, а повольней, за панибрата, как с простым дворянином… Слово за словом, да и пересказал ему все, что лежит на душе, не заботясь о том, чтобы выражаться прилично, по-книжному, а так, знаешь, по вольности дворянства… (С. 26.)
Похоже, та стратегия расспросов, которую бдительный Гнида инкриминирует здесь своему гостю, для позднего Гоголя становится прямым руководством, но отнюдь не к сатире и юмористике, а к спасительному социальному действию. «Душевный город» из «Развязки „Ревизора“» на сей раз смыкается у него с городом земным, подлинным, подлежащим всесторонней ревизии со стороны самого писателя, словно воплотившего собой ту нравственную альтернативу, которой некогда так недоставало резонерам, порицавшим его комедию. В одной из программных статей «Выбранных мест» – «Что такое губернаторша» – он навязывает А. О. Смирновой, своей приятельнице и жене калужского губернатора, методику задушевного выведывания истины – очень близкую к той, что вменял ему Онуфрий Лукич Гнида. Губернаторша должна разузнать для Гоголя побольше сведений о пороках и нраве горожан; а уж тот, составив себе представление о нравственном облике ее подопечных, найдет способ воскресить падшую Калугу. Так, следует порасспросить женщин. «Вы же имеете дар выспрашивать, – убеждает он Смирнову. – Узнайте не только дела и занятия каждой, но даже образ мыслей, вкусы, кто что любит, что кому нравится, на чем конек каждой. Мне все это нужно». То же касается любых сословий, например, мещан и купечества: «Мне нужно взять из среды их живьем кого-нибудь, чтобы я видел его с ног до головы, во всех подробностях», – и всех «лучших в городе»: «Если вы мне дадите только полное понятие об их характерах, образе жизни и занятиях, я вам скажу, чем и как можно их подстрекнуть».
Сетуя в первом из «Четырех писем…» по поводу отсутствия читательских откликов на свою поэму, Гоголь заявил: «У писателя только и есть один учитель – сами читатели»[125]. Вознамерившись стать учителем жизни, он на деле и сам многому сумел научиться у своих простодушных поклонников, которых изобразил Ковалевский. Мнимый Гоголь все же пригодился Гоголю настоящему.
2009



