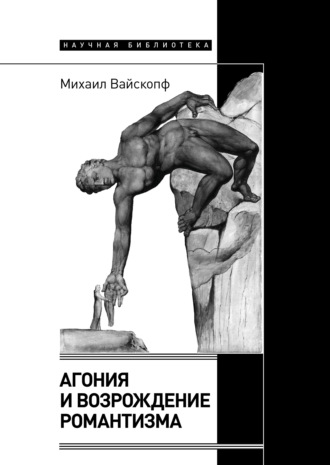
Михаил Вайскопф
Агония и возрождение романтизма
Стратегия иносказаний
Запад в консервативной периодике Пушкинских лет
Мы будем говорить о некоторых переводах, печатавшихся в журналистике Золотого века, и о той интерпретации, какой снабжали их публикаторы – люди преимущественно консервативного круга, хотя и заметно расходившиеся между собой по части индивидуальных идеологических и эстетических предпочтений. Само собой, излагаемый материал не претендует на всестороннее раскрытие темы, которая требует более широкого и досконального исследования.
Примечательный образчик прагматической трактовки дает, в частности, обращение Булгарина к прозе Гейне – к его «Путевым картинам» и статьям начала 1830-х годов, составившим книгу «Романтическая школа». В 1832 году «Северная пчела» переводит – с французского, с целомудренными купюрами и вообще в смягченном виде – вводную часть «Путешествия по Гарцу»[16]: ту самую, где Гейне высмеивает как дисциплинарную затхлость немецких университетов, так и романтико-националистические амбиции, обуявшие их студентов и значительную часть общества. Этот сарказм весьма импонировал полицейско-просветительской рассудительности и сатирическим склонностям самого Булгарина. Он не выносил ни праздной учености, ни отечественных смутьянов, ни архаичных и мечтательных германских шовинистов, которых обвинял в опасном вольнолюбии (вдобавок их антинаполеоновский настрой, давший решающий толчок немецкому национализму, конечно же, задевал его всегдашние бонапартистские симпатии). Короче, единомышленника он внезапно нашел слева и ощутил, или скорее сымитировал, радость встречи. Сам Гейне, вероятно, был бы изумлен таким союзником, если б знал о его существовании.
Своему переводу Булгарин предпослал назидательное примечание, в котором бичевал низкопоклонство перед Западом и восхвалял педагогические преимущества отечественной изоляции:
Мы еще не совсем освободились от предрассудка почитать все заграничное превосходным. Многим не нравилось мудрое и истинно патриотическое постановление, запрещающее юным россиянам воспитываться в чужих краях. Некоторым казалось и кажется теперь, что в чужих краях продают ученость фунтами и мудрость хлебают ложками или глотают в стаканах. Послушаем, что говорит ученый немец об ученой Германии, и утешимся! У нас, право, есть университеты и учебные заведения не хуже Германии; была бы охота учиться! (Там же).
Там, где Гейне глумливо живописует экзотическое одеяние немецкого патриота, облаченного в «черный кафтан древнего немецкого покроя», Булгарин поясняет: «Наряд немецкого демагога, над которым автор насмехается, точно поделом!» Затем – новое примечание, к слову «радикально»: «Радикалами называются демагоги, мечтающие о коренной перемене существующего порядка <…> Автор сей статьи поделом подшучивает над этими пустыми крикунами»[17].
По-другому с «ученым немцем» обошелся Надеждин в своем «Телескопе». Сперва, в 1833 году, создателя «Романтической школы» здесь охотно поругивали, обличая его с чужих слов в цинизме и вражде к отечеству[18]. Сам Надеждин даже сравнил его с библейским Хамом, «открывшим наготу отца своего»[19]. Но вскоре акценты меняются – «нагота» немецкого романтизма, кощунственно открытая Гейне, на время пригодилась ему для его эстетической программы. Напомню, что в «Романтической школе» Гейне язвительно атаковал средневековую ностальгию и католические пристрастия немецких романтиков. Его саркастическая критика пришлась теперь по душе Надеждину, тоже нападавшему на романтизм – хотя по совершенно другим резонам. Усматривая, подобно Гейне, в этой школе затхлое наследие Средневековья, он грезил о ее преодолении в рамках грядущей синтетической культуры, призванной соединить романтизм с классицизмом или, по его словам, «уравновесить душу с телом» (впрочем, персональные вкусы Надеждина оставались довольно консервативными и по существу тяготели к непреодоленному классицизму). Кроме того, ему как благочестивому выпускнику православной Духовной академии, безусловно, импонировал антикатолический задор поэта. В результате Надеждин, по примеру Булгарина, находчиво приспособил леволиберальный и пока еще антиклерикальный неоромантизм Гейне к собственным идеологемам (вроде того, как он сумел утилизовать и Барбье). Поместив у себя в начале 1834 года, ровно через год после прежних нападок, отрывок «Гёте и Шиллер» из «Романтической школы», редактор «Телескопа» снабдил его предисловием, где неодобрительно отозвался о романтической «страсти к среднему веку» и «интригах католицизма»[20], солидаризируясь, таким образом, с автором.
Для анализа тогдашних политических аллюзий специфический интерес представляет тема Североамериканских Соединенных Штатов. Еще на рубеже 1810–1820-х годов у русских наблюдателей – П. И. Полетики и П. П. Свиньина – это бурно растущее государство вызывало сочувственно-критический интерес[21], не лишенный все же некоторого беспокойства и раздражения. В более позднюю, николаевскую, пору в русской прозе и журналистике уже ощутима приглушенная, но внятная тревога по поводу того, что заокеанская федерация свободных республик являет собой потенциальную альтернативу как европейским монархиям, так и, главное, отечественному абсолютизму. Привычней, однако, была точка зрения, высказанная Аксентием Ивановичем Поприщиным, – о том, что «государство не может быть без короля». Да и сам Гоголь в «Выбранных местах из переписки с друзьями» этот поприщинский довод приписал даже Пушкину, который якобы называл САСШ «автоматом» – ибо чем еще может быть «государство без полномощного монарха»? У Пушкина действительно имелись весьма критические высказывания в адрес Соединенных Штатов, но существенно иного толка. Вопрос этот, впрочем, настолько изучен в пушкинистике, что заново обращаться к нему было бы тут излишним.
Опасливую ревность внушали гигантские просторы новой страны, словно бросавшей географический вызов бескрайней Российской империи, и ураганные темпы ее развития, и сама ее молодость в соединении с чересчур соблазнительным политическим строем, санкционированным конституцией. Нужно помнить, что в доктрине «официальной народности» и вообще в националистической риторике николаевского периода на юность претендовала именно самодержавная Россия, неудержимо обгоняющая «другие народы и государства». Патриотов утешала мысль о неминуемом скором распаде либо монархическом перерождении североамериканского конгломерата, управляемого «чернью» и обуянного низменным материализмом.
Показательна здесь позиция того же Надеждина, вторившего на этот счет французским роялистам и британским тори, которые с нетерпением предрекали апокалиптическую войну между американским Севером и Югом – за несколько десятилетий до того, как на радость тем она и впрямь разразилась. При всем своем эпизодическом фрондерстве и тяге к межкультурному синкретизму Надеждин оставался непоколебимым монархистом, уповавшим на всемирную гегемонию юной, монолитной и великой Российской империи. Сперва как бы упреждая, а затем преданно дублируя установки «официальной народности», он твердо верил, что его отечеству предназначено явить собой целительный пример для одряхлевшей Европы, подверженной, к сожалению, «закоренелым распрям» и «исступленному лжемудрствованию»[22]. Потому-то так пагубен для нее противоположный, американский, пример. По понятным причинам эта тревожная идея о подспудном соперничестве САСШ с Россией во всеуслышание им, конечно, не высказывалась, – но он упорно подводил к ней читателей.
Свой «Телескоп» на 1833 год Надеждин открывает политическим обзором года минувшего и предшествовавших ему месяцев[23]. Перечислив мятежи, волнения и конфликты, недавно сотрясавшие Европу (Июльская революция и пр.), редактор с удовлетворением отмечает тем не менее встречные, позитивные тенденции: везде «мало-помалу обнаруживается» наконец «возвратное движение к успокоению» – мирному и благодетельному: «Любовь к тишине и порядку, воспитанная сорокалетними кровавыми опытами, превозмогла над беспокойною жаждою волнений и переворотов». Обзору предпослан эпиграф из Псалтири, а сам текст насыщен ветхозаветными реминисценциями. Вера в священную целостность монархий, поколебленная было бунтовщиками и вольнодумцами, мотивирована каноническими ссылками на небесное единодержавие:
Святый закон единства предначертан вселенной Вечным Единовластителем и Самодержцем, Им же царие царствуют и сильнии пишут правду. Уклонения от него могут быть только временные и местные. По непреложным законам мироправления рано или поздно они должны возвратиться снова к нему[24].
Опора на Писание у Надеждина-публициста обусловлена в первую очередь его церковной и – что не менее значимо – пиетистской выучкой. Но внушительно сказываются и англиканская, а равно католическая критика Соединенных Штатов, и провиденциализм, навеянный философией Реставрации. Когда он говорит о «сорокалетних кровавых опытах», которые сегодня вынуждают европейские народы одуматься, то в его подсчетах явственно проступает библейская парадигма. Дело в том, что на пороге Земли обетованной народ Израиля за свое неверие, непослушание и малодушие был наказан изнурительными сорокалетними блужданиями в пустыне (Чис. 14: 33–34). Лишь затем возвратился он к святой Земле, чтобы вступить в нее по промыслу Всевышнего. Так возвращается ныне к искомому благополучию и зарубежная Европа.
Вообще говоря, Исход имел весомые аллегорические коннотации для любых христианских конфессий: ведь то был прообраз тернистого пути к обретению евангельской истины и самого Царствия Небесного. С максимальным же буквализмом история Исхода актуализировалась, как известно, в становлении Соединенных Штатов. Библейское повествование воодушевляло «отцов-пилигримов» и их преемников, видевших в Новом Свете новую землю обетованную. По всей видимости, редактор «Телескопа» далее полемически переосмысляет именно эту ветхозаветную доминанту американской протестантской цивилизации, к которой обращается после своих европейских размышлений.
Увы, по его убеждению, САСШ как таковые представляют собой греховный прецедент для Европы, а их «федеративная конституция» – «камень претыкания и соблазна для Старого Света». Американские юность, «свежесть» и напористая энергия, пусть даже упомянутые автором с нескрываемым восхищением, в целостной перспективе оцениваются им неприязненно – настолько, что он отдает принципиальное предпочтение «ветхой», но зато органической Европе, многоопытной и почтенной, несмотря на ее минувшие смуты. К счастью, заокеанский искус недолговечен:
На изнанке нашего ветхого полушария, в Новом Свете Америки, разгоряченное воображение мечтателей любило создавать утопию совершенства, к коему должна, по их мнению, стремиться Европа <…> Странное ослепление! Как будто пятьдесят лет существования свежих, мощных, деятельных пришлецов на неизмеримом просторе юной, девственной земли могут быть примером для ветхих европейских народов, изживших тысячелетия, заматеревших в своих нравах и обычаях, приросших всеми членами к вековой скорлупе своего политического организма! И что значат пятьдесят лет в жизни рода человеческого? Минута, в коей безумно искать ручательства для обеспечения судеб вселенной! Пятьдесят лет прошли: и кумир, коему поклонялись ослепленные энтузиасты, зашатался. В федеративном устройстве Соединенных Штатов начинается глухое брожение <…> По непрочности единой центральной силы, долженствующей господствовать над элементами политической массы, равновесие скоро может разрушиться: и либо политическое единство федерации должно распасться, либо фантом Президента должен будет приобресть Монархическую вещественность, которая одна только может держать массу разнородных элементов государства силою законного тяготения![25]
Нумерологические привязки к Исходу латентно удержаны в обоих сегментах обзора – европейском и американском. Но во втором ветхозаветная хронологическая мета изменена: с сорока лет на пятьдесят. При этом акцентированный автором полувековой период существования Соединенных Штатов преподносится им в двух совершенно различных аспектах. Как мы только что видели, это не более чем жалкая «минута в жизни рода человеческого»; но вместе с тем тут проглядывает библейский алгоритм, сопряженный уже не с мытарствами Исхода, а с его окончанием. Имеется в виду заповедь о пятидесятилетии как критической вехе (юбилейном годе), возвещенной «пришлецам» на пороге Земли обетованной. По истечении этого срока им предписывалось возвращение во всем к прежнему порядку вещей, чтобы исправить жизнь и начать ее заново: «И освятите лето, пятидесятое лето <…> Да возвратится кийждо в притяжание свое» (Лев. 25: 10, 13). Так и упомянутые американские «пришлецы» на «юной земле» Нового Света после предстоящих им злоключений вернутся наконец к «законному тяготению» монархии. И если следующая после процитированной глава книги Левит открывается запретом на «кумиры» (26: 1), то и они не забыты в статье: «Пятьдесят лет прошли, и кумир <…> зашатался». В заключение западным неурядицам Надеждин противополагает подлинную альтернативу – благоденствие николаевской России.
Кое-кого согревала мысль о неминуемой утрате американскими «пришлецами» их былого пуританского энтузиазма. Один из персонажей романа А. Степанова «Постоялый двор» (1835) мечтает попросту покорить Соединенные Штаты, отучив их от чувства превосходства над Старым Светом. Симптоматично, что эта американская гордыня тоже введена здесь в ветхозаветный контекст: будущий повелитель отождествляет ее с грехопадением Адама и с дерзновенными покушениями на вечное процветание: «И теперь как бы не простер он руки своей и не взял также от древа жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно». Следует изгнание из рая, и ангел отныне охраняет «путь к древу жизни» от изгнанников (Быт. 3: 22–24). Сообразно этим библейским ассоциациям завоеватели Нового Света приравнены именно к кочевникам. Да, они
были некогда знамениты; но теперь, теряя чистую религиозность, с которой тесно сопряжен был дух правления, начинают возвращаться к прежним своим навыкам. Мне бы хотелось первому показать им, что плод на дереве жизни еще не поспел; не время еще небу соединиться с землею; что какой-нибудь Бедуин или Невтон долго еще будут антиподами. Словом, я хотел бы их вывести из смешной чинности в чинность обыкновенную всем народам[26].
А кн. В. Ф. Одоевский в недописанной утопии 1835 года противостояние отечества и Соединенных Штатов спроецировал на 4337 год: к тому времени Россия триумфально распространилась по всему земному шару (заняв не то одно, не то оба его полушария), тогда как алчные и «одичавшие американцы» «за недостатком других спекуляций, продают свои города с публичного торгу», а потом грабят Китай[27].
Куда занимательнее, однако, выглядит трактовка американской темы у Сенковского, скептического консерватора, который наряду с научной любознательностью нередко выказывал чуткий и настороженный интерес ко всему новому. В 1838 году в своей «Библиотеке для чтения» он печатает обширные, но, разумеется, тенденциозно подобранные выдержки из книги английской путешественницы мисс Генриетты Мартино (как он ее называет) «Состояние общества в Северной Америке»[28]. Во вступительном комментарии Сенковский для вящего контраста подчеркивает ее республиканские симпатии и любовь к умеренному народовластию. Тем ценнее для него разоблачения американского «варварства», присутствующие в книге. Среди прочего территориальная экспансия САСШ объясняется там алчной жестокостью южных штатов, которые добились «разбойничьего отторжения» Техаса у Мексики и покупки Флориды, где укрывались беглые преступники и невольники.
По отношению к САСШ рационалиста Сенковского в его сопроводительных комментариях покидает привычный иронический скепсис. Приняв на себя миссию политического ясновидца, он, в манере топорно-провиденциалистских параллелей Погодина[29], размашисто отождествляет взаимоудаленные исторические явления. Уже состоявшуюся аннексию Техаса и дальнейшую экспансию Штатов – прозреваемое им завоевание Канады и Мексики – Сенковский сопоставляет с экспансией республиканского Рима. Но и в остальном заокеанскому «новорожденному колоссу» с его «народом, создавшимся из ничего», по-видимому, суждено «играть на Новом Свете роль древнего Рима» – чтобы испытать затем ту же участь. Сегодняшнюю варварскую демократию в Америке сменит имперский деспотизм.
Как прежде у Надеждина, у Сенковского, обычно вполне равнодушного к Библии, в этих наитиях внезапно отдается и заемный мотив рокового пятидесятилетия из Книги Левит:
Республика, которая, прожив не более пятидесяти лет, дошла до такой степени расстройства, не может быть долговечна. И действительно, беспорядки в Соединенных Штатах все более и более усиливаются. Выжженные города, разрушенные домы, кровь граждан, ненаказанно проливаемая, вот страшные признаки близкого разрушения, которым грозит Союзу тиран его, народ. Радикальная мисс Мартино старается извинить все это и уверяет, что рано или поздно народ одумается; нет, на пути беспорядка остановиться невозможно.
Ведь в стране, где правит бессмысленная чернь, «общественные различия не существуют». Власти раболепствуют перед народом. Соединенные Штаты, предрекает он, скорее всего, распадутся либо, наподобие Древнего Рима, покорятся какому-то «грозному Цезарю»:
Такова неизбежная история всех огромных республик, так что не надо быть колдуном, чтобы предвещать будущие судьбы Америки и Соединенных Штатов.
Но главная их беда – не столько демократия, сколько повсеместное на юге страны рабовладение, гневно осуждаемое английской путешественницей – в полном согласии с ее русским публикатором. Дело еще и в том, что уже с начала XIX века именно Великобритания энергично возглавила международную борьбу против работорговли, под ее влиянием нараставшую в большинстве европейских государств на протяжении многих десятилетий. В 1820 году эту деятельность горячо поддержал также американский Конгресс – вопреки тому, как все обстояло в южных штатах. В 1833-м, то есть за четыре года до цитируемой книги, рабство было окончательно отменено по всей Британской империи (впрочем, к концу столетия работорговлю в Африке монополизируют арабы). На таком фоне филиппики путешественницы против рабовладения на юге САСШ идеально вписывались в соответствующие британские настроения, которые прочно удерживались и через полвека после создания американского государства («незаконно», по мнению многих англичан, отделившегося от метрополии). Пригодились они и Сенковскому.
Поскольку правительство России всегда одобряло заботу об азиатских и африканских невольниках, тема вовсе не была табуирована в российских газетно-журнальных публикациях: ведь невольников белых, отечественных, она формально никак не затрагивала. Более или менее прозрачные сопоставления время от времени изливались, правда, в очередных «жалобах турка», когда, не в пример лермонтовскому тексту, их пропускала в печать нерадивая цензура. Надеждина в вышеприведенном обзоре эти аналогии ничуть не занимали, но они появлялись в его же собственной «Молве». В 1832 году под невинно-эластичной рубрикой «Смесь» там напечатана была заметка о том, что
один американец предложил заклад (дело шло о лошади), состоящий из осьми сот негров. Противник его потребовал шесть дней для освидетельствования товара[30].
А еще через несколько недель в той же газете вышло незатейливое стихотворение «Зимний сад», подписанное инициалом М. (видимо, В. Межевич): «Я не люблю дерев оранжерейных / Вельможеских за стенами садов / И эту вольную природу средь оков / Для наших прихотей затейных». Лучше уж любоваться родной зимой, «Чем в духоте, тропинкою кривой, / Ходить между уродов африканских: / Все кажется, так в землях нехристианских / Гнут спину купленных рабов»[31]. Ближайшие из «купленных рабов» гнули спину на барщине как раз в одной из христианских земель, недалеко от автора-моралиста.
В публикации Сенковского рабство осуждается со всех точек зрения – нравственной, политической и народно-хозяйственной:
Американец испорчен жадностию к корысти и тем, что у них все работы производятся неграми;
По законам штатов, в которых есть невольники, дети рабов следуют состоянию своей матери. Последствия подобного постановления очевидны: это настоящая премия в пользу распутства <…> дети принадлежат господину матери[32].
Экономически процветают только те штаты, где нет рабовладения. Писательница с возмущением пересказывает статьи из газет, выходящих в южных штатах и требующих раз и навсегда
объявить, что вопрос о невольничестве негров – дело решенное; что он не должен, не может быть снова рассматриваем и не будет; что эта система глубоко укоренилась у нас и должна существовать на вечные времена; что если б кто-нибудь между нами вздумал толковать о вреде и безнравственности этой системы, то мы отрежем ему язык и выбросим на навоз[33].
Именно из-за невольничества на американском Юге свирепствует отвратительная цензура.
В южных штатах, – говорит сочинительница, – запрещены все книги, в которых есть хоть несколько слов о невольничестве <…> Гонение на литературу доходило до того, что даже хотели было запретить привоз книг через Южную Каролину. Все это делается для того, чтобы дети не знали, как говорят о невольничестве негров в других странах; я имела тысячи случаев убедиться в этом. Между прочим, в одном доме меня просили не говорить детям ничего против невольничества, прибавив, что, впрочем, они и не поймут моих рассуждений.
Вообще «законы о журналах и книгопечатании в Соединенных Штатах чрезвычайно строги» и грозят жесточайшими карами тому, «кто пишет, печатает, издает или иным образом распространяет в народе что-либо, клонящееся к возбуждению неудовольствия, непокорности» и прочая, и взысканием больших штрафов тем, «кто своими словами или сочинениями нарушает безопасность владельцев черных невольников».
Чем, спрашивается, отличалось все это от отечественной цензуры, которая как огня боялась любой критики крепостного права? Подразумеваемая аллюзия, естественно, вынесена у Сенковского за скобки – но она не подлежит сомнению. Набор легко угадываемых параллелей продолжает расти. В передаче Сенковского мисс Мартино негодует:
Нужно ли описывать положение невольниц в таких плантациях, где хозяева стараются иметь рабов как можно больше на продажу и объяснять, до какой степени разврата это их доводит? Она должна быть очень велика, когда жены колонистов, в сокрушение своего сердца, не раз признавались мне, что они только первые невольницы гарема <…> Эти же самые колонисты продают собственных своих детей, прижитых от всякой невольницы, и стараются иметь их как можно больше именно для того, чтобы выручать за них деньги!
Опять-таки – чем отличалось это от известного помещичьего способа увеличивать число крепостных?
Негодованием проникнут и ее рассказ о том, как в погашение долга прекрасные девушки-квартеронки были отданы неумолимому кредитору, который затем на них нажился: «Они были проданы поодиночке, за дорогую цену, чтобы служить потехою какому-нибудь сластолюбцу»[34]. В том самом 1833 году, когда в Великобритании было навсегда упразднено рабство, Николай I, со своей стороны, ввел некоторые послабления для крепостных, и в частности запретил разлучать их семьи для продажи. Однако для русского читателя английские филиппики по-прежнему звучали совершенно по-домашнему, так как Сенковский в своем изложении подчеркнуто ориентировал их на Грибоедова: «Но должников не согласил к отсрочке: / Амуры и зефиры все распроданы поодиночке», – и на раннего Пушкина: «Надежд и склонностей в душе питать не смея, / Здесь девы юные цветут / Для прихоти бесчувственной злодея».
Позиция «Библиотеки для чтения» на сей раз совершенно очевидна: крепостное право губительно для России и само по себе способствует ужесточению режима. Однако страшна и демократическая альтернатива, чреватая разнузданной тиранией народа, которая, в свою очередь, приведет к военной диктатуре наполеоновского типа. Подразумеваемый компромисс исподволь снова взывает к Пушкину, к концовке все той же его либерально-монархической «Деревни»:
Увижу ль, о друзья, народ неугнетенный
И рабство, падшее по манию царя,
И над отечеством свободы просвещенной
Взойдет ли наконец прекрасная заря?
В 1830 году Николай Шеншин, будущий друг и соученик Лермонтова по Московскому университету, перевел в «Атенее» обширный отрывок из филосемитской книги графа де Сегюра Histoire de Juifs (по мнению И. З. Сермана, оказавший прямое влияние на лермонтовскую драму «Испанцы»). Описывая травлю евреев на Пиренейском полуострове и изгнание их из Португалии в 1496 году, автор рассказывает и о том, как им запретили брать с собой детей в возрасте до 14 лет, ибо те подлежали насильственному крещению, —
повеление, которому с трудом можно верить и которому не представляет примера история самых варварских народов. При сем последнем тиранском поступке отчаяние гонимого народа вышло из пределов, многие умертвили сами себя, чтобы предупредить жестокую разлуку; другие убивали детей своих, соглашаясь лучше видеть их мертвыми, нежели в руках христиан[35].
Между тем новейший и притом отечественный пример такого же точно «тиранства» был совсем рядом: публикация Шеншина появилась вскоре после знаменитого указа о кантонистах (1827), преследовавшего абсолютно тождественную цель – принудительно окрестить еврейских детей, оторвав их от дома[36]. Аналогия была чересчур очевидной. (К слову, позднее, в 1843 году, когда царь приказал «без всяких отговорок» изгнать всех евреев из 50-верстной пограничной полосы, «в немецких, французских и английских газетах появились резкие статьи по поводу политики „новой Испании“»[37]). Неудивительно, что полный перевод книги де Сегюра был запрещен духовной цензурой[38].
Но стратегия политических иносказаний не только отталкивалась от дурных зарубежных примеров, которым молчаливо противополагались потребные для России реформы. Иногда, напротив, отечественное правительство восхваляли за его сегодняшний мнимый либерализм – в надежде на то, что рано или поздно он станет явью. В 1834 году в той же «Библиотеке для чтения» Сенковского князь Вяземский, пока еще не растерявший остаточного вольнолюбия, опубликовал статью «Тариф 1822 года, или Поощрение развития промышленности в отношении к благосостоянию государств и особенно России». Либеральные симпатии Вяземского, который стал к тому времени вице-директором Департамента внешней торговли, в данном случае спроецированы были на экономику. По долгу службы восхваляя те или иные попечительные меры режима, он многозначительно добавляет:
Правительство не скрывает их в тайнах кабинета: они обнародываются в достоверных документах. Виды Торговли, Отчет Кредитных Установлений, Коммерческая Газета передают их во всеобщее сведение. Гласность действий лучшая порука в их несомнительности[39].
Увы, поскольку даже сам бюджет империи все эти годы оставался строжайшей государственной тайной, подобные умозаключения неизбежно сохраняли утопический привкус.
Приемы эзопова языка не претерпели кардинальных изменений в России даже после немыслимых политических катаклизмов. Будем надеяться все же, что насущной необходимости в подобных иносказаниях более не возникнет.
2014Публикуется впервые



