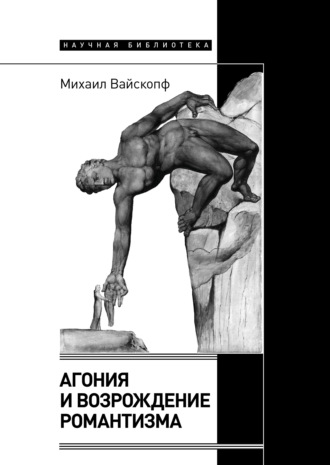
Михаил Вайскопф
Агония и возрождение романтизма
Когда-то Гоголь превозносил Языкова, поэзия которого, как известно, настолько ему импонировала, что он безмерно преувеличивал ее значение. Но Гоголь и тогда практически присоединился к тем скептическим суждениям, которые в 1833 году высказывал неупомянутый им Ксенофонт Полевой. Отдавая должное темпераменту и «разгулу» Языкова, критик не признал его представителем русских национальных начал в поэзии:
Без господствующего чувства, без индивидуальности нет лирического поэта, ибо отсутствие индивидуальности показывает слабость воображения, которое у поэта должно глубоко и пламенно отражать то, что незаметно скользит по душевным фибрам людей обыкновенных. Предметы существуют для всех равно, но различно отражаются в душах. В этом отношении поэт подобен зеркалу, которое ясно и верно показывает все, что приходит в оптическую точку его. Но поверхность тусклая или слабо отполированная представляет нам все предметы неверно и неясно: таково свойство и людей обыкновенных. Напротив, теснясь в душу поэта, все впечатления становятся ясны и разительны, ибо поэт, так сказать, сосредоточивает в один фокус разбегающиеся лучи и передает их в сем новом, преображенном виде толпе, жадной и готовой принимать все, чего не может она создать собственными силами. Но этого-то свойства нет в г-не Языкове. Все впечатления скользят по душе его. У него нет … индивидуальности…[79]
А между тем ту же самую метафору зеркала, фокусирующего лучи, которую К. Полевой счел непригодной для Языкова, Гоголь уже вскоре после того в своей статье 1835 года «Несколько слов о Пушкине» – то есть еще за десятилетие до «Выбранных мест…» – спроецировал именно на Пушкина, пока еще объявленного им «русским национальным поэтом»:
В нем русская природа, русская душа, русский язык, русский характер отразились в такой же чистоте, в такой очищенной красоте, в какой отражается ландшафт на выпуклой поверхности оптического стекла.
«Мертвые души»
Главная книга Гоголя, как не раз указывалось, в частности, автором этих строк, тоже несет на себе внушительный отпечаток литературных вкусов и идеологических исканий, актуальных для Золотого века, в том числе для его расхожей низовой продукции. Позволительно указать хотя бы на неучтенный пример самого понятия «мертвые души», который лишний раз свидетельствует о его распространенности. Семнадцатилетняя Ел. Шахова в 1839 году оплакивает свою участь: «Между мертвыми душами / Камчадалкой доцветай»[80].
Принципиально значимые для Гоголя рассуждения о всеобщей страсти к приобретению, обуявшей Чичикова, аукаются с фрагментом из повести «Мещанин» (1840) А. Башуцкого, известного представителя натуральной школы, который писал о
всеобщей ныне, мировой, если можно так выразиться, страсти к стяжанию <…> Для этой страсти жертвуют всем; жажда стяжания сделалась неутолимою! Не говорите мне, что в этом обнаруживается только разлитое образованностию желание благосостояния… Нет, нет, для стяжания презирают все; изменяют законы разума и совести; подлое становят на степень великого; бесчестное облекают в одежду чистоты, демона делают кумиром. И к чему стяжают?.. чтоб в довольстве, свободно быть полезным семьянином, гражданином великим? Нет, чтоб <…> наслаждаться самому, презирая все <…> не слышать воплей, не видеть слез, не понимать чувства»[81].
Многие сентенции гоголевских помещиков имели чисто литературное происхождение. Достаточно будет привести в пример Манилова, который, приглашая Чичикова к обеду, прибавляет: «Вы извините, если у нас нет такого обеда, какой на паркетах и в столицах, у нас просто, по русскому обычаю, щи, но от чистого сердца». Это кулинарно-патриотическое чистосердечие передал ему, скорее всего, Вильгельм Карлгоф в своей повести «Живописец» (1830):
Гость, быть может, найдет здесь большее хлебосольство, нежели в раззолоченой гостиной, ибо я люблю добрые русские нравы более … паркетов[82].
Другие интертекстуальные схождения либо даже прямые источники гоголевских пассажей касаются романтической словесной пейзажистики, сочетающей в себе динамические эффекты и тонкую цветовую нюансировку. Объекты описания выступают в качестве субъектов, которые «являют» или «рисуют» сами себя:
Овраг, с оборванным крупным краем, рисовал то нежную волнистую, то резкую, изломанную черту, разделяющую яркую горную выпуклость от темной промоины, из коей выставлялись желто-бурые глинистые морщины и мохнатый серый пень с одним оставшимся изломанным суком. То были поля, на коих зелень являлась во всех своих бледных северных оттенках; по коим живописно пробегали темные прозрачные тени облаков, подобно легким разорванным газовым покровам, сдуваемым легким осторожным дыханием.
Строки эти взяты из указанной (по поводу «Записок сумасшедшего») опубликованной в 1834 году повести Андросова «Случай, который может повториться»[83]. Ср. типологически родственный, но более поздний пример – северокавказский пейзаж из повести Елены Ган «Медальон» (1839):
Быстрый Подкумок, то разбрасываясь ручьями, то собирая воды свои в одно ложе, змеился и орошал луга и сады казацкой станицы; посреди села светлел, как маковка, купол Божьяго храма; в стороне чернел табор цыган, пылали их очаги; за ними – море зелени, усеянное рощами, холмами, станицами и аулами замиренных черкесов, терялось в едва синеющей дали. Из него от юго-запада к востоку возносилась амфитеатром цепь снежных гор, начиная двуглавым Эльборусом, который, всех выше и величавее, стоял, будто предводительствуя сонмом исполинов, и резко оттенялся нежною белизной на темно-голубом небе, еще неосветленном с той стороны восходом солнца; горы, то понижаясь, то возвышаясь, громоздясь одна на другой, разнообразясь в самых фантастических видах, пропадали местами в зыбях воздуха, и снова являлись, обозначались гигантскими формами со всеми оттенками бездны, ущелий и скалистых гребней, прорезывающихся черными зубцами сквозь снежную пелену выси. По мере того, как горизонт, приближаясь к востоку, светлел, и снежные вершины, теряя матовую белизну, рисовались неопределеннее и нежнее, от блеска солнца, оне почти сливались с сияньем небес, казались все прозрачнее, бледнее, исчезали постепенно как призраки предрассветного сна, и наконец, тонули в розовом разливе востока, на котором солнце раскинулось уже длинными, глубоко разрезанными лучами[84].
Думаю, в обоих этих случаях нет необходимости напоминать о знаменитой картине плюшкинского сада в «Мертвых душах» – картине, которая завершается восклицанием: «Словом, все было хорошо, как не выдумать ни природе, ни искусству, но как бывает только тогда, когда они соединятся вместе». Канонические для романтизма замечания об идеальном соединении природы и искусства в прозе и эссеистике 1830-х годов попадаются довольно часто. Текстуально к гоголевской фразе ближе всего, вероятно, показ сада в уже цитировавшемся здесь «Постоялом дворе» – сада, где «природа союзится с искусством так, что последнее вовсе неприметно»[85]. Однако у Степанова можно найти и немало гротескно-бытовых ходов, задействованных позднее у Гоголя, вроде насмешек над земской полицией или идиоматические обороты наподобие «тяготить землю» (у Гоголя – «бременить землю»). В «Постоялом дворе» различимы и контуры будущих Ноздрева или Самосвитова[86]. С другой стороны, кое-какие иронические реплики Гоголя восходят, видимо, к «Семейству Холмских» Д. Н. Бегичева – например, замечание о чиновниках, предпочитающих дуэлям доносы[87].
Другие мировоззренческие аспекты гоголевской поэмы, вернее то, что мы привыкли считать ее радикальными новациями, на деле были уже подготовлены Чаадаевым и Надеждиным. Так, в 1834 году в рецензии его «Молвы» на альманах «Денница» встречаются сентенции, безусловно подсказанные Чаадаевым:
У нас нет ничего постоянного, высоковечного. А отчего? Оттого, что ныне нет ничего собственно своего, ничего доморощенного. Всё заносится к нам чужим ветром с чужой стороны: всё мчится перекати-полем, без корня и семян, по нашим степям невозделанным[88].
Ср. затем сами чаадаевские размышления о России в его роковом Философическом письме, публикация которого в 1836 году немедленно привела к закрытию «Телескопа»:
Нет ничего, что бы привязывало, что бы пробуждало наше сочувствие, расположение; нет ничего постоянного, непременного; все проходит, протекает, не оставляя следов ни на внешности, ни на нас самих[89].
Но тут стоит вернуться к рецензии на «Денницу», где вслед за приведенным выше фрагментом следовала реплика:
Прохожие останавливаются взглянуть на любопытное явление, коим оживляется пустынное однообразие, всюду царствующее: но оно уже промчалось, исчезло…[90]
В последней главе «Мертвых душ» автор явно оспаривает эту надеждинско-чаадаевскую картину, претворяя «открыто пустынную и ровную» Русь в «чудную, незнакомую земле даль». А в заключительных строках поэмы, где образ стремительной национальной тройки (отработанный у гоголевских предшественников) наделен нуминозной мощью, мотив мгновенно пропадающего, исчезающего из виду явления знаменует уже превосходство Руси над другими народами. Как и у Надеждина, наблюдатель останавливается – но не от любопытства, а от священного ужаса:
Летит вся дорога невесть куда в пропадающую даль, и что-то страшное заключено в сем быстром мельканье, где не успевает означиться пропадающий предмет <…> только дрогнула дорога, да вскрикнул в испуге остановившийся пешеход – и вон она понеслась, понеслась, понеслась!.. <…> Остановился пораженный Божьим чудом созерцатель…
Тем знаменательней будет печальный возврат к чаадаевской модели у позднего Гоголя в «Четырех письмах по поводу „Мертвых душ“», где тавтологически нагнетается мотив «бесприютности»: «…бесприютно и неприветливо все вокруг нас, точно как будто бы мы до сих пор еще не у себя дома, но где-то остановились бесприютно на проезжей дороге».
Продолжение «Мертвых душ» столь же тесно связано было с литературным фондом эпохи. Напомним экспозицию второго тома с ее величественным пейзажем, оксюморонно поданным как глухой «закоулок»:
Зато какая глушь и какой закоулок!
На тысячу с лишком верст неслись, извиваясь, горные возвышения. Точно как бы исполинский вал какой-то бесконечной крепости возвышались они над равнинами то желтоватым отломом, в виде стены, с промойными рытвинами, то зеленой кругловидной выпукленной, покрытой как мерлушкой, молодым кустарником <…> Пространства открывались без конца. За лугами, усеянными рощами, водяными мельницами, зеленели и синели густые леса как моря или туман, далеко разливавшийся <…> За песками лежали гребнем на отдаленном небосклоне меловые горы <…> кое-где дымились над ними легкие, туманно-сизые пятна… —
и т. д. Отчетливый прообраз этого ландшафта мы найдем в третьем томе книги Титова «Неправдоподобные рассказы чичероне Дель К…о» (1837), где живописуется горная
волшебная стена, поставленная между Европой и Азией; исполинская эта стена горела различными переливами света; причудливые ее бойницы зубрились на непорочной лазури; и отдельные, высочайшие шпили, как факелы, кое-где пылали легким розовым пламенем <…> Черные или лесом покрытые горы сливались на горизонте с синевой неба и были подобны бесконечному, открытому морю, на котором плавали высочайшие вершины, как волшебные острова, как мечты отдаленные, как будущее убежище души нашей[91].
Красочный глухой «закоулок», тоже увенчанный меловой горой, обрисован был и в 1839 году в указанном «Медальоне» Е. Ган[92]. В таком «закоулке» обитает юная генеральская дочь Олимпия Бобрина, которая чертами характера предвосхищает при этом генеральскую дочь Улиньку Бетрищеву, запечатленную в том же втором томе «Мертвых душ». Подобно своей гоголевской преемнице, чувствительная, добрая, пылкая и отзывчивая Олимпия реагирует на все спонтанно: «Ни одна мысль ее не мелькала, не отражаясь в них (в ее чертах), как в зеркале <…> страдая за других, она забывала себя»[93].
Что касается происхождения других гоголевских типажей, то здесь примечателен, в частности, один из предшественников полковника Кошкарева, бюрократа и прожектера. Это доверчивый и бестолковый полковник Линский из повести Николая Андреева «Ликарион» (1838), который увлекся теориями прусского агронома Альбрехта Тэера, непригодными для отечественных условий, и оттого погубил все свое имение. В Линском предсказаны были, вместе с тем, и специфические черты Манилова. Полковник застроил свой английский сад «храмами, киосками, гротами, мостиками, ротондами, павильонами», то есть всем тем, о чем только мечтал гоголевский персонаж[94]. Вероятно, нет необходимости напоминать читателям о соответствующих фрагментах гоголевского текста.
Уместно будет закончить эти заметки ссылкой на чрезвычайно выразительный пример преемственности «Мертвых душ» от устоявшейся патриотической традиции. «Птица тройка» с ее стремительной русской ездой, восславленной в концовке поэмы, при всем феерическом блеске гоголевского нарратива была все же общим местом, на что мне тоже и довольно подробно уже случалось указывать в своей монографии[95]. Приведенный там набор источников и параллелей я хотел бы теперь несколько расширить. Сам портрет забубенного русского ямщика, противопоставленного чинному вознице «в немецких ботфортах», контрастно ассоциируется с «Шуткой» Вяземского (1841):
Словно чопорный германец
При ботфортах и косе,
Неуклюжий дилижанец
По немецкому шоссе[96].
В повести 1835 года «Письма из Дерпта», подписанной буквами А. в. м. л., стремительная русская езда противопоставляется медленной чухонской и немецкой:
Наша русская езда – любо, что за езда! Это поэма!.. Ямщик вскочил на козлы, и все жилки в нем заговорили <…> А этот колокольчик-ревун <…> а эти борзые кони, понимающие малейшее движение шапки, рукавицы своего хозяина, бегущие однообразною, как грусть, рысью, когда он поет грустную песню, – и с места марш-марш, когда он вдруг грянет плясовую! <…> Ясно, что на святой Руси, по ее обширности, по отдаленности городов одного от другого, более, чем в каком-либо государстве долженствовала развиться поэзия езды. Русский нетерпелив; ему бы тяп да ляп: да и состроился корабль[97]; вот начало скорости езды в России <…> Дорожный русский сосредоточивает свои мысли и чувствования в теме песни;
Взгляни на русского извозчика <…> вся душа его перешла в звуки песни, которую он поет…
Да! Скажем с восторгом: сильна, могуча Русь! Богатырская кровь течет в жилах сынов ее[98].
Думаю, приведенными примерами можно вполне ограничиться, чтобы показать небесполезность такого рода текстологических разысканий и пригласить к ним уважаемых коллег-гоголеведов. На этом поприще еще предстоит немало работы.
2005, 2019
«Мрачные образа»
Об одном источнике двух повестей гОголя – «Портрет» и «Вий»
Между «Вием» и «Портретом», впервые напечатанными почти одновременно[99], имеется самоочевидное сюжетное сходство, удержанное, с теми или иными вариациями, в последующих изданиях обеих повестей. В предлагаемом разборе я абстрагируюсь от этой их эволюции, не слишком существенной для заявленной темы, а равно и от многих нерелевантных сторон их сложного и противоречивого идеологического генезиса. При любом раскладе эти тексты сближает культурная универсалия, прочно усвоенная романтизмом: смертоносные силы воплощаются в самом мертвеце[100].
В «Портрете» художника убивает изображение умершего ростовщика, пробудившего в нем греховные страсти; «философа» в «Вие» – погибшая панночка и соприродные ей подземные духи. Куда интересней, что в обоих случаях демонический губитель замещает собой сакрального персонажа, с которым сохраняет тем не менее отчетливое родство. В своей давней книге о Гоголе я уже приводил весьма подробные аналогии, с одной стороны, между антихристом-ростовщиком и святым старцем – отцом художника из «Портрета»; а с другой – между Вием и Богом-Отцом (еще один сюжетный заместитель Всевышнего – отец панночки, спор которого с Хомой представляет собой аллюзию на диалог Бога с Моисеем из Исх. 3 и 4)[101]. Но и лежащая в гробу красавица-ведьма, плачущая в церкви кровавыми слезами, напоминает о сакральных прецедентах – от кровавого пота в Молении о чаше (Лк. 22: 44) до слезоточивых икон. Симптоматичен, естественно, и соответствующий локус «Вия» (позаимствованный, как известно, из баллады Р. Саути) – церковь с ее мрачными образами, ставшая вместилищем бесов. В религиозно-генетическом плане перечисленные схождения указывают прежде всего на зависимость писателя от так называемого языческого синкретизма, по большей части еще не знавшего жесткой дихотомии небесных и инфернальных начал, свойственной христианскому вероучению, – оттого, собственно, они с такой неимоверной легкостью перетекают у Гоголя друг в друга, пугая героев и самого рассказчика.
Ощущение этого праединства, часто вступавшее у автора в конфликт с новозаветным дуализмом, также было не его персональной особенностью, а достоянием мощной традиции. Смешение сакрального и демонического вечно угнетало или тревожило бесчисленных духовидцев, которые приписывали свои страхи козням дьявола. По сути дела, в гоголевских повестях мы сталкиваемся с фамильной приметой всей романтической школы, истово тянувшейся к этой архаике. Достаточно напомнить, что готический и романтический сюжет об оживающем бесовском изображении, использованный в «Портрете», представляет собой инверсию старых церковных преданий о чудотворных иконах[102]. Но ведь и эти истории, в свою очередь, восходят к античным повествованиям о чудотворных статуях – к легендам, заново востребованным романтизмом, который с готовностью придавал им демонологическое звучание. Подобные нарративы, подернутые балладным колоритом, при случае легко вбирали в себя и мотив движущегося трупа, изофункционального губительному изображению.
Демонизация, однако, нередко вытеснялась обратным процессом, ибо обожествление эротического объекта, присущее романтической поэтике в целом, тоже находило адекватное выражение в рассказах об оживающих картинах или статуях. В русской прозе догоголевской и гоголевской поры покойная жена либо возлюбленная героя, запечатленная в ее портрете, бюсте и т. п., зачастую выступала в амплуа Пречистой Девы[103]. Религиозное сознание тем не менее продолжало двоиться, граница между святым и бесовским оставалась размытой. Мадонна всегда могла обернуться ведьмой, а ведьма – Мадонной. Проблема не имела решения, но его суррогаты предлагал уклончиво иронический бидермайер, уже расплодившийся в русской культуре[104].
С этим изводом немецкого романтизма тесно соприкасался и Гоголь. Чрезвычайно важным общим импульсом для его «Портрета» и «Вия» послужила, несомненно, повесть Павла Сумарокова «Белое привидение, или Невольное суеверие», изданная в начале 1831 года[105]. Видимо, она стала, кроме того, посредующим звеном между балладой Саути и «Вием», опубликованным через четыре года после «Привидения».
У П. Сумарокова прослеживается, в частности, четкая ассоциативная связь между показом страшной мертвой подруги и такой же страшной Богородицы; но все смягчено у него обстановкой уютной бидермайеровской говорильни, которая сводит любые ужасы к курьезному недоразумению. Бидермайеровский разговорный фон широко представлен и в «Вие» (беседы на кухне и пр.), но все же он только оттеняет трагический разворот сюжета. У П. Сумарокова основное движение текста предваряется эпизодами, нагнетающими атмосферу таинственности. Затем на деревенской вечеринке завязывается беседа о духах и привидениях: по словам хозяина, покойный друг являлся ему в облике белого привидения. Один из гостей, учитель, вспоминает, в свою очередь, как у сельского пономаря «умерла жена, женщина довольно еще молодая и притом любимая им до чрезвычайности». Ночью в церкви вдовец
сам читал псалтырь по покойнице, попеременно с дьячком <…> но перед светом дьячку понадобилось зачем-то сходить домой, и пономарь остался в церкви один <…> Он продолжал свое чтение тихим и протяжным голосом <…> Вдруг послышался легкий шорох. Церковь была слабо освещена: одна маленькая свечка горела перед образом, стоящим в головах мертвой, другая в руке у пономаря. В страхе взглянул он на покойницу, и ему показалось, что покров ее шевелится… однако через минуту шорох затих <…> Снова принялся он за чтение, как опять тот же шорох послышался гораздо явственнее, образ, стоявший в головах мертвой, с громом полетел на пол и свеча, горевшая перед ним, погасла.
Думаю, каждый, кто помнит гоголевскую повесть, с ходу опознает здесь сцены и обстановку той ночной церкви, в «мертвой тишине» которой трепещущий от страха Хома Брут будет читать молитвы по умершей, – вплоть до икон, попадавших наземь. Ср., однако, далее у Сумарокова: испуганный пономарь,
увидев за собою что-то белое <…> опрометью бросился с клироса. Но в то же самое время, когда он поравнялся с одром, на котором стоял гроб, почувствовал, что кто-то удерживает (его) за полу кафтана. Оледенев от ужаса, пономарь употребляет все силы, стараясь вырваться из невидимых рук <…> За ним, в ту же минуту, раздался страшный стук и шум, как будто что-то валилось и обрушивалось.
Выскочив наружу, очумелый вдовец стал бить в набат, созывая народ, – и «люди, вошедши в церковь, увидели, что гроб был опрокинут, а покойница лежала на полу, только холодная, неподвижная, не показывая ни малейшего признака жизни». Происшествие так и осталось загадкой – хотя, как это принято в поэтике бидермайера, тут же подыскиваются самые прозаические (но все же заведомо сомнительные) объяснения: образ и свечу опрокинула кошка, пономаря напугала сова и пр. «Верного никто не знал, а между тем пономарь клялся и божился, что видел точно жену свою, вставшую из гроба, даже чувствовал, как она схватила его холодными, костлявыми руками».
Знаменательна, однако, дальнейшая связь грозной жены, встающей из гроба, подобно гоголевской панночке, с иконой Богоматери. В «Вие» эта богородичная ассоциация уже будет осторожно приглушена: просто «лики святых, совершенно потемневшие, глядели как-то мрачно»; «мрачные образа глядели угрюмей». Между тем в «Белом привидении» та же «мрачность» реализована была в самом сюжете.
Разговор, описанный у Сумарокова, происходит «накануне праздника Покрова Богородицы. В гостиной стоял большой фамильный образ Богоматери, и перед ним горела лампада (хозяин следовал еще обычаям предков своих)». После вечеринки главный повествователь, возбужденный услышанными историями и страдая от сильного холода, долго не может заснуть.
Образ Богоматери, написанный старинным иконным письмом, стоял прямо напротив меня, и глаза мои невольно на него устремились. Краски лика, потемневшие от времени, почти колоссальный размер его и черты несколько грубые – все это придавало иконе какой-то величественный и вместе грозный вид.
Само это соединение «фамильного» лика и мотива «предков» со «старинным письмом» переключает рассказ в готический регистр, который и здесь подкреплен обязательным упоминанием о страшных глазах образа (пусть даже православного): «Глаза ее, довольно живо сделанные, казалось, смотрели на меня и как будто встречались с моими взорами», – но тут сумароковские сцены упреждают заодно и гоголевский «Портрет». «При глубокой тишине, царствующей во всем доме, в котором как будто не было ни одного живого существа, при взгляде на мрачный лик иконы, озаренный слабым светом», героя-рассказчика охватывает тревога, и скепсис его улетучивается. Он задумывается над таинственностью мира. «При этой мысли какое-то непостижимое чувство заставило меня бросить взгляд на то место, где все представлялся хозяину умерший друг его и где слуга тоже видел призрак». Догорающая лампада лишь изредка озаряла образ «и минутным, мелькающим отблеском как бы придавала глазам его живость и движение» (ср. столь же магический лунный свет в «Портрете»). Наконец рассказчик засыпает.
И тогда вдруг показалось мне, что я открываю глаза, вижу себя в церкви, ярко освещенной, и лежу в гробе посредине ее. Священник и дьякон, со свечами в руках, пели надо мною погребальные гимны. Голоса их, которые слышались мне, были неясны и страшны <…> В церкви сделалось темно; одна маленькая свечка оставалась на иконостасе перед местным образом Богоматери, и этот образ был тот самый, на который смотрел я с вечера. Только черты лика казались еще величественнее; они беспрестанно изменялись, оживали, икона начала трогаться и отделяться от иконостаса. Тут опять послышалось пение; страшные лица в священнических одеждах показались со всех сторон и стали приближаться ко мне вместе с иконою, которая грозно указывала на меня. Все то же оцепенение удерживало меня в гробе; крики замирали в груди моей… Наконец, голоса поющих слились в ужасный, пронзительный вопль… Волосы мои встали дыбом; с лица капал холодный пот.
От ужаса герой просыпается, но страхи его пока не проходят: в бледном сиянии месяца ему мерещится в углу белое привидение – именно то, о котором говорил хозяин. Наконец все приходит в должный вид, мнимое «привидение» разъясняется простым стечением обстоятельств, а сама история о нем поставлена под сомнение.
Тем не менее оживающая икона Богоматери, надвигающаяся на героя, в сумароковской новелле заняла, как видим, то самое место, которое у Гоголя будет отведено в одной повести портрету антихриста, а в другой – мертвой ведьме и Вию. При этом свирепый клир замещает нечистых духов, которые беснуются в церкви, а образ Богоматери «указывает» священникам на жертву точно так же, как Вий своим подручным – на Хому.
Некоторые совпадения с П. Сумароковым видны у Гоголя и в деталях. Можно счесть случайностью тождество между репликой из «Привидения» – «В природе, право, есть вещи непостижимые» – и столь же избитой максимой Чичикова: «В натуре находится много вещей, неизъяснимых даже для обширного ума»; впрочем, с таким же успехом последний мог позаимствовать это заключение из книги Эккартсгаузена, неспроста помянутой в гоголевской поэме: «Есть в Натуре чудные явления, непостижимые для существ, организованных, как мы»[106]. Зато именно с «Вием» сходится такая важная символическая подробность, как бестиальный аккомпанемент действия. У Сумарокова герой объясняет приснившиеся ему страшные вопли священников тем, что в ночи «раздавался вой собак, запертых внутри дома, которые <…> затягивали песню свою целою стаею». Ср. в «Вие»: «Ночь была адская. Волки выли вдали целою стаею. И самый лай собачий был как-то страшен».
Отказавшись от покладисто-иронических компромиссов, которыми привык довольствоваться бидермайер, Гоголь вернул сюжет о потусторонних силах к его глубинным истокам, «неизъяснимым» для дуалистического сознания.
2014, 2019



