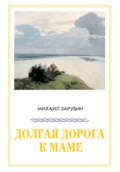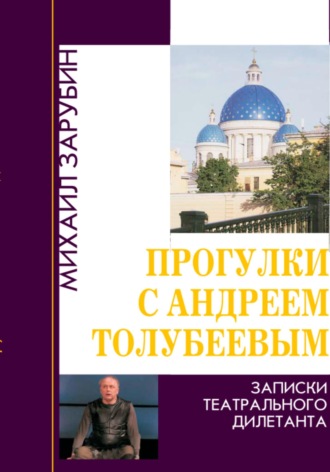
Михаил Константинович Зарубин
Прогулки с Андреем Толубеевым. Записки театрального дилетанта
– Видимо, остаток жизни проведу я на даче, выслушав меня, сказал Андрей. – Не заработать мне денег на усадьбу, значит, не судьба.
– Это совсем неплохо, если учесть, что дача – совершенно особый феномен российской жизни, второе жилище и духовное пристанище горожанина.
– Да, Константиныч, сколько себя помню, с началом первых теплых дней моя жизнь связана с дачей. Став взрослым, я впервые осознал, что подобной, совершенно особой, и притом исполинской, инфраструктуры нет больше нигде в мире. Нет таких мегаполисов, половина населения которых переселялась бы на лето за город. Как это получилось, где истоки этого явления? Почему дачи оказались сугубо русским феноменом?
– А почему в Испании привилась коррида? Почему немцы чаю предпочитают кофе?
– Думаю, у нас все сложнее. В России долгие, темные, холодные зимы, после которых душа рвется на природу. У нас была относительно дешевая земля, во всяком случае, намного дешевле, чем в Европе. Дача стала неотъемлемой частью нашего быта и нашей культуры. Сколько в русской литературе написано рассказов, романов и пьес о дачах и дачниках!
В европейских языках нет слов, адекватно передающих понятие «дача». У французов это просто «загородный дом» или «второе жилище». У англичан – «сельский дом» и «летний дом». Есть еще «шребергартен» – крошечный лоскуток земли, пара деревьев, цветочная клумба, очаг для барбекю и микроскопический сарай для хранения инвентаря. Сюда приезжают, чтобы покопаться в земле или устроить пикник на свежем воздухе. В толковом словаре французского языка слово «дача», правда, есть. Расшифровывается оно так: «…Русское слово. Русский сельский дом, находящийся вблизи большого города».

– Довольно точное объяснение. А вот понятия «поехать на дачу» у европейцев нет. Англичанин, немец, француз, итальянец, испанец скажут: «поехать за город». Зачем русскому человеку дача? Недавно прочитал книгу профессора лондонского Кингз-колледжа Стивена Лоувелла. Его работа «Дачники» – детальный, богато иллюстрированный труд. Он анализирует происхождение и развитие русской дачи за два последних века. Лоувелл рассматривает различные функции русской дачи: место для отдыха, способ преодолеть негативное воздействие города, территория для интеллектуальных сообществ, просто источник существования. Фактически ученому удалось представить в «дачном» разрезе всю историю России, включая и пресловутую «загадку русской души». Представления о дачах, дачниках и дачном образе жизни вошли в мировую культуру благодаря Пушкину, Тургеневу, Чехову, Горькому… Загородный отдых и загородные домики любят горожане во многих странах. И все же дача, по мнению Лоувелла, – это нечто бесспорное русское. Русские дачные пригороды не очень-то похожи на пригороды европейских столиц. Русские называют дачей и многоэтажный кирпичный особняк, и самодельную времянку. Земельный участок под дачей может быть от трех соток до гектара и более. На дачах любили жить и государственные деятели, и вольнодумствующие интеллигенты. Дача может быть местом и престижного отдыха, и каторжного труда. Конечно, многие положения британского историка покажутся нашему читателю наивными и не совсем правдоподобными. Например, он утверждает, что садовые участки в начале девяностых годов буквально спасли россиян от голода. Это, конечно, ерунда. Даже самые отчаянные дачники хорошо понимают, что российские садоводческие товарищества с экономической точки зрения убыточны и «накормить» кого-либо не могут…
История российской дачи начинается с императора Николая I, который в 1821 году подарил своей супруге Александре Федоровне дачу – загородный дом для отдыха в Петергофе. Она называлась «Собственная ее Величества дача Александрия». Это был особняк в три этажа с 27 комнатами. Однако русские люди устремились за город еще раньше: историк Николай Карамзин в 1803 году сетовал, что летом Москва пустеет. В 30-е годы девятнадцатого столетия в пригородах Москвы стали появляться специальные места для летнего проживания. А настоящий дачный бум начался с появлением в России железных дорог, и поселки для отдыха стали строить подальше от города.
Дачи как место отдыха состоятельных россиян стали распространяться с 1860-х годов. Именно во второй половине девятнадцатого века дачная жизнь стала массовым социальным явлением, характерным только для России; оно нашло ярчайшее отражение в русской литературе того времени.
Самым известным дачным поселком в то время была Перловка, принадлежавшая московскому предпринимателю и торговцу чаем Василию Алексеевичу Перлову, основателю фирмы «Перлов и сыновья». В 1880 году в этом поселке насчитывалось 80 дач. В каждом домике был душ и персональный туалет, на берегу реки Яузы были оборудованы купальни, два раза в неделю в поселок привозили музыкантов, в летнем театре выступали московские театральные труппы. Попасть в Перловку, по воспоминаниям современников, считалось за счастье, аренда дач оплачивалась на три года вперед, а ее стоимость была сопоставима с жильем в центре Москвы. Сейчас Перловка – район города Мытищи, застроенный высотными домами.
В 1888 году вокруг Москвы насчитывалось уже более 6000 дач, расположенных в 180 поселках, летом туда переселялись на отдых свыше сорока тысяч человек…Семьи российских дачников жили за гордом с весны до осени – в город, как правило, выбирался лишь глава семейства – на службу. Большинство дач строились наподалеку от железной дороги, путь до города занимал не более сорока минут. Электричества на дачах не было – освещали дома керосиновыми лампами, воду брали из ближайших рек. Никакой охраны не было, ставить заборы считалось дурным тоном.
В советские времена дачи стали для россиян прежде всего местом для занятий садоводством. Они усердно выращивали картофель, клубнику и огурцы, смородину и яблоки. На дачах не отдыхали – там «вкалывали». Так называемые «коллективные сады» для рабочих и служащих появились в российских городах начиная с тридцатых годов XX века. В поселке Новь Наркомат рабоче-крестьянской инспекции построил для своих сотрудников 103 фанерных домика. Жилая площадь двухкомнатной дачи равнялась 15,4 кв. метра и была рассчитана на четырех человек на кухне площадью 5 кв. метров стояла плита с железной трубой.
Разумеется, дачи распределялись и между сотрудниками партийного аппарата. На одной такой даче могло тесниться несколько человек. И тогда же высшие партийные чиновники строили себе гигантские дачи в 15–20 комнат за счет государства. Правда, это была служебная жилплощадь – если «владелец» умирал или уходил в отставку, дачу отбирали.
Во времена хрущевской оттепели развернулось массовое дачное строительство. В Советском Союзе, несмотря на освоение целины, сохранялись проблемы с продовольствием – таким образом правительство пыталось их решить. Жителям выдавались участки для ведения садоводства и строительства щитовых построек летнего типа. Классический размер дачного участка в так называемом «садоводческом товариществе» в советское время составлял шесть соток – 600 квадратных метров. Существовали строгие ограничения на размеры и архитектурные решения дачных построек, например, нельзя было возводить двухэтажные домики, сооружать подвалы. Иногда гражданам выделялись небольшие земельные участки – огороды для высадки картофеля и овощей без права строительства на них каких-либо построек.
При Брежневе регламент был несколько изменен. Уже можно было построить домик размером 25 кв. метров для проживания в теплое время года. Обычно их строили из дощатого каркаса, утепляя опилками или сухим торфом.
Дачные участки для «номенклатуры» могли составлять один гектар и больше. Одна из таких типичных номенклатурных дач была показана в фильме Михалкова «Утомленные солнцем». Секретарю ЦК Михаилу Суслову в 1953 году был выделен участок в 7 гектаров, на котором росли 400 елей, 30 кленов, и стояло двухэтажное здание площадью 2400 кв. метров.
«Стародачными» поселками москвичи называют сохранившиеся и поныне поселения советский элиты – академиков, генералитета, высшего партийного руководства, деятелей балета, театра, писателей – в лучших местах Московской области. Обычно это были деревянные, реже каменные дома со всеми удобствами, включая газовое отопление, а иногда и магистральную канализацию, расположенные зачастую на лесных участках, рядом с рекой или прудом, предоставленные дачникам за какие-либо особые заслуги.
В 1934 году властями СССР было принято решение о помощи в строительстве дачного городка для писателей на 90 дач, стоимостью 90 миллионов рублей – цифра, для того времени фантастическая. Так появился знаменитый писательский поселок Переделкино. В 1949 году дачи в Жуковке получили разработчики атомной бомбы, в конце 50-х годов – конструкторы космических ракет. Наиболее известные стародачные поселки: Барвиха, Валентиновка, Кратово, Малаховка, Заветы Ильича, Жаворонки, Снегири, Баковка, Николина Гора. С конца столетия стародачные поселки активно перестраиваются новыми хозяевами, обычно не имеющими никакого отношения к прежним обитателям тех мест. При этом цена на дома в стародачных поселках очень высока.
В 90-е года в России начался свободный оборот земельных участков «для индивидуального жилищного строительства», под дачи выделялись пустыри на окраинах деревень и бывшие колхозные поля. Однако на этих землях стали строить не только дома для постоянного проживания, но и дачи. Стоимость таких участков, особенно вблизи Москвы и Санкт-Петербурга, год от года повышалась. Средняя цена сотки земли в подмосковном Рублево-Успенском шоссе в 2007 году составляла 45 тысяч долларов. Появилось много богатых людей, которые непременно хотели построить свои элитные дома в природно-исторических парках и заповедниках, или лучших пахотных землях. Многие громкие скандалы последнего десятилетия связаны именно с подобным строительством.
Дача… Перед глазами – июль, в машине или дачном автобусе пахнет клубникой, ягоды красные, сочные. На даче – мансарда, скрипучая кровать, оранжевое одеяло, плющ за окном и пластиковый стаканчик на пыльном древнем письменном столе. Не люблю позднюю осень. На улицах дачного поселка ветрено, холодно, черные балконы, многие уехали, заколотив окна и двери. Постоянно моросящий дождь…
Иностранцы всегда поражались русско-советскому явлению – даче. Несомненно, дача – такая же национальная особенность русских, как водка, баня, балет и медведи. Дачные традиции в России вообще крепки. В словаре Даля слово «дача» упоминается в статье «давать» – давать участки земли с крестьянами. Давал сюзерен, то есть царь, своим вассалам в качестве платы за верную службу.
Для русских дача – какое-то хитрое удовольствие. Как можно столь долго находиться в неестественных для прямоходящего существа позах? А очень даже! Вскопал сотку-другую, разогнул со скрипом спину, оглядел проделанную работу с удовлетворением, прищурился на солнышко, потянулся сладко: хорошо! А этот миф о здоровом образе жизни? Да у дачников профессиональных заболеваний не меньше, чем у шахтеров! А дачный загар? А прополка – смерть маникюру? А вечные вопросы: обокрали – не обокрали, вымерзло – не вымерзло? Наверное, дача – это одно из проявлений стоицизма русского характера. Сами себе создаем трудности, и сами успешно их преодолеваем. Дались нам эти томаты в стране вечнозеленых помидоров! К тому же на рынке привозные в сезон стоят дешевле. Но свои же – вкуснее! Дача – это национальный спорт, которым захвачены абсолютно все: мужчины и женщины, городские и селяне, богатые и бедные. Конечно, дело не только в желании набить погреб соленьями-вареньями. Корни значительно глубже. Испокон веков Россия была аграрной страной. Урбанизация. Индустриализация. Коллективизация. Огромные массы населения были сдернуты с привычных мест и загнанны в каменные мешки. Быть может, именно потомки выселенных на север кулаков пытаются выращивать морковку на вечной мерзлоте. И все чаще звучит идея возвращения к поместной России. Для советского человека, жившего при тоталитарном режиме, под неусыпным оком большого брата, дача была единственным островком частной собственности и частной жизни, местом, где он мог реализовать свою хозяйскую и творческую жилку, проявить индивидуальность. Причудливые цветники и небывалые урожаи становились способом самовыражения. А сама дача – местом, территорией, пространством для внутренней эмиграции. На дачи сбегали от занудства жен и алкоголизма мужей, на дачах укрывались от идеологического вранья, проблем на работе и бытовой неустроенности. Пусть свобода ограничена забором по периметру шести соток, все равно ее здесь было больше, чем в квартирах, кабинетах, цехах. «Земля зовет», – говорит мой сосед по подъезду. И пожилой, тяжело больной человек поздней осенью едет за город обвязывать молоденькие деревца, «чтоб зайцы не погрызли». Ну, хорошо, он дачник с полувековым стажем. Но когда дачи покупают молодые…
– Я согласен, Андрей, что только русский человек из-за дачи может плюнуть на все: на бытовую неустроенность, низкую заработную плату, безработицу. И вместо того, чтобы переучиваться, переезжать, бастовать, бросать и начинать все сначала, как это сделал бы его собрат в любой другой стране, – терпеливо ждет конца весны, чтобы махнуть на дачу. Только русский человек, вдруг разбогатев, может вложить все свои деньги в трехэтажный, мрачный и огромный каменный дом за городом. И это – сразу после щитовой «бытовки», минуя все промежуточные стадии.
Дача – это явный национальный фетиш. Это огороженная территория, на которой нет никаких общих правил, никаких законов, никакого государства. За это мы ее и любим, черт побери. Устойчивый образ жизни, а не ракеты, не космос, не господство в мировом океане, даже не количество нобелевских лауреатов и книг на душу населения – это и есть сила нации. Сила не внешняя, а внутренняя. Никак не выявленная, никем не обозначенная. Именно она, эта сила привычки и образа жизни, позволяет существовать стране в сегодняшних условиях.
Никто не знает, что бы могло произойти, если бы не такой фактор стабильности, как наша русская дача. Она за последнее столетие заменила собой лапти, гармошку, балалайку, даже не знаю что еще. Песни и пляски. Битье морды. Баню, блины, водку, икру, катание на тройках, как это ни кощунственно звучит. Дача стала главным резервуаром национального духа. Именно наша, смешная и покосившаяся, требующая вечного ремонта, абсолютно бескомфортная, не пригодная для холодного времени года, наполненная старой мебелью и ненужными книжками – да еще и сосущая кровь своими грядками, поливками, препирательствами с соседями.
Именно здесь мы становимся абсолютно свободными.
Сходишь на своей станции – и точно знаешь, что документы здесь у тебя проверять не будут. Остаешься в одних плавках – и наплевать на чужие взгляды. Орешь во все горло – и все замечательно, никто не обижается, не раздражается, не просит немедленно прекратить.
Дача неизменна, как мироздание. Мне кажется, именно эта неизменность помогла нам перенести все катаклизмы последнего времени. Мир рушился, шатался, уплывал из-под ног, но на каком-то одном участке суши жизнь текла точно так же, как раньше. Впрочем, дача помогла и в советское время. Ровно в шесть население резко бросало важнейшие участки социалистического строительства и неудержимо бросалось к вокзалам. Русского человека, рвущегося на дачу, остановить не мог никто.
– Знаешь, Андрюша, что я люблю на даче? Я часто вижу, как белка рыжая скачет по сосновым веткам. Я сижу на веранде бани и, прищурясь, смотрю на нее. И еще я люблю больше всего в природе, когда деревья расщепляют солнечные лучи. Возникают блики. Нежные блики, которые скользят по воздуху. Качаются сосны и ели, поют листочки рябины, шелестит клен. Так бы и сидел тут всегда. Так бы и не двигался. А зачем двигаться? Ведь все и так хорошо!
Сейчас дачной жизни стало намного больше. Появилось дикое количество загородных участков. За сто, сто пятьдесят, двести километров. Туда везут внезапно появившиеся в продаже стройматериалы, всякие там дизели для автономного электричества, насосы, души, спутниковые антенны… На чем везут? А на машине. Сколько же стало машин! И виновата в этом опять же дача. Она часто является решающей и последней причиной для многих, чтобы обзавестись, вопреки всем финансовым кризисам, своей «тачкой». А то и двумя. А сколько жратвы, дотоле невиданной, появилось в дачных поселках! Сколько магазинчиков, лотков, киосков! Виданное ли дело – водку на даче можно купить в любое время суток!
Не нужно нас останавливать, когда мы едем на дачу. Особенно в этом году, особенно сейчас. Дайте нам отдохнуть, дайте окрепнуть, восстановиться. Плевать нам на кризис в правительстве! Нас не интересует международная обстановка! Не хотим предвыборной компании! Нам надо на дачу!
Там наш источник бодрости. Мы будем за вас голосовать. Мы будем жить судьбами мира, но после. Дайте належаться на траве, наесться шашлыков, наловить рыбешки, настроиться, намахаться топориком, надышаться черемухой, комариным зудом, цветами, отчетливыми звуками в теплой тишине, зеленью над головой. Политики, не трогайте нас. Мы едем на дачу!
Никто в мире так не отдыхает? Ну и ладно. Мы не хотим в этом году на Канары, мы не едем зимой в Куршавель кататься на лыжах. Мы хотим дачи по полной программе! В ней наше спасение и наша надежда…
Глава седьмая
О Боге, о жизни, о сцене

Нам порой не хватало времени наговориться, слишком уж коротким был маршрут наших прогулок. Мы не хотели расставаться, поэтому заходили в небольшой ресторанчик, расположенный в цоколе дома Андрея. В такое позднее время посетителей почти не было, и мы могли говорить, не опасаясь, что нам помешают. Говорили обо всем: о жизни, об актерском мастерстве, о Боге.
– Да, вот и я дожил до того времени, когда никому ничего не нужно доказывать, – говорил Андрей. – А когда-то доказывал, старался сыграть так, чтобы стать вровень со старшими коллегами, ловил взгляды Мастера, таял от похвальных слов. Теперь доказывать некому. Молюсь перед каждым выходом на сцену, прошу дать мне сил и разума. Молитвы нестандартные, я их придумал сам, но какая разница? Если бы спросили, кому именно я молюсь, ответил бы: какой-то не очень понятной мне самому высшей силе, которая ведет меня по жизни, не дает оступиться. То, что такая сила есть – доказано наукой…
В последний год жизни Андрей часто заговаривал о смысле жизни, о Боге, которого он осторожно именовал «высшей силой» – он говорил все это абсолютно искренне, ему невозможно было не верить. Этот вопрос сильно занимал его воображение: он читал соответствующую литературу, размышлял, как мучительно размышляет его литературный герой Кирилл из повести «Наполнение луной»:
«…Больше всего в последнее время Кирилл боялся ночных звонков телефона. Звонков в темноте. Сообщений о несчастьях. Изводился этим. Мучился, даже когда и поводов к ним не предвиделось.
Возвращался домой почти всегда поздно и потому наказывал людям звонить в полночный час и далее. Знал о своем мучении, но другого выхода не видел. Эти звонки становились первыми в наступающем дне. Они выскакивали впереди новой работы и новой усталости и радости. Они первыми сообщали все и узнавали тоже первыми, при том, что весть сама по себе могла быть и запоздалой… Когда предчувствие вести становилось нестерпимым, он начинал думать о физике этих звонков, об их мистическом полете во времени…
Кто-то, кому нужен ты, из ниоткуда (ты же не можешь проверить, где он) нажал на кнопки, повернул диск… И что? Что дальше?

Электроны, волны, поля неведомых частиц – какое отношение они имеют к долетевшему голосу – звонкому и хриплому, полному любви и радости, сожаления и лести, счастья и горя?.. Голос не может не измениться, пройдя через них, соединяясь с ними невидимыми, но влиятельными…И то, что с позволения полей, волн, электронов, кнопок и металлических контактов, и даже рук телефонисток, и еще Бог знает чего, находит нас и обволакивает счастьем или обрушивается роком – все это и есть путешествие души? Душеобмен, которому безразличен способ перемещения в пространстве и который равнодушен к расстояниям, и восход-заход солнца к нему тоже не имеет никакого отношения, но он совсем не безучастен к нашей воле. Но только луна, может быть, привязанная к земле тяготением слабого к сильному, и правит нами, всегда повернутая к нам одной стороной. И мы выбираем любовь или ненависть. Мы даже имеем возможность затаить свои истинные чувства на другой стороне луны. Тот, кто смертельно равнодушен или безнадежно ленив сердцем, вообще не смотрит на небо, а если и закатывает глаза в смертельной тоске, пьяном угаре, или от нечего делать, – ничего там не видит в любое время жизни. Мы вольны положить телефонную трубку, только заслышав чей-то голос, или даже на полуслове, – тем самым тоже совершить насилие, заперев его на миг и навсегда, бросив его в полях и волнах, разрешив бессмысленное столкновение заряженных частиц… И что в этом смятении происходит с душой, с ее оборванным полетом? Что? Большую часть истины мы так никогда и не узнаем…
И еще занимало спокойствие вместилища его чувств к расстояниям – нос к носу, глаз в глаз, руки и шага, верстовых столбов и световых лет, и мигания звезд в другом тысячелетии, но только что увиденном. Восприятие этого мига и есть то самое мгновение, когда ты пребываешь в Аркадии, в той самой безмятежной стране, где ты можешь быть и не быть одновременно. То есть, все зависит от тебя самого, от желания и состояния собственно души. А Бесконечной Вселенной и нашему миру в ней на это наплевать. В конечном счете – это благо. Волнения в полях разрушительны.
Нас только кто-то заказывает во времени, и мы промахиваем его, как тот свет от звезд, который мы видим, задрав ночью голову, а на самом-то деле этих звезд на том месте давно уже нет. Свет идет долго. И звезда уже уплыла дальше в черноту, и ее свет, хотя он и быстрее звука, стремительнее крика, до нас никогда не дойдет. Хорошо, если другие увидят народившееся после нас. Но и они увидят свет, предназначенный не им, а отпущенный нам, вернее, при нас…
Говоря по телефону, мы закладываем свое время в ломбард вечности и никогда не выкупаем его. Только само время выкупает нас от случая к случаю, и мы – его заложники. По своей игре и его прихоти…»
– Андрей, ты говоришь, наукой доказано, что Бог есть… Если бы это было так, жизнь на земле пошла бы совсем по другому сценарию…
– Я сказал: высшая сила. Многие великие ученые верили в эту силу, это общеизвестно. Казалось, уж они-то знают все тайны вселенной, что откуда берется и куда исчезает. Однако чем больше они раскрывают этих тайн, тем больше верят в то, что только высшая сила, или величайший разум мог создать наш мир…
Подобные разговоры у нас бывали нечасто, мы оба понимали их наивность и какую-то юношескую незрелость. Что делать – мы не были философами. Однако нам хотелось говорить друг с другом, и даже на такие глубокие философские темы, куда забираются, «…не рискуя свернуть себе шею, только очень образованные люди…». Возможно, нам не хватало подготовки, но помогало то, что мы были похожи. Что называется – родственные души. Когда Андрею удавалось прочесть что-то такое, что его по-настоящему волновало, он обязательно делился со мной своими соображениями, искренне огорчался, если я не разделял его выводов. Но я почти всегда разделял…
Прочитав статью блестящего ученого Моррисона, бывшего президента Американской Академии наук, Андрей убедил меня, чтобы я прочел ее как можно скорее. Она называлась «Семь причин, объясняющих, почему я верую в Бога». Эта статья, а главное, выводы, которые в ней содержались, привели Андрея в какой-то детский восторг.
– Представляешь – я тоже об этом думал! Конечно, не так глубоко, не так определенно, но ведь думал! Эта статья мне вроде бы глаза промыла – сразу стало все так понятно и просто…
Я привожу эту статью полностью, потому что она потрясла и мое воображение. Заранее прошу прощения у тех читателей, кто привык укорять авторов в излишнем цитировании – эти несколько страниц можно вполне пропустить…
«… Мы все еще находимся лишь на заре научного знания. Чем ближе к рассвету, чем светлее наше утро, тем яснее перед нами вырисовывается творение разумного Создателя. Теперь, в духе научного смирения, в духе веры, основанной на знании, мы еще больше приближаемся к непоколебимой уверенности в бытии Божьем.
Лично я насчитываю семь обстоятельств, которые определяют мою веру в Бога.
1. Совершенно отчетливый математический закон доказывает, что Вселенная создана Величайшим Разумом.
Представьте себе, что вы бросаете в мешок десять монет в порядке возрастания их стоимости от одного цента до десяти. Потом вы встряхиваете мешок. Теперь попытайтесь вытащить монеты одну за другой в порядке возрастания их стоимости с тем, чтобы каждую монету положить назад и снова встряхнуть мешок. Математика говорит, что у нас есть один шанс из десяти в первый раз вытащить монету в один цент. Чтобы вытянуть одноцентовую, а за ней сразу двухцентовую монету – один шанс из ста. Чтобы вытащить таким образом подряд три монеты – один шанс из тысячи и т. д. Чтобы вытащить все десять монет в заданном порядке – один шанс из десяти миллиардов.
Те же самые математические доводы говорят, что для возникновения и развития жизни на земле необходимо такое невероятное число взаимоотношений и взаимосвязей, что без разумного направления, просто случайно, они возникнуть никак бы не могли.
Скорость вращения Земли у ее поверхности определяется в тысячу миль в час. Если бы наша планета вращалась со скоростью сто миль в час, дни и ночи стали бы в десять раз длиннее. В течение долгого дня Солнце выжигало бы все живое, в течение долгой ночи все живое вымерзло бы.
Далее: температура Солнца равняется 12 000 градусов Р. Земля удалена от Солнца ровно настолько, насколько необходимо, чтобы «вечный огонь» надлежащим образом обогревал нас – ни больше, ни меньше! Если бы Солнце давало наполовину меньше тепла, мы бы замерзли. Если бы оно давало тепла вдвое больше – погибли бы от жары.
Наклон земной оси равен 23 градуса. Отсюда возникают времена года. Если бы наклон Земли был иным, испарения океана двигались бы вперед и назад, на юг и на север, нагромождая целые континенты льда. Если бы Луна, вместо нынешнего расстояния, была удалена от нас на 50 000 миль, наши приливы и отливы приняли бы столь грандиозные масштабы, что все континенты оказывались бы под водой два раза в сутки! В результате вскоре были бы смыты даже горы. Если бы земная кора была толще, чем сейчас, на поверхности не было бы достаточно кислорода, и все живое было бы обречено на гибель. Если бы океан был глубже, углекислота поглотила бы весь кислород, и все живое опять-таки погибло бы. Если бы атмосфера, окутывающая земной шар, была немного тоньше, то метеориты, миллионы которых сгорают в ней ежедневно, падали бы на Землю в целом виде и повсюду вызывали бы неисчислимые пожары.
Эти и бесчисленно, множество других примеров свидетельствуют, что для случайного возникновения жизни на Земле нет и одного шанса из множества миллионов.
Богатство источников, из которых жизнь черпает силы для выполнения своей задачи, само по себе является доказательством наличия самодовлеющего и всесильного Разума.
Ни один человек не был до сих пор в состоянии постичь, что такое жизнь. Она не имеет ни веса, ни размеров, но располагает подлинной силой. Прорастающий корень может разрушить скалу. Жизнь победила воду, сушу и воздух, овладела их элементами, заставив их растворить и преобразовать составляющие их комбинации.
Жизнь – скульптор, дающий форму всему живому, художник, выточивший форму каждого листа на дереве, определяющий цвет каждого цветка. Жизнь – музыкант, научивший птиц петь песни любви, а насекомых издавать неисчислимое количество звуков и призывать ими друг друга. Жизнь – тончайший химик, дающий вкус плодам, запах цветам, химик. претворяющий воду и углекислоту в сахар и древесину и получающий при этом кислород, необходимый для всего живущего.
Вот перед нами капля протоплазмы, почти невидимая капля, прозрачная, похожая на желе, способная двигаться и извлекать энергию из Солнца. Эта клетка, эта прозрачная доля пылинки, является зародышем жизни и имеет в себе силу сообщать жизнь крупному и малому. Сила этой капли, этой пылинки, больше, чем сила нашего существования, чем сила животных и людей, ибо она – основа всего живущего. Не природа создала жизнь. Скалы, расщепленные огнем, и пресноводные моря не в состоянии были бы отвечать тем требованиям, которые предъявляет жизнь для своего возникновения. Кто же вложил жизнь в эту пылинку протоплазмы?
3. Разум животных неоспоримо свидетельствует о мудром Творце, внушившем инстинкт существам, которые без него были бы совершенно беспомощными тварями.
Лосось проводит свой молодой возраст в море, затем возвращается в родную реку и идет именно по той стороне, где была икра, из которой он вывелся. Что же ведет его с такой точностью? Если поместить лосося в иную среду, он немедленно почувствует, что сбился с курса, и будет пробиваться к главному потоку, а затем пойдет против течения и исполнит предназначенное судьбой с положенной точностью.
Еще большая тайна сокрыта в поведении угрей. Эти поразительные существа в зрелом возрасте покидают свои пруды, реки и озера, даже если они находятся в Европе, преодолевают тысячи миль в океане, чтобы достичь морских глубин у Бермудских островов. Там угри совершают акт размножения и умирают. Маленькие угри, которые, казалось бы, не имеют ни малейшего понятия ни о чем и которые могли бы затеряться в океанских глубинах, направляются по пути предков к рекам, прудам и озерам, откуда те начали свой путь к Бермудским островам. В Европе ни разу не был пойман угорь, который принадлежит к американским видам, и точно так же в Америке ни разу не был пойман европейский угорь. Европейский угорь достигает зрелости на год позднее, благодаря чему он может совершать свое более длительное путешествие. Где же рождается этот направляющий импульс?
Оса, поборов кузнечика, поражает его в определенное место. От этого удара кузнечик «умирает». Он теряет сознание, но продолжает жить, представляя собой кусочек консервированного мяса. После этого оса откладывает свои личинки с тем расчетом, чтобы малыши обгладывали кузнечика, не убивая его. Мясо убитого насекомого было бы для них смертельной пищей. Совершив эту работу, мать-оса улетает и умирает. Она никогда не видит своих детенышей. Не подлежит ни малейшему сомнению, что каждая оса проделывает эту работу первый раз в жизни, без всякого обучения, и делает это именно так, как нужно, иначе откуда бы взялись осы? Эта мистическая техника не может быть объяснена тем, что осы учатся одна у другой. Она заложена у них в плоти и крови.
4. Человек располагает большим, чем животный инстинкт. Он обладает рассудком. Не было и нет такого животного, которое способно было бы считать до десяти. Ни одно из них не может понять и сути цифры «десять». Если инстинкт можно сравнить с одной нотой флейты, со звуком прекрасным, но ограниченным, то человеческий разум способен к восприятию всех нот не только одной флейты, но и других инструментов оркестра. Стоит ли говорить еще об одном преимуществе? Благодаря нашему разуму мы в состоянии рассуждать о том, кто мы такие. Способность эта определяется только тем, что в нас заложена искра разума Вселенной.
5. Чудо генов – явление, которое мы знаем, но которое не было известно Чарльзу Дарвину, свидетельствует, что обо всем живущем была проявлена забота.
Гены так невероятно малы, что если бы все гены, благодаря которым живут люди на земном шаре, собрать воедино, их можно было бы уместить в наперсток. Причем наперсток не наполнился бы! И. тем не менее, эти ультрамикроскопические гены и соответствующие им хромосомы имеются во всех клетках всего живого и являются абсолютным ключом к объяснению всех признаков человека, животного и растения. Наперсток! В нем могут уместиться все индивидуальные признаки нескольких миллиардов человеческих существ. И в этом не может быть сомнений! Если это так, то как же получается, что ген имеет в себе даже ключ к психологии каждого отдельного существа, умещая все в таком малом объеме?
Вот где начинается эволюция! В единице, являющейся хранительницей и носительницей генов. И тот факт, что несколько миллионов атомов, включенных в микроскопический ген, могут оказаться абсолютным ключом, направляющим жизнь на Земле, является свидетельством, доказывающим, что обо всем живом проявлена забота, что кто-то все заранее предусмотрел и что это исходит от Творческого Разума. Никакая иная гипотеза не может помочь разгадать эту загадку бытия.
6. Наблюдая за «экономикой» природы, мы вынуждены признать, что только предельно совершенный Разум может предусмотреть все соотношения, возникающие в столь сложном хозяйстве.
Много лет тому назад в Австралии в качестве живой изгороди были посажены завезенные туда некоторые виды кактусов. За неимением там враждебных ему насекомых кактус размножился в таком невероятном количестве, что люди стали искать средства борьбы с ним. А кактус продолжал распространяться. Дошло до того, что площадь, которую он занял, оказалась больше территории Англии. Кактус стал вытеснять людей из городов и сел и разрушать фермы. Энтомологи обыскали весь мир, чтобы найти средство борьбы с этим растением. Наконец им удалось выявить насекомое, которое питалось исключительно кактусом. Оно легко размножалось, и у него не было врагов в Австралии. Вскоре это насекомое победило кактус. Растение отступило. Количество его представителей уменьшилось. Тогда сократилось и количество насекомых, поедавших кактус. Их осталось лишь столько, сколько нужно было, чтобы постоянно держать под контролем растение, склонное к быстрому размножению.
И такого рода контролирующие взаимосвязи наблюдаются повсюду. Почему насекомые, которые неимоверно быстро размножаются, не подавили все живое? Потому что они дышат не легкими, а трахеями. Трахеи насекомого не увеличиваются в процессе его роста. Поэтому никогда не было и не могло быть слишком больших насекомых. Это несоответствие сдерживало их рост. Если бы не было такого физического контроля, человек не смог бы существовать на Земле. Представьте себе шмеля величиной со льва!
7. Тот факт, что человек в состоянии воспринять идею бытия Бога, сам по себе является достаточным свидетельство Его бытия.
Концепция Бога возникает как следствие таинственной способности человека, которую мы называем воображением. Только при помощи этой силы человек (и никакое другое существо на Земле) способен находить подтверждение вещам абстрактным. Широта, которую открывает эта способность, необъятна. В самом деле, благодаря совершенному воображению человека возникает возможность духовной реальности, и человек может со всей очевидностью установить великую истину, что небо находится повсюду и во всем, ту истину, что Бог живет везде и во всем, что он живет в наших сердцах…»
Я был воспитан в духе атеизма, меня не крестили, в селе не было церкви. Единственное кирпичное здание церкви после революции местные мужики растащили по кирпичику. Лишний повод говорить о твердости веры в умах людей. Я, как и все мои ровесники, был принят в пионеры, в мою пору ступени – октябрьской – не было, потом вступил в комсомол. И все это время огромный пресс антирелигиозной информации от любимых учителей, наверное, они в это верили, не думаю, что под страхом работали с нами. Я помню своих учителей, это были достойные люди: умные, гордые, красивые, и мне казалось – независимые.