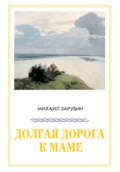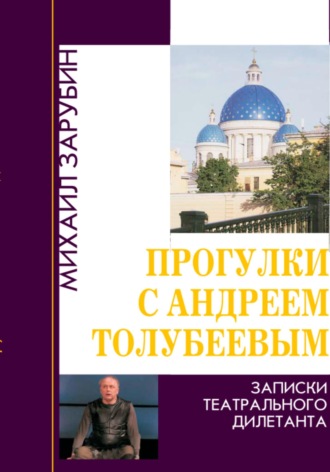
Михаил Константинович Зарубин
Прогулки с Андреем Толубеевым. Записки театрального дилетанта
Глава шестая
Одноэтажная Россия

Мы редко говорили с Толубеевым о моих профессиональных делах и интересах, в основном наши беседы касались театра, литературы, истории. Но в тот раз Андрей заговорил о строительстве.
– Недавно я был в гостях у приятелей, в загородном доме. Это даже не дом – настоящая барская усадьба. На участке сосны и ели, отдельно построена банька в русском стиле, гараж для машины. А сам дом – сказка! Во-первых, он большой, всем хватает места, во-вторых – уютный, в таком доме хочется жить и никогда не умирать. Как мне хочется, чтобы у меня был такой дом, а в нем – свой собственный угол с кабинетом, где я мог бы писать и думать… Ты же строитель, Константиныч, скажи – когда мы начнем строить дома для людей?
– А сейчас мы для кого строим?
– Для людей, конечно, только очень богатых…
– Я и сам постоянно думаю об этом, даже собираюсь написать на эту тему небольшую книжку, и назвать ее «Одноэтажная Россия»…
– С удовольствием прочитал бы ее, Константиныч. Но, пока книжки нет, просвети меня по этому вопросу, так сказать, устно…
Я рассказывал Андрею о современных проблемах жилищного строительства в России, и чувствовал, что ему это интересно. Ничто так не вдохновляет рассказчика, как внимательный и заинтересованный слушатель. Чтобы мой собеседник не скучал, я старался приводить примеры из своего собственного опыта, рассказывал о положении строительных дел в Европе и Америке…

Мне пришлось начать с того, что российский строительный комплекс, как это ни печально, лежит в руинах, и кто вытащит его из этого состояния – один бог ведает. Москвы и Санкт-Петербурга это, разумеется, не касается. Дело в том, что советское жилищное строительство было бюджетным, привязывалось к градообразующим предприятиям. Системы жизнеобеспечения городов и поселков были чрезвычайно затратными. Сейчас все это хозяйство приходит в упадок, многоэтажные дома и целые города переходят в разряд ветхих и аварийных, что усугубляет проблему. В городах строятся в основном кирпичные и монолитные дома для богатых – «штучные», как их принято называть. Жилье это очень дорогое, но часто сомнительного качества, оно привязано к старым, отслужившим свой век коммуникациям. В результате в «элитном» жилье может, например, месяцами не быть горячей воды. Инженерные сети изношены до предела – о каком же массовом строительстве может идти речь?
Упадок многоэтажного строительства отчасти компенсируется ростом индивидуального строительства малоэтажных семейных домов. Но только отчасти. Этот процесс развивается стихийно, без внимания и поддержки государства, и идет по двум направлениям: как жилье для очень богатых – коттеджи, и для сравнительно бедных – самострой сельского типа на окраинах городов. Именно этот самострой и есть на сегодняшний день «доступное жилье». Такие дома могут быть привязаны к централизованным сетям, а могут быть и автономными, очень экономичными в эксплуатации. Грубо говоря: вместо водопровода – колодец, вместо канализации – выгребная яма… Такой жилой дом с земельным участком в любом случае является полноценной собственностью, в отличие от приватизированной квартиры в муниципальном доме.
Андрея прежде всего интересовал вопрос: строятся ли в нашем царстве-государстве индивидуальные дома для людей – сравнительно недорогие и потому доступные.
– К сожалению, нет. Люди со средними доходами не в состоянии оплатить современный односемейный дом. Они вынуждены покупать старое квартирное жилье, пережившее свой срок, на вторичном рынке. Они же и вкладывают свои сбережения в строительство домов на садовых участках. Дома эти могут быть вполне качественными, но полноценным жильем все равно не являются – для постоянного проживания не хватает инфраструктуры: дорог, магазинов, больниц, школ и т. д.
– Ну, это мне очень знакомо, – засмеялся Андрей, – зимой к моей даче ни пройти, ни проехать. Только летом можно пожить, а лето короткое…
Наши власти любят ссылаться на опыт западных стран, в основном Америки. Но не любят упоминать о том (а российские специалисты хорошо это знают!), что в США восемьдесят процентов граждан живут в односемейных домах с приусадебными участками. То же и в Англии. На рубеже 19–20 веков в Англии возникла идея города-сада, как альтернатива традиционному западноевропейскому городу, к тому времени быстро перерождавшемуся в промышленный мегаполис.
В 20 веке эта идея получила громадное распространение на Западе. Один по-настоящему умный американец, Билл Левитт, создал альтернативу тому, что у нас называют «хрущобами» – дешевыми многоквартирными домами для простонародья. Вместо маленьких квартир в США было начато строительство дешевых односемейных домов с участками. Стандартный дом для американца 20 века из «нижнего среднего» класса: семьдесят четыре квадратных метра, четыре яблони, холодильник и телевизор, с рассрочкой платежа на двадцать-тридцать лет под десять процентов годовых. Сейчас этим домам уже более полувека.
Разумеется, американский дом гораздо дешевле русского по природно-климатическим условиям. Дом системы Левитта строился без фундамента, с тонкими стенами – в нем тепло, грунт не промерзает и не раскисает. Но и у нас на Руси был Лубяной торг – массовое деревянное срубовое жилье, которое продавалось готовым к сборке, а собиралось очень быстро. Из таких «полуфабрикатов» при Иване Грозном был выстроен город Свияжск.
И сейчас у нас строительство дома из бруса «под ключ» обойдется чуть ли не на порядок дешевле, чем покупка квартиры. Нужна только политическая воля, чтобы остановить рост крупных городов и наделить всех желающих, или хотя бы молодоженов, участком под односемейных дом. Разве это не национальная идея, в поисках которой сбились с ног наши политики и социологи? Заодно и расходов станет поменьше. И отношение к браку будет более ответственным, особенно у мужчин: ведь семейная жизнь начинается с общего дела – строительства семейного дома, а ничто так не сближает, как совместная ответственная деятельность.
– А почему же только для вступающих в брак? А как же быть с остальными?
– Ну, надо ведь с чего-то начинать. Я лично убежден, что такие участки нужны всем, кто хочет взять землю и способен ее оплатить. Билл Левитт утверждал, что «если у человека есть свой дом и участок земли, то он никогда не станет коммунистом – ему и без того есть чем заняться…»
Это был человек с вполне обычной для американца биографией. Его отец, нью-йоркский адвокат Абрахам Левитт, владел небольшой строительной фирмой и остро нуждался в помощниках. Он убедил своего сына, двадцатилетнего Билла, бросить университет и поступить в фирму отца.
Однако есть и другая версия – Билл просто не хотел учиться. В интервью американской газете он признался, что с раннего возраста хотел разбогатеть. «Я просто не знал покоя, – говорил Билл. – Очень уж мне хотелось иметь большой автомобиль и роскошно одеваться.

В конце двадцатых годов США находились на вершине экономического подъема. Ценные бумаги постоянно росли, и Билл вознамерился стать финансовым брокером – этот путь в богачи казался ему наиболее коротким. К счастью, этой мечте не суждено было осуществиться – финансовый рынок Америки вскоре рухнул, и биржевые спекулянты один за другим стали терять работу, деньги и перспективы. В свои двадцать два года Билл уже возглавлял небольшую строительную компанию. Отец обеспечил сыну начальный капитал и скромно отошел в сторонку. В обязанности Билла входили менеджмент, финансы и реклама. Младший брат Альфред проектировал дома; впоследствии он жаловался, что вся слава досталась старшему брату.
Первый городок «левитттаун» – так сразу же окрестили его американцы – появился в конце сороковых годов неподалеку от Нью-Йорка. Но еще до этого события у семьи был опыт подобного строительства: во время второй мировой войны они построили 750 домов для офицеров в штате Вирджиния – и уже тогда была применена конвейерная сборка жилья.
Билл стал одним из тех, благодаря кому «американская мечта» стала реальностью для миллионов жителей США и возникла так называемая «одноэтажная Америка». Он поставил каркасное домостроение на промышленную основу, привлек в помощь правительство страны и убедил миллионы американцев, что жить за городом в собственном доме намного лучше, чем в тесной городской квартире.
В конце шестидесятых он стал одним из богатейших людей Америки. В 1968 году он неудачно продал свою компанию, потом попытался внедрить свой опыт в других странах, и тоже неудачно. Долги его росли, пришлось продать огромный особняк, роскошную океанскую яхту «Ла белла Симона», названную так в честь своей третьей жены, а также ее бриллианты, парк автомобилей и т. д. Он не стал, конечно, нищим, и вовсе не считал себя неудачником, наоборот, говорил: «Еще чуть-чуть, и я снова буду на плаву…»
Умер Билл в возрасте восьмидесяти шести лет. Он не сумел возродить свою строительную империю, однако главную задачу своей жизни выполнил. Его по праву называли «создателем американского пригорода», «строителем мечты». Он и в самом деле был немножко мечтателем, признавался, что хотел славы, что хотел построить такой город, которым можно было бы гордиться.
В современных высокоразвитых странах в многоэтажных многоквартирных домах живут или самые богатые, или самые бедные. Самые богатые имеют дорогущие квартиры в центре города, там, где особняк с садиком может иметь разве что Ротшильд. Но они, как правило, имеют и второй дом в пригороде – то, что у нас называют «дачей». Самые бедные арабы и «афрофранцузы» во Франции, турки в Германии живут в дешевых многоэтажках на окраинах, рядом с промзоной. Эти дома чаще не лучше наших «хрущоб», а то и хуже – душ вместо ванны, ниша с плитой вместо кухни.
Весь средний класс живет в односемейных жилищах: «верхний» и базовый средний класс – в пригородных коттеджах, обычно двухэтажных, с небольшим участком земли, «нижний» средний класс – в секционных «таунхаузах», сблокированных домах с палисадниками. А вот второй загородный дом, подобный нашей «даче», на Западе – большая редкость. Да он и не нужен, когда большинство населения живет в односемейных домах с участками.
Коттедж – это односемейный небольшой благоустроенный дом в пригороде или в рабочем поселке. Таунхауз – это буквально «городской дом», то есть такой, какими были дома в средневековой Европе: узкий дом в два-четыре этажа, принадлежащий одной семье и зажатый соседними домами, образующими с ним общую красную линию – «единую фасаду».
В современной Европе нормальный размер домовладения, в котором стоит коттедж – четыре сотки, столько же, как в средневековом Новгороде. Если участок меньше, то отдельно стоящий дом не имеет смысла – вдоль дома остаются лишь узкие проходы. При небольшом участке сблокированный дом выгоднее – остается место для палисадника перед домом и садика сзади. Часть первого этажа сблокированного дома со стороны улицы всегда занимает гараж.
В цивилизации односемейных домов автоматически решается проблема гаражей: если у нас все дворы забиты «ракушками», то в коттедже или таунхаузе гараж может занимать половину нижнего этажа. Остальную половину занимают прихожая с гостиной и гостевым санузлом, а жилые комнаты с ванными расположены на верхних уровнях. Иногда гараж делается заглубленным, в полуподвале или подвале, но для нас это мало приемлемо: обильные снегопады завалят въезд в заглубленный гараж, и его каждое утро придется откапывать несколько часов, а потоки воды от «мокрого» снега заливают его. Я насмотрелся на эти картинки.
Кроме того, существуют автономные системы водоснабжения и канализации, по стоимости не превышающие недорогой автомобиль и способные работать при наличии электричества, а при необходимости – и без него. Да и электричество можно получать от собственного «движка», а еще лучше – от ветряка или малой ГЭС, и такой «альтернативной энергетики» становится все больше.
В Финляндии примерно тридцать процентов населения живет в собственных домах, двадцать процентов – в городских квартирах, а около половины финнов – в домах секционных, среди сосен. При том, что Финляндия – довольно бедная ресурсами страна. Просто это часть Российской империи, не пережившая революции и избежавшая коммунистической власти. Разница между Финляндией и бывшим СССР примерно такая же, как между Северной и Южной Кореей. Если бы в марте 1917 года в России не устроили бы государственный переворот, именуемый «февральской революцией», то русские жили бы сейчас, как в сегодняшней Финляндии и в древней Руси – в собственных домах среди сосен.
Одноэтажная Америка считает себя «первой в мире страной пригородного типа». Это неправда. Русские и другие народы восточно-христианского этноса, были странами «пригородного типа», то есть жили в городах, застроенных односемейными домами с приусадебными участками. Задолго до Америки.
Старинный русский город – это мечты о городе-саде, здоровой и человечной среде обитания, «стране пригородного типа». Этот тип поселения до сих пор сохранился у нас в провинциальных городах с односемейной усадебной застройкой, его фрагменты уцелели даже в Москве. И сейчас, в двадцать первом веке, усадьба, где умер Гоголь, окруженная мегаполисом, захлебывающимся от транспорта, смотрится как сельская усадьба. До начала двадцатого века такие усадьбы были нормой. Московский дворик на картине Поленова – совершенно деревенский, заросший травой – находился на Арбате, сейчас здесь резиденция посла США в Москве.
До 1917 года русский народ даже в городах продолжал жить в традиционной среде обитания, в ландшафте, соответствующем укладу жизни русских. Поэтому мы были не только быстроразвивающейся страной, с высокими темпами экономического роста, но и страной с быстро растущим населением.
Стыдно признать, что современный американский город, а тем более европейский, гораздо больше похожи на соразмерный человеку традиционный русский город, чем город советский.

Предел этажности для жилого дома по законам зрительного восприятия – восемь, девять этажей. Нормы этажности «сталинских» домов – восемь, двенадцать этажей. Хрущевская норма – пять, девять этажей, брежневская – девять, шестнадцать этажей, позднебрежневская – шестнадцать, двадцать два. Сейчас нормой стало двадцать пять и выше этажей. Но и двенадцатиэтажный дом – за гранью нормального. Выше жить вообще вредно из-за вибраций, ведь дом раскачивается. Да, да, чуть, но раскачивается. Вредно и вследствие огромного расстояния до земли. Мы не осознаем, что нам неуютно смотреть в окно, что на верхних этажах мы живем в состоянии непрерывного стресса. Малышам это просто уродует нервную систему. Тем более, когда из окон виден не прекрасный пейзаж, как в горах, а лишь бесконечные многоэтажные коробки, монотонного, как при Хрущеве и Брежневе, или агрессивного, как сейчас, облика. Из окна человек должен видеть небо, а не бездушные, бездарные строения.
Особенно отвратительны виды в современных «дворах» – замкнутое пространство высотой в шестнадцать, а то и в двадцать два этажа. В квартирах, выходящих в такой «двор» человек подсознательно старается отвернуться от окна.
Около двадцати лет назад английские биологи провели эксперимент на довольно мироволюбивых черных крысах. Их поместили в необычайно плотную среду, разделенную на клетушки, подобные современным квартирам – «хрущобам» и «лужковкам». Пищи, воды, света, воздуха вполне хватало, но крысы сошли с ума, у них началась эпидемия небывалой агрессии: они убивали друг друга и даже насиловали, чего вообще не бывает в животном мире.
У людей хронический стресс, нервное истощение – одна из главных причин всевозможных заболеваний, роста преступности, самоубийств, не говоря уже о неурядицах в личной жизни. Мы, конечно, не крысы, но и мы вынуждены напрягать волю и разум, дабы не обижать соседей, живущих рядом с нами.
В Великобритании я проходил учебный курс в Манчестерском университете. Однажды нас привели на площадку, где шло строительство аккуратных трехэтажных таунхаузов на месте семиэтажных многоквартирных домов. Нет, не ветхих, не аварийных, по нашим понятиям вполне достойных для проживания и конструктивно способных пережить не одно десятилетие. На наш вопрос, что заставило разобрать крепкие кирпичные дома, мы получили ответ, который для нас прозвучал, как блажь, как выдумка чиновников, не знающих, куда потратить деньги налогоплательщиков. Дома, которые разрушали на наших глазах, были построены сразу после войны, чтобы дать людям крышу под головой. Но последние десять лет показали, что наибольший процент суицида – среди живущих в подобных домах. И власти приняли решение: несмотря на колоссальные затраты, снести их, и расселить жителей.
При советской власти многоквартирные дома старались строить даже в небольших городах. Несчастный Нефтегорск, погибший от землетрясения, был застроен пятиэтажками. Там погибли две из трех тысяч жителей; если бы они жили в односемейных усадьбах, жертв было бы в сто раз меньше. При Хрущеве даже в деревнях пытались строить пятиэтажки с постоянно выходившими из строя «удобствами» взамен усадеб со скотиной. В зоне БАМа вместо односемейных домов с участками-огородами людей годами заставляли жить в вагончиках и бараках, обещая в перспективе построить многоэтажные, хотя это и дорого, и жить неудобно. В Переяславле-Залесском – очень небольшом городе – и сейчас строят многоквартирные дома. В современной Москве для людей, выселяемых из «хрущоб», собираются строить «лужковки», воспроизводящие заграничные дома для гастарбайтеров, то есть дома гостиничного типа, которые в нормальных странах предназначены только для временного проживания: в квартире нет кухни – только плита в нише жилой комнаты, в совмещенном туалете – душ вместо ванны. Теснее бывает только в гробу.
Кроме несчастной России, существует только одна страна в мире, ведущая массовую многоэтажную застройку – Япония. Да еще крохотный Сингапур. Но японцев можно понять: их сто тридцать миллионов, а для жизни – только маленькие острова и скалы. У нас места куда больше, чем у голландцев, датчан и немцев, вместе взятых, но мы предпочитаем мучиться в многоэтажных норах.
– Выводы моей лекции, Андрей, таковы: я за малоэтажную Россию. Нужно использовать под индивидуальную застройку пригородную землю, примыкающую к автомобильным и железным дорогам. Перестать метаться между квартирой, гаражом, дачей, а сосредоточить все это в одной просторной усадьбе. Но чтобы это случилось, осталась сущая ерунда – одолеть бюрократические препоны. У нас ведь и землю можно иметь в собственности, а разрешение на стройку не получить.
– Ну, Михаил Константинович, я ведь тоже не противник одноэтажной России. Я вижу, что большинство наших крупных городов давно приблизилось к черте, именуемой «пределы роста», а мегаполисы – перешагнули ее. Уплотненная выше норм застройка, острые транспортные проблемы, дефицит жизнеобеспечивающих мощностей, учащающиеся аварии и техногенные катастрофы, загрязнение воздушного и водного бассейнов сделали городскую среду уязвимой, малопригодной и даже опасной для жизни. Дальнейшее разрастание крупных городов неизбежно загонит эти проблемы в окончательный тупик. Между тем, концентрация основных объемов жилищного строительства в крупных городах вызывает дальнейший отток работоспособного населения из провинции, и тем обрекает ее на окончательную стагнацию. Даже мне, не специалисту, ясно, что остановить этот процесс может интенсивная застройка провинции на основе региональных схем производственного и социального развития и расселения. Этого же требует проблема неосвоенности наших бескрайних благоприятных для жизни территорий. Совершенно очевидно, что основным типом жилища в застройке Провинции был и остается наш традиционный, проверенный временем индивидуальный дом с земельным участком. Не только в сельской местности, где он будет единственным, но также в поселках, малых городах, пригородных зонах средних и крупных городов.
Все мне это понятно, но почему это не делается, вернее не принимает массовый характер у нас в стране, где земли хватает на всех.
– Андрей, замечательная не первый взгляд идея оказывается не такой уж эффективной в исполнении.
– Почему?
– Затраты колоссальные. Согласно исследованиям лишь четверть граждан, не возражающих против проживания в пригороде, готовы строить дом самостоятельно. Остальные мечтают поселиться только при условии построенного и благоустроенного дома. Условий же для быстрого строительства индивидуальных домов попросту нет. И дело вовсе не в недостатке земельных участков, а в том, что не развита инженерная и коммунальная инфраструктура.
– Константиныч, скажи как-нибудь попроще.
– Извини. Проще – это электричество, тепло, канализация, связь, газ, водоснабжение, дороги, больницы, магазины, школы и еще многое, что окружает тебя в городе. Строить эти сооружения должны, как правило, региональные власти, у нас это Ленинградская область. Зачастую сельский муниципалитет не хочет развивать строительство индивидуального жилья на своей территории, у него много других забот, а денег нет, ну а то, что соседний город нуждается в пригородном жилье – ему все равно.
– Тебя послушать, не видать мне своего дома за городом никогда, кроме дачи, естественно.
– Если деньги есть, то увидишь.
– Деньги, если бы они были, всегда кстати. Константиныч, открой по дружбе «коммерческую тайну», скажи, что у нас жилье-то так дорожает? Я вдруг обнаружил, что однокомнатная квартира уже по цене двухкомнатной, какой та была совсем недавно. И ходят слухи, что наращивают цены, нагнетая ажиотаж, сами строители. Сговор тут, видимо, есть. И такую версию высказывают вполне солидные, знающие люди. Дело дошло до того, что Антимонопольный комитет грозится учинить по этому поводу проверку.

– Ты знаешь, Андрей, проверка насчет сговора действительно состоялась. Признаков его высокая комиссия не обнаружила. Но самое интересное в этой истории, что даже государственные люди не знали тогда или делали вид, что не знали, реальных причин «сумасшедшего», как его называли, роста цен в жилищном строительстве. А на бытовом уровне и сейчас мало кто, по моим наблюдениям, о таких причинах догадывается. Во всяком случае, печать и телевидение просвещением по этой части не увлекается, мягко говоря.
Сговор – это, конечно, фантастика. Сохранить его в тайне, если такие намерения даже появились, вряд ли удалось бы. Не, говоря уже о том, что отрасль, если и монополизирована, то не настолько все же, чтобы в полном составе в таком сговоре участвовать. Вообще искусственные цены, как завышенные, так и заниженные, могут приносить выгоду лишь недолгое время и только некоторым участникам рынка, для которых на какое-то время сложились подходящие обстоятельства. Остальные же, сталкиваясь с такой недобросовестной конкуренцией, несут только убытки. Потому и существуют с конца позапрошлого века антитрестовские законы, которые не позволяют предпринимательской самостоятельности обращать честную конкуренцию в способ сживать соперников со свету, и тем самым разрушать нормальный рынок.
Какие бы нам во времена «светлого прошлого» страшилки капитализма не рассказывали, но эгоизм – бранное слово и там, где превыше всего свобода личности и частной инициативы. Больше того, эта свобода на том и стоит, что свободолюбивые граждане обязуются чтить гарантированное законами непреложное правило: твоя свобода не должна мешать свободе других. Таков главный общественный договор, который касается, в том числе, и предпринимательства, и, в целом, управления экономикой. Соблюдается он, конечно, как все и везде, не без исключений. Но вот в российском варианте пока что как раз они – исключения из этого общепринятого в странах свободной экономики правила. А потому еще большая фантастика, чем секретный сговор всех строителей растить без удержу цены на жилье в своих домах, реальные причины этой дороговизны.
Андрей, когда я ему рассказывал о них, только изумленно округлял глаза, покачивал головой – как бы не в силах поверить в такое. И неопределенно улыбался. А я, глядя на него, на неподдельную эту реакцию, и сам проникался какой-то тоже неправдоподобностью того, что с нами происходит, хотя приводил при этом, конечно же, самые что ни на есть конкретные цифры и факты.
Цены на любом рынке колеблются, как известно, в зависимости от спроса и предложения. Растут, когда первого больше, второго меньше. И снижаются, когда все происходит наоборот. А жилье – давний и самый острый в родном отечестве дефицит, значит строить надо, как можно больше. Что вполне совпадает с интересами и строителей, и покупателей. Подсчитано: чтобы все российские граждане были обеспечены хотя бы элементарным современным жильем, имеющийся жилищный фонд надо увеличить на сорок шесть процентов. Темпы во многом зависят от организации дела. А у нас только на подготовительный период, включающий оформление документации для начала строительства, из-за примитивной бумажной волокиты, уходит не один год. Это притом, что международные нормы продолжительности таких процедур всего несколько месяцев. Но мало того, что сама волокита удорожает строительство, поскольку «время – деньги», себестоимость растет вместе с непроизводственными издержками. Только, примерно, половина ее – это расходы «на стройку», остальное – плата за массу обязательных услуг, которые дорожают наперегонки одна за другой. Как, например, «получение и исполнение технических условий по подключению объекта к сетям», которое сегодня стоит до трех тысяч рублей за квадратный метр. А это около пяти процентов общей себестоимости строительства многоквартирного дома.
Андрей, когда я сообщил ему об этом, не понял.
– Столько всего лишь за подключение к каким-то новым специальным энергоисточникам?
И несказанно удивился, когда услышал от меня, что никаких новых источников в таких процедурах обычно не участвует. Что плата просто за элементарное подключение: рубильником и, в основном, к станциям, работающим еще с советских времен. Выслушав это все, Андрей мрачно хмыкнул:
– Бред.
Я же подумал: как же мы ко всему, в конце концов, привыкаем и начинаем принимать незаметно для себя откровенную обдираловку, как данность, от которой никуда не деться. А потому с ней надо, ничего не попишешь, как-то жить, как-то к ней прилаживаться. А она потому и живет, что к ней прилаживаются. Но вот стоило новому несведущему человеку взглянуть на безобразия, что называется, свежим глазом, и все стало на свои места.
– Андрей, как ни назови, а вот так за последние годы сложилась структура себестоимости в нашем строительстве жилья. Строим, скажем, обычный многоквартирный кирпично-монолитный дом. Значит, надо готовиться к следующему раскладу. О сказочных взносах за подключение к сетям сказал. Дальше. Десять процентов, а это около пяти с половиной тысяч рублей за квадратный метр будущего дома, уйдет за получение права на участок; пятьдесят два процента – около тридцати тысяч за метр – собственно стройка: строительно-монтажные и проектно-изыскательские работы; пять процентов – три тысячи двести за метр – стоят услуги государственных согласующих организаций; десять процентов – пять тысяч двести за метр – кредиты; пять процентов – три тысячи двести пятьдесят за метр – организация продаж. В итоге, себестоимость квадратного метра нашего дома составляет пятьдесят пять тысяч рублей. Из которых только тридцать пять тысяч сто рублей – расходы чисто строительные.
Откуда этот дикий дисбаланс: дом построить нам стоит почти столько же, сколько чиновным службам с партнерами-монополистами получить только лишь за дозволение такого строительства и указание его места с разумеющимся само собой подключением к магистралям тепла и света? Как раз незадолго до нашего разговора с Андреем я просчитал, что за какой-нибудь год себестоимость жилья нашей фирмы выросла почти в два раза, хотя стройматериалы – основа ее – подорожали всего на пятнадцать процентов. У других наших сотоварищей по стройплощадкам – та же история. Деловых, естественных причин тому не нашел, сколько не искал. Они явно просматриваются в другой области, что вовсе не секрет для строителей, поскольку все происходит у них на глазах.

С чего берутся накрутки на наши платежи тем же сетевым монополистам? Чиновники нам говорят, что она устанавливается региональной комиссией в зависимости от дефицита мощностей. А как величина этого дефицита определяется? Есть подозрение, что одним искрометным взглядом в потолок. Во всяком случае, суммы платежных взносов сразу, как тогда после моего сообщения о них Андрею, навевают мысль, что возможности мощностей существующих близки к нулю, их на наши взносы собираются строить заново, хотя на самом деле с ними все в порядке. А как земля подорожала до семисот долларов за квадратный метр? Она тоже дефицит? И технология подсчетов здесь та же. Но тут еще и особый случай. Мы покупаем не просто землю, а «возводимые улучшения», как выражаются те же представители власти. То есть, платим надбавку как бы за будущие квадратные метры будущего жилья. С чего вдруг? Кто такое мог придумать? А так вышло. Во времена еще Анатолия Собчака, когда строительный бизнес только начинал строить дома, закон о купле-продаже земли завис в Госдуме. Его долго и успешно саботировали коммунисты. Но участки под застройку надо было как-то отводить, и тогда решили на местном уровне символическую цену за них плюсовать, как за «возводимые улучшения».
Постепенно стала все больше «улучшаться» и цена. Поскольку процессом управляли сами его авторы, серьезному противодействию их растущим устремлениям неоткуда было взяться. А потом, когда служилые люди вошли во вкус, когда появился закон о купле-продаже земли, цена за «улучшения» и вовсе стала, что называется, «скакать». Примерно, так вышло и с другими нашими показателями непроизводственных затрат. У всех поборов тенденция при этом одна – исключительно к росту. И никто ей не мешает. Куда идут деньги? Только не на благо развития строительства и прочие общественные блага… Себестоимость при этом растет, еще немного, и сравняется с ценой, которой с учетом покупательной способности большинства российского населения расти особенно некуда. Наши чиновные и монопольные партнеры делают на этой истории пока свой неплохой бизнес и без особых забот о производстве, но, если и дальше пойдет так дело, нам не на что будет заводить новые стройки.
Явление это, к сожалению, получило в стране необыкновенно широкое распространение. И не только в нашей отрасли. Называется оно – «халява». От арабского «хальва» (с ударением на первом слоге). И переводится подходяще – сладкий. Есть у него, правда, и другие толкования. Во времена Владимира Ивановича Даля, например, в вятских, псковских и еще нескольких российских краях оно употреблялось, как бранное, что и зафиксировал знаменитый словарь. Но вот в наши годы это слово как-то все чаще звучит в его первоначальном, по-арабски сладком значении. Деловитые устремления поиметь что-то задаром овладевает массами, несмотря на предубеждения знающих людей, что «бесплатный сыр бывает только в мышеловке». Другие знающие люди уверены, что это вовсе не обязательно. Главное, говорят, чтобы «все было в рамках закона». И нынешние великие и не очень комбинаторы усвоили это правило не хуже классика, развивая успешно метод в самых разных областях – от финансовых пирамид до неразберихи с ценниками в супермаркетах, или вот – дорогого дефицита тепловых и электрических сетей.