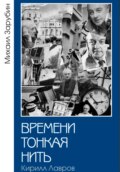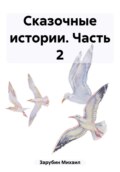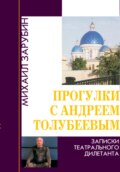Михаил Константинович Зарубин
Герои моего времени
В 1990 году умудрились не просто запутаться с картами, но в прилагаемых к ним списках сделать кучу ошибок. Есть памятники, о которых просто не слыхивали. Например, Матросская Слобода в Павловске! Откуда взялась эта слобода? Кто ее туда вписал? Что там делать матросам? Где Павловск, а где море? В предоставленном списке нет ни привязки объектов к координатам, ни их описаний. Поэтому разобраться – невозможно. У нас есть форт «Серая Лошадь», а в списке ЮНЕСКО та же самая лошадь – Зеленая. Мало кто знает деревню Поляны, которую почему-то охраняет ЮНЕСКО, хотя имеются сомнения в ее универсальном мировом значении. Она даже не стоит под охраной государства.
Европейские эксперты относятся ко всей этой несуразице с юмором и сами посмеиваются: «Что вы сделали с лошадью? Перекрасили?» Хотя у ЮНЕСКО достаточно жесткие правила. Во-первых, страна-заявитель должна предъявлять только те объекты, которые охраняет сама, во-вторых, все они должны пройти экспертизу на предмет их универсальной ценности. ЮНЕСКО не берет все подряд. А на территории петербургского объекта – шестьдесят процентов вообще не памятники, а просто историческая застройка. Но уникальность Петербурга в том и заключается, что он включен в список именно как градостроительное образование.
Андрей выслушал меня внимательно, не перебивал.
– Спасибо за рассказ о наших безобразиях. Я знал об этом, но не в таких подробностях. Не буду выяснять, кто должен охранять город, знаю только, что для меня Петербург – как намоленная, не сгоревшая в пламени войны икона… И ЮНЕСКО тут ни при чем. В первую очередь мы сами ответственны за город…
– Андрей, но как жить современному человеку в этом, извини за неточное сравнение, антиквариате? Припарковаться негде, стоянок не хватает, хронические пробки… Что ни говори, а в историческом центре города жить и работать крайне неудобно… И потом, антиквариат – личное дело коллекционера, а облик города, его инфраструктура касаются всех. Не случайно так яростно спорят городские любители старины и сторонники прогресса…
– Ну, есть и более неудобные города. Например, Рим. Улочки узкие, проехать можно только на велосипеде. Почему бы его не снести и не построить на его месте современный и красивый город? Возможно это? Вполне – строительные технологии позволяют. Но итальянцы решили, что их история, их «неудобный» город гораздо дороже небоскребов и широких улиц. Хочешь жить здесь – откажись от машины, вот такой у них подход. Конечно, наш город – не самое удачное место на земле: высокая влажность, наводнения, ветры… А мы еще и способствуем его разрушению, это видно по фасадам – многочисленные утраты декора, грязь. За исключением наиболее ценных объектов, многие другие профессионально не реставрируются, так что «блистательный Санкт-Петербург» скоро останется только в литературе…
– Да, Андрей, как строитель и человек, интересующийся строительными технологиями, которые применялись нашими предками, я могу сказать, что фасады Санкт-Петербурга – это энциклопедия архитектурных форм, техники отделки и материалов. Их архитектурно пластическое великолепие создается выверенной композицией ордерной системы, эркерами, башенками, шпилями и куполами, разнообразными формами кровли, скульптурным лепным и металлическим декором. Выразительное петровское барокко с контрастной окраской фасадов в два цвета сменяет полифония цвета и скульптуры елизаветинского барокко. «Строгий, стройный вид» фасады приобрели в эпоху классицизма и ампира. Декоративное многообразие форм оставили ретроспективные не о стили (вариации на темы Египта и Востока, готики и ренессанса, барокко и не о грека), изысканную пластику – модерн. В архитектурной отделке применялись: известняки, граниты, мраморы, литые, чеканные патинированные бронзы, черные металлы, кованый и литой чугун, шпиатр, золочение ртутным способом, «через огонь», клеевое и гальванопластическое; керамики и мозаики.
В своем большинстве фасады Санкт-Петербурга штукатурной работы. Штукатурка позволяла использовать любые стилевые формы, применять разнообразную окраску, в ней же имитировалась облицовка камнем. Потому настоящая реставрация – дело хлопотное и дорогостоящее. Она достигается с помощью специальных технологий и материалов. Проводится она только в летний сезон. А ты видишь, как у нас: зима, мороз – пленку натянули, и фасад красим. Результат этой работы – красочные покрытия на основе синтетических связующих разрушают штукатурные слои и кирпичную кладку. Но при этом, если реставрация фасадов необходимое дело, то реставрация здания – мера вынужденная, чрезвычайная, она уносит частицу подлинности. Я думаю, ты согласишься со мной. Ведь что такое старина? Это не только архитектурный облик, но в том числе и внутреннее устройство здания – система кладки, перекрытий и прочие технологические решения при строительстве. Это тот случай, когда стены не разделяют, а соединяют прошлое и настоящее. Поэтому я считаю, что не нужно заниматься новоделом на месте снесенного памятника. Это уже не памятник. Если мы сохраняем историю, то должны сохранить и душу здания. Зачем восстанавливать в бетоне маленький домик и говорить, что здесь жил Некрасов? Это неправильно, потому что Некрасов здесь точно не жил. Если мы не можем сохранить памятники путем реставрационных работ, то, к огромному сожалению, на его месте надо строить новое здание. Значит, пришло его время. У каждого памятника есть свой срок жизни.
Да, старина ветшает, но как ни странно, она все-таки более жизнестойка. Парадокс: современные здания из стекла и бетона устаревают морально и физически раньше, чем исторические дома, насчитывающие сто и двести лет от рождения.
– Константиныч, я не только согласен с тобой, но и то, о чем ты говоришь, – это мои мысли.
– Андрюша, мои и твои мысли – это мысли тысяч и тысяч петербуржцев, преданных своему городу, наследующих его духовные и культурные богатства.
Мы шли, не замечая времени. Но невозможно было не заметить на стене дома знаменитую блокадную табличку: «Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна». Простая, казалось бы, трафаретная надпись, но она дороже любого выспреннего новодела. Около нее всегда цветы. Здесь, кажется, что память пахнет цветами.
А над прогретым за день Невским витает запах увядающей листвы и моря. Морем пахнет насытившийся его влагой неуемный балтийский ветер, давно прижившийся на питерских улицах. Я очень люблю запах моря, он такая же примета города, как памятники, как старинные здания.
В моей памяти навсегда остался тот теплый осенний вечер, наша прогулка по Невскому проспекту с Андреем Толубеевым, обеспокоенным и судьбами домов, составляющих город, и судьбами людей, живущих во все еще блистательном Санкт-Петербурге.
Глава четвертая. Спасти центр Петербурга от «Охта-центра»
Случалось, что мы возвращались домой вместе – или после спектакля в БДТ, или после заседания Общественного Совета города. В любом случае, это были интересные прогулки – эмоциональные и познавательные. Андрей вдобавок ко всем своим талантам обладал даром настоящего просветителя, педагога. Как иначе назвать его работу на телевидении и в театральном институте? Он увлекался историей Петербурга, многое знал, умел доносить свои знания до слушателей, пробудить у них интерес. Всему, к чему бы он ни прикасался – писал ли книги, играл в театре, выступал в Общественном Совете, – он отдавал себя полностью. Наши прогулки с ним тоже были в значительной степени просветительскими. В отличие от коренного питерца Андрея Толубеева, я сибиряк, хотя давно обосновался на берегах Невы и этот несравненный город тоже считаю своим, родным, но от Андрея получил немалые знания, которые мне пригодились в работе и в осмыслении бытия. Драгоценные часы нашего общения для меня незабываемы: я и сейчас слышу его проникновенный, узнаваемый бархатный голос, излучающий теплоту, располагающий собеседника.
…Андрей много рассказывал о своей писательской работе, жаловался на неподатливость компьютера, с которым не может совладать, на нехватку времени, упрекал самого себя в неорганизованности. Я про себя искренне удивлялся. Мне казалось, что такой успешный человек, как Андрей, не может чего-то не уметь – он гениален, не побоюсь этого слова, и на сцене, и в кино, и за письменным столом, и в студенческой аудитории. С печальной самоиронией он убеждал меня, что многое делает не так, что если бы ему было дано прожить две жизни, он жил бы, конечно, совсем по-другому…
И все же главной темой наших разговоров оставался Петербург.
Обычно конечным пунктом мини-путешествий был Синий мост над Мойкой. Здесь, над рекой, расходились наши пути, ведущие каждого к своему дому.
Неспроста Санкт-Петербург называют Северной Венецией. Город в буквальном смысле стоит на воде. Его территорию прорезает девяносто рек, каналов и проток, общей длиной более трехсот километров. Кроме того, в Санкт-Петербурге находятся десять больших озер.
Без сомнения, главной рекой является Нева. Но город невозможно представить и без Мойки, с ее располагающей к прогулкам гранитной набережной с орнаментальным чугунным ограждением и достаточно просторными мостами. Река протекает через центральную часть города, она – неотъемлемая часть водного кружева Петербурга.
Многие здания, расположенные на Мойке, являются архитектурными памятниками, связаны с именами великих русских писателей, художников, поэтов.
Есть уникальное сооружение – Синий мост. Он соединяет Исаакиевскую площадь с переулком Антоненко и Вознесенским проспектом. При этом мост кажется «невидимкой»: из-за своей рекордной ширины он воспринимается частью площади. Название «Синий» идет от первого деревянного моста, выкрашенного в синий цвет. Мост является рекордсменом: это самый широкий мост в Санкт-Петербурге, его ширина по внешнему габариту почти сто метров. Он неоднократно был реконструирован, изменялись его размеры, конструктивные особенности. Однако внешне мост не изменился и дошел до нас практически в первозданном виде. К мосту, как и к Мариинскому дворцу применимо высказывание: два императора от него отвернулись. Это действительно так: «Медный Всадник», и бронзовый Николай 1 смотрят в сторону Невы, а мост и дворец остаются у одного и у другого за спиной.
Однажды мы стояли с Андреем на мосту, смотрели, как тяжелые, по цвету похожие на чугун ограды волны, вспениваясь под ветром, разбиваются о гранит набережной. По реке проходили катера. Прокладывающие путь между отражениями домов, казалось, задевали суденышки их зыбкие, сходящиеся на середине реки крыши. Чудилось, что вдали водный путь сливается с небесами, озаренными солнцем, золотыми куполами и шпилями.
– И откуда вдруг появилась эта странная башня? – вдруг спросил меня Андрей, тоже залюбовавшийся поднебесными доминантами Петербурга.
– Какая башня?
– На Охте, Газпромовская.
– Вот ты о чем! Выброси из головы, пока это все – прожекты.
– Это у нас с тобой – прожекты, а у власти всегда – проекты, и реальность их очень велика.
– Я неплохо знаю эту историю, там речь идет, в конечном итоге, о строительстве. Но я убежден – если и будут строить эту пресловутую башню, ни одна российская компания не сможет выиграть тендер. Почему? Это отдельный разговор.
– Ну, хорошо, так откуда же появилась эта странная идея?
– Если разобраться, то ничего странного в ней нет. Еще 5 декабря 2004 года петербургские газеты сообщили о том, что «Газпром» получил в аренду участок на пересечении Большеохтинского проспекта и Конторской улицы для проведения изыскательских работ. Площадь участка, согласно постановлению Смольного, составила шестнадцать тысяч квадратных метров. «Газпром» объявил о своем желании построить офисное здание для всех дочерних компаний, работавших тогда в Петербурге и области.
В газете «Коммерсант» утверждали, что эта сделка позволит городу за несколько лет рассчитаться с госдолгом, который к концу 2005 года составит шестнадцать миллиардов рублей, а к концу следующего 2006 года перевалит за двадцать миллиардов.
Андрей слушал очень внимательно.
– Как думаешь, построят?
– Не сомневаюсь в этом. Лично я – против строительства, но не потому, что здание очень высокое. Эйфелева башня тоже высокая, но без нее не было бы Парижа. Я против, потому что «Газпром» – компания государственная, а у государства есть куда потратить деньги, у нас еще многие деревни и поселки не газифицированы. И, наконец, главное – как только начнут строить, стоимость газа для населения моментально вырастет, как бы ни уверяли в обратном газпромовские чиновники. В городе полно дворцов, которые требуют спасения, – берите, восстанавливайте, работайте и размещайтесь в них…
– Я тоже против этой пресловутой башни, Константиныч, только по другой причине. Этот скандал, разделивший город на сторонников и противников строительства, высветил очень важную проблему – наша власть плюет на мнение граждан, оно ей не интересно. У власти достаточно ресурсов, чтобы провести любое решение, даже абсурдное: для этого есть управляемый парламент, лояльные деятели культуры, свои средства массовой информации, а главное – деньги, которыми она распоряжается. Я смотрю телевизор – и ничего не понимаю! Боярский и Мигицко уговаривают телезрителей, что башня чудовищной высоты на Охте необходима городу, как воздух. В это же время уважаемый академик Пиотровский пишет Президенту и Правительству письма с резкими протестами. Кому же верить?
– Мне, – шутя, сказал я. – Хотя бы на том простом основании, что я следил и слежу за событиями на Охте, начиная с 2006 года. Информацию собираю из газетных публикаций и телепередач, расспрашиваю специалистов в этой области. Разумеется, я тоже могу заблуждаться. Хочешь, расскажу эту историю так, как я ее понимаю?
– Не хочу.
– Почему?
– Я не верю информациям, публикуемым в газетах и журналах, тем более передаваемым по телевизору.
– Чему же ты веришь?
– Первоисточникам.
– Это… кто такие?
– Руководство Газпрома и страны.
– Извини, Андрей, руководство лично со мной подробностями строительства башни не делилось.
– Вот то-то…
– Что «то-то»?
– Такое впечатление, что нас проверяют «на вшивость». Какие мы стали. Промолчим или поднимемся с протестами. Ты ведь хорошо знаешь, как рукотворными морями землю нашу покрывали.
– Память о морях у меня хорошая. Сейчас ведь оправдание есть. Такие времена были, что заставили людей молчать.
– Были, что правда, то правда.
Мы долго молчали.
Сегодня я твердо уверен, что от исхода борьбы против «башни» зависело многое, в том числе и становление гражданского общества в России. Андрей был прав. Кому, как не мне, знать, какие тяжелые последствия влекут за собой непродуманные, волюнтаристские решения наших российских властей! Я видел своими глазами, как скрывались под водой сибирские села, где еще недавно жили люди, как преднамеренно сжигались их дома, и некому было остановить этот беспредел.
В одной из своих книг «Илимская Атлантида», в главе «Прости меня, мой край», я рассказывал о десятках илимских деревень, нашедших свою могилу на дне рукотворного моря. Тоскует мое сердце о погубленных родных краях, не могу не поделиться с читателями своей болью. Приведу отрывок из этой книги.
«…Тридцать пять лет прошло после потопа! Вернее, не потопа, а убийства деревень и сел. Говорят, со временем боль от утраты притупляется, рана заживает… Но у меня эта рана – не затягивается. Перед глазами – родной Илим. Моя родина. Мое детство. Могила моей мамы, что теперь на Красном Яру. И слышится мне стон ее души в криках птиц, парящих над бескрайним искусственным морем и не находящих знакомых мест: Кулиги, Малой Речки, Россохи, Тушамы…
А история, между тем, повторяется. Уже в государстве с другим названием и с другой Конституцией, которая обязывает власти прислушиваться к мнению граждан, блюсти их интересы. Но – удивительное дело! – все остается так же, как и прежде, никто не собирается «блюсти» и «прислушиваться». Родные гидростроители снова готовят большой сибирский потоп. Снова уйдет под воду огромная таежная территория, которую предстоит очистить от леса, от городков и деревушек, она станет дном искусственного моря. Дома и лес, как в былые времена, будут жечь, людей переселять…»
Новые государственные реформы в России идут медленно и трудно. Впрочем, так было в нашей стране всегда. Но все-таки кое-что меняется в сознании людей, они уже не те бессловесные «винтики» и «колесики» в огромной и бездушной государственной машине – они начинают поднимать голос против несправедливости, против хамства, против вседозволенности, и этот голос становится год от года все громче и уверенней. Трудно сказать, чем кончится история со строительством «Газпром-сити», кто в ней прав, кто виноват, однако она выявила существенное обстоятельство: не все у нас решается с помощью денег, есть что-то более важное, обо что споткнулся даже «Газпром» с его сверхмощными финансовыми потоками. Слава Богу и петербуржцам, символичная беда (башня) отступила!
Наши политики часто цитируют слова Петра Столыпина, сказанные им в Государственной Думе: «Вам, господа, нужны великие потрясения, а нам нужна великая Россия…» Правда, забывают (или не знают!) о том, что за этой эффектной фразой царского премьер-министра последовало уточнение от лидера русских националистов монархистов Василия Шульгина: «Нам нужна, прежде всего, справедливая Россия…»
И спасибо Петербургу, это он, своей красотой, героической историей, культурным примером заставляет нас осознать, что такое величие и что такое справедливость. И поэтому, наверное, когда тяжело, когда, кажется, нет выхода из сложившейся жизненной ситуации, выходишь на поклон к городу. Идешь по его улицам, всматриваешься в шедевры зодчества, ищешь отражение минувшего в его реках, речках и даже в родных петербургских лужах. И находишь, и получаешь помощь Красоты и ответ Вечности, и все складывается хорошо и решается так, как должно быть.
Глава пятая. Пешком по Гороховой
Поздний зимний вечер. После спектакля мы с Андреем решили пойти домой пешком. Это был наш любимый маршрут: немного по Фонтанке, потом свернуть на Гороховую и дальше, до Малой Морской. Мы идем медленно. Сладко и легко дышится в этот безлюдный час, когда кажется, это только тебе небо посылает снежинки, остужающие пылающее после спектакля лицо. Это в награду только твоему неравнодушному сердцу петербургские выси открывают свои невыразимые тайны, это для твоей пытливой души фонари высвечивают минувшее. По узким тротуарам трудно идти вдвоем: то дорогу грубо преградят ступеньки, ведущие в новый, пробитый прямо в фасадной стене вход, то под ногу подвернется вспученный кусок асфальта. Все время уступаем дорогу друг другу, не замечая этого, потому что Андрей говорит, а я завороженно слушаю… Он зримо рассказывает об истории Гороховой улицы так, словно сам жил здесь в далекие времена.
– Гороховая – одна из старейших улиц Петербурга. Эта средняя часть «петербуржского трезубца» – трех улиц, расходящихся веером от Адмиралтейского проспекта до Пионерской площади (бывший Семеновский плац).
Первое ее название, присвоенное в 1738 году, соответствует местоположению – Средняя Проспективная улица, сокращенно Средняя перспектива. Поскольку Указом давались имена только улицам Адмиралтейской части, первое время улица официально доходила до Мойки, и лишь через два года была продлена до Фонтанки, чуть позже до Загородной улицы, где сейчас и заканчивается.
В течение века она имела шестнадцать названий. Одно из интересных ее имен – Графский пролом – единственный «пролом» за всю историю города. От Мойки до канала Грибоедова (Екатерининского канала) был проложен или, как говорили, «проломан» проезд через владения графа П. И. Мусина-Пушкина.
Название улицы – Гороховая упоминается впервые в «Санкт-Петербургских ведомостях» в 1770 году. Происхождение его не вполне ясно. Часто приводится легенда, что это переделанное на русский лад название – Гаррахова улица, но существование такого купца и такого названия никакими архивными источниками не подтверждается. Более правдоподобная версия – улица названа по фамилии купца Никиты Горохова, однако он жил на Малой Миллионной улице, то есть в той части нынешней Большой Морской, которая примыкает к Дворцовой площади, не очень близко к Гороховой улице. Первоначально так называли участок улицы от Мойки до Загородного, а первая часть магистрали – от Адмиралтейства до Мойки – обычно именовалась Адмиралтейской. Лишь только в середине ХХ века «Гороховая» становится официальным именем всей магистрали.
В октябре 1918 года улицу переименовали в Комиссаровскую, поскольку здесь в доме № 2 с декабря 1917 года до переезда в Москву располагалась Всероссийская чрезвычайная комиссия – прообраз ОГПУ-КГБ-ФСБ. Приземленное название улицы вызвало возмущение членов городской комиссии по наименованиям, и городские власти к мнению Комиссии прислушались, так улица получила имя Дзержинского.
Историческое название Гороховой улице вернули в 1991 году…
Я слушал Андрея с нескрываемым любопытством и удивлением. Он мне напомнил, как герой романа Достоевского «Бедные люди» Макар Девушкин отзывался о Гороховой: —
«…Шумная улица! Какие лавки, магазины богатые: все так и блестит, и горит, материя, цветы под стеклами, разные шляпки с лентами. Подумаешь, что это все так, для красы разложено – так нет же: ведь есть люди, что все это покупают и своим женам дарят. Богатая улица! Немецких булочников очень много живет в Гороховой; тоже, должно быть, народ весьма достаточный. Сколько карет поминутно ездит; как все это мостовая выносит! Пышные экипажи такие, стекла, как зеркало, внутри бархат и шелк; лакеи дворянские, в эполетах, при шпаге. Я во все кареты заглядывал, все дамы сидят, такие разодетые, может быть, и княжны, и графини».
Да, Константиныч, на этой улице жили многие литературные герои, и прежде всего, вспоминается знаменитая княгиня Голицына, прототип старухи-графини из «Пиковой дамы». Княгиня Наталья Петровна в лучшие свои годы отличалась красотой, умом и крутым нравом. Дом на углу Малой Морской и Гороховой хорошо был знаком Пушкину, ведь он и сам недолгое время снимал на Гороховой квартиру, а за несколько месяцев до создания «Пиковой дамы» жил вблизи дома Голицыной. Поэт много раз проходил мимо ее подъезда и полицейской будки, что стояла здесь.
Мы подошли к дому, остановились, Андрей задумался. Я стал просить его рассказать историю героини пушкинской повести.
– Константиныч, здесь столько разных легенд переплелось, поэтому, где правда, где ложь, не знает никто.
– Расскажи, что знаешь, – не отставал я.
– Хорошо, – согласился Андрей. – Я, готовя свои передачи, многие знания почерпнул из старинных путеводителей и современных научных, литературоведческих, исторических книг, однако немало достоверных сведений содержится и в русской художественной литературе, и в классических романах.
Известно, что княгиня Наталья Петровна Голицына происходила из рода так называемых новых людей, появившихся в начале XVIII века в окружении Петра Великого. По официальным документам она была дочерью старшего сына денщика Петра I, Чернышева, который на самом деле, если, конечно, верить одной малоизвестной легенде, слыл сыном самого самодержца. Получается, что Наталья Петровна была внучкой первого российского императора и основателя Петербурга. Во всяком случае, ее манера независимо держаться перед сильными мира сего, ее властолюбие даже в быту, говорят в пользу этой версии. Обеды княгини почитали за честь посещать члены царской фамилии, а ее сын – знаменитый московский генерал-губернатор В. Д. Голицын – не имел права сидеть в присутствии матери без ее разрешения.
Светский интерес к престарелой Наталье Петровне, начинавший было затухать в связи с ее весьма и весьма преклонным возрастом, неожиданно оживился в 1834 году, когда в петербургских аристократических и литературных салонах заговорили о новой повести Александра Сергеевича Пушкина «Пиковая дама», написанной им накануне, в 1833 году, и тут же опубликованной. Литературная новость взбудоражила петербургское общество. Образ уродливой надменной старухи, обладательницы мистической тайны трех карт, вызывал совершенно конкретные, недвусмысленные ассоциации, а загадочный эпиграф, предпосланный Пушкиным к повести: «Пиковая дама означает тайную недоброжелательность», да еще со ссылкой на «Новейшую гадательную книгу», подогревал разгоряченное любопытство. Кто же скрывался за образом пушкинской графини или, как подозрительно часто якобы отоваривается сам Пушкин, княгини? Двух мнений на этот счет в тогдашнем обществе не было. Это подтверждает и сам автор нашумевшей повести. 7 апреля 1834 года он заносит в дневник короткую запись: «При дворе нашли сходство между старой графиней и княгиней Натальей Петровной». Речь шла, разумеется, о Голицыной.
В молодости Наталья Петровна слыла красавицей, но с возрастом обросла усами и бородой, за что в Петербурге ее за глаза называли «Княгиня Усатая». Именно этот образ титулованной старухи, обладавшей малоприятной внешностью в сочетании с острым умом и царственной надменностью, и возникал в воображении первых читателей «Пиковой дамы».
Имеется две версии, почему Александр Сергеевич Пушкин ввел в сюжет повести «Пиковая дама» образ старухи, узнаваемый настолько, что никто не сомневался – это Голицына. Согласно первой версии внук княгини Сергей Григорьевич Голицын по прозвищу Фирс был в приятельских отношениях с поэтом, любил поэзию, музыку, но больше всего на свете ему были дороги карты.
Однажды, начисто проигравшись в карты, он в отчаянье бросился к бабке с мольбой о помощи. Голицына в то время находилась в Париже. Она будто бы обратилась за советом к своему французскому другу легендарному графу Сен-Жермену. Граф живо откликнулся на просьбу о помощи и сообщил Наталье Петровне тайну трех карт – тройки, семерки и туза. Если верить фольклору, ее внук тут же отыгрался. Вскоре вся эта авантюрная история дошла до Петербурга и стала известна Пушкину, который ею своевременно и удачно воспользовался. Он сам об этом намекает в первой главе «Пиковой дамы». Помните, как Томский рассказывает о своей бабушке, «Московской Венере», которая «лет шестьдесят тому назад ездила в Париж и была там в большой моде»? Правда, по Пушкину, старуха сама отыгралась в карты, никому не выдав сообщенной ей Сен-Жерменом тайны трех карт. Но ведь это художественное произведение, и автор был волен изменить сюжет услышанной им истории.
Впрочем, по другой версии, Пушкину при работе над «Пиковой дамой» не было особой нужды так далеко обращать свой авторский взор. У него была своя, собственная, личная биографическая легенда о появлении замысла повести.
Пушкин однажды был приглашен погостить в доме Натальи Петровны. Несколько дней он жил у княгини. Молодость и темперамент, унаследованный от африканского предка, брали свое: поэт стал приставал ко всем юным обитательницам гостеприимного дома. Некоторое время княгиня пыталась закрывать глаза на бестактные выходки молодого строптивца, но не вытерпела и, возмущенная поведением гостя, с позором выгнала его из дома. Смертельно обиженный, Пушкин будто бы пообещал когда-нибудь отомстить злобной старухе и якобы только ради этого придумал всю повесть.
Трудно сказать, удалась ли обещанная месть. Княгине, в ее более чем преклонном возрасте, было, видимо, все это глубоко безразлично. Однако навеки прославить Наталью Петровну Пушкин сумел. Скончалась она в возрасте 97 лет в декабре 1837 года, ненадолго пережив обессмертившего ее поэта. В Санкт-Петербурге Голицыну иначе как «Пиковой дамой» не называли, – обаятельно улыбнувшись, закончил свой литературный рассказ Андрей.
…Мы стоим на углу, на пересечении Гороховой и Малой Морской: на свет уличных фонарей, кружась как ночные бабочки, слетаются крупные хлопья снега и, как будто ожегши свои трепетные ажурные крылышки, отвесно падают вниз, густым слоем засыпая тротуар. Дом старой княгини выглядит угрюмым и таинственным: в такую же непогоду стоял здесь измученный страстями Герман, нетерпеливо ожидая условленного часа. Кажется, сейчас к дому подъедет карета с величественной старой графиней, и, немного помедлив, герой «Пиковой дамы» решительно шагнет к парадному входу ее дворца…
Напротив дома Голицыной – высокое здание с множеством мемориальных досок. Здесь жил Петр Ильич Чайковский, здесь он умер 25 октября 1893 года. Из окон своей угловой квартиры композитор мог наблюдать за домом княгини и вспоминать дни, проведенные им во Флоренции, где создавалась партитура оперы «Пиковая дама».
Рядом с «домом Чайковского» – невзрачное здание, дом номер 15. На его месте стоял раньше другой дом, в нем находился очень популярный в Петербурге ресторан «Дюме». Именно здесь Пушкин познакомился с Жоржем Дантесом. А вообще этот узловой перекресток считается роковым: Чайковский встретил здесь свою смерть, а Пушкин – своего будущего убийцу.
Мы медленно идем по Малой Морской дальше. Дошли до скверика на Исаакиевской площади, сели на скамейку.
– Андрей, ведь Григорий Распутин жил тоже на Гороховой?
– Да, на Гороховой, но на другом ее конце, рядом с Загородным проспектом, Гороховая, 64.
– Этот доходный дом постройки 1902 года вошел в историю Петербурга как «Дом Распутина», – продолжил свой рассказ Андрей. – Григорий Ефимович снимал здесь квартиру, которую в городе называли «Звездной палатой». Здесь решались судьбы министерств и ведомств, царских сановников и армейских генералов. Распутин жил в квартире № 20 на третьем этаже.
Распутин поселился здесь в 1914 году и прожил до дня своей гибели. Его личность оценивают по-разному, и диапазон этих оценок огромен: от полного неприятия «антихриста» до благоговейного почитания «святого старца».
Биография этого малограмотного мужика, имя которого сделалось нарицательным, историкам хорошо известна. А вот как ему удалось стать тем, кем он стал, до сих пор остается загадкой.
Сейчас, когда о нем написано столько книг, сняты Художественные фильмы, его имя и подробности биографии известны широко. Думаю, нет надобности рассказывать его историю, хотя я ее хорошо знаю. Скажу одно, Распутин и в самом деле обладал некоторым даром провидца. Многие знавшие его люди вспоминают, что не раз слышали, как, проходя мимо Петропавловской крепости, он взволнованно восклицал: «Я вижу много замученных людей, людские толпы, груды тел! Среди них много великих князей и сотни графов! Нева стала совершенно красной от крови». С императрицей он был еще более откровенен: «Пока я жив, с вами и с династией ничего не случится. Не будет меня – не станет и вас». Придет, как он будто бы говорил, «конец России и императору».