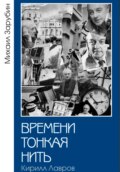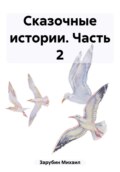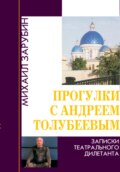Михаил Константинович Зарубин
Герои моего времени
Глава четвертая. Профессия актер. Профессия строитель
Театр для меня всегда был окутан тайной, просветлен сказочным светом, наполнен героическим смыслом. Советская власть, понимая великое воспитательное значение театра, как могла, обихаживала его: персональные оклады служителям Мельпомены, квартиры в центре города, машины, которые для других были недоступны, звания, награды. Только работай, не иди поперек господствующей идеологии. Служи народу своим искусством, как тогда говорили.
И вдруг, в один момент прежняя размеренная и беспроблемная жизнь рухнула. Зато пришла свобода: к репертуару театра претензий нет, твори, выдумывай, пробуй, никто на тебя сурово не взглянет и не накажет.
Но… для всего этого нужны средства, их надо или заработать, или… Вот в это время и вспомнили, что на свете, в том числе и в нашем Отечестве, всегда находились люди, способные материально помочь искусству, желающие творить благо. Вспомнили о благотворительности, имевшей в дореволюционной России богатую историю и много примеров. Традиции российской благотворительности оказались нарушенными революцией 1917 года. Все средства общественных и частных благотворительных организаций были в короткие сроки национализированы, их имущество передано государству, а сами они упразднены. Большевики начали кампанию безжалостной критики «буржуазной филантропии», которая, по их мнению, лишь маскировала «эксплуататорскую сущность» российского предпринимательства. Возрождаться благотворительность начала было в тяжелые годы Великой Отечественной войны, но ненадолго. Сегодня, к счастью, понятия «меценатство» и «благотворительность» опять на слуху, многое в этой тонкой сфере изменилось к лучшему.
15 февраля 1994 года, накануне 75-летия основания БДТ, при участии тогдашнего директора театра Анатолия Геннадьевича Иксанова по программе Фонда Форда был создан фонд театра. Отцами-учредителями стали:
Владимир Спиваков, руководитель камерного оркестра «Виртуозы Москвы»;
Марис Янсонс – дирижер с мировым именем, страстный поклонник БДТ;
Юрий Темирканов – выдающийся музыкант, руководитель оркестра, начинавший свою музыкальную карьеру в Большом Драматическом и другие достойные люди. У них у всех в момент создания Фонда были грандиозные замыслы и благие цели.
Но сохраняя за собой распределительные функции, денежное наполнение благотворительных фондов власть возложила в первую очередь на коммерческие структуры. Такая добровольно-принудительная благотворительность, а вернее, государственный рэкет – один из существенных факторов, которые обрекают на неудачу многие добрые дела.
В начале 90-х встала проблема: где взять благотворителей, имеющих капиталы. Не давать же объявление в газету! В Фонд театра руководители организаций привлекались по знакомству, использовались связи, были и случайности. Такая случайность произошла со мной.
С Владимиром Петровичем Львовичем – руководителем инвестиционной компании, мы работали вместе на строительстве жилого дома. К тому времени он был членом Фонда БДТ. Он любил и знал театр, а его рассказы об артистах и всевозможные театральные «байки» были всегда интересными и увлекательными. Однажды он уговорил меня посмотреть здание общежития театра, которое располагалось на двух этажах флигеля, находящегося во дворе. История этого общежития достойна исследования: здесь когда-то жили начинающие свой творческий путь К. Лавров, И. Смоктуновский, П. Луспекаев, Т. Доронина, О. Басилашвили и другие театральные «звезды»… Но смотреть было не на что – здание находилось в аварийном состоянии. Деревянные перекрытия рушились, в некоторых местах их подперли брусками.
Решение однозначное: всех выселить и как можно быстрее начинать капремонт.
Правильно говорят, что инициатива наказуема. Меня уговорили выполнить работу без всякого аванса, правда, с обещанием расплатиться чуть позже. Ремонт мы выполнили, работу приняли, долго благодарили. А с расчетом что-то не задалось, и в порядке компенсации наш трест стал коллективным членом Фонда театра, а я вошел в Попечительский совет.
Хорошо запомнился тот январский вечер, когда меня принимали в Совет. В жизни человека не так и много моментов, которые вне зависимости от личного желания или нежелания меняют жизненный путь, влияют на судьбу. Такие события до мельчайших подробностей остаются в памяти навсегда. В тот вечер было морозно и темно, казалось, ночь со своим приходом поторопилась. Но улицы еще не опустели, люди, подгоняемые ледяным ветром, спешили по своим делам. Набережная Фонтанки освещалась огнями густого потока машин, притормаживающих у Лештукова моста и мгновенно исчезающих в черной, непроницаемой громаде города. Мне было зябко: то ли от слишком влажного морозного воздуха, то ли от ожидания предстоящей встречи.
В такую погоду следует сидеть дома и наслаждаться его уютом и теплом. Но в тот вечер почему-то этого не хотелось. Не ощущая усталости, я радостно и стремительно шел навстречу новому повороту своей судьбы. У театра меня уже ожидали, провели в кабинет Кирилла Юрьевича. Встреча была теплой: лавровская обаятельная улыбка, крепкое рукопожатие. Мы вспомнили наше знакомство в Ленсовете. Я услышал его рассказ о театре, в котором он прослужил больше сорока лет! Лавров сожалел, что театр переживает сейчас не лучшие времена. Труппа уже не та – прославленная, всемирно известная, какой была когда-то. Молодежь в театре есть, но она проигрывает «старикам» в мастерстве. Однако школа Товстоногова жива. О мэтре – самые добрые, замечательные слова. В труппе много учеников Георгия Александровича. Среди них немало известных актеров и режиссеров. Хотя… самым молодым уже под сорок, а старшим за шестьдесят…
О попечительском совете благотворительного Фонда БДТ Кирилл Юрьевич отозвался как о большой театральной семье:
– Театр не распоряжается средствами Фонда, за всем следит Попечительский совет. Мы только подаем заявки и обосновываем необходимость. У нас нет никакой, даже малейшей, возможности использовать нецелевым образом средства Фонда. Кроме того, в Положении о Совете сказано, что он не имеет права вмешиваться в творческую политику театра.
На сегодня главная задача Фонда – социальная поддержка актеров. Надеюсь, мы доживем до такого времени, когда приоритетной станет поддержка творческой деятельности театра, его новых постановок, гастролей, международных программ и других проектов, которые нам подскажет жизнь. Сегодня членами Совета являются руководители авторитетных компаний, и нам совсем не безразлично, какие деньги помогают театру…
Члены Попечительского совета собрались в назначенное время. Я был им представлен. Лавров сделал заявление по поводу вступительных и членских взносов:
– Отремонтировать общежитие театра пытались в течение десяти лет. Но все упиралось в отсутствие денег. Министерские чиновники, в последнее время даже формально перестали отвечать на наши запросы. Мы понимали, что может случиться непоправимое, уже рассматривали вопрос о выселении жителей, хотя выселять было некуда. И вот сейчас все благополучно разрешилось. При этом денежных средств, затраченных 47-м трестом на ремонт, достаточно для зачета вступительных и членских взносов, установленных Уставом Фонда, на пять лет. Надеюсь, вы согласитесь со мной и примете в наши ряды Михаила Константиновича…
Согласились, приняли.
Совет закончился уже за полночь, домой, на Большую Морскую, я решил пойти пешком. Шел через сквер, обнятый домами с редко где светящимися окнами. Погода, казалось, смилостивилась. Потеплевший ветер играл крупными пушистыми снежинками, то раздувая их, то скручивая в большой белоснежный локон. Мои ботинки символично оставляли на свежем снегу моего неблизкого пути заметные следы. Дышалось легко. Я вдруг понял, что очень редко бываю абсолютно, до донышка дуги, спокоен. Прежняя тревога таяла, как снег, боязнь неизвестности минула, как недавний ледяной ветер, и только трепетная радость от общения с человеком, который стал мне ближе и понятнее, новой надеждой наполняла сердце.
По Невскому, словно желая получить «высшее благословение» на новое поприще, дошел до Дворцовой площади с ее имперскими символами и смыслами и указующим в небеса ангелом Александрийского столпа. Повернув, пошел по набережной. Отсюда были хорошо видны очертания Васильевского острова, мосты, зыбкий в снежной круговерти силуэт Петропавловской крепости, шпиль собора которой тоже направлял мой взгляд в небеса. И фабричные трубы Выборгской стороны смотрели туда же…
Я был уверен, что начинался новый, промыслительный этап моей жизни.
* * *
Работа в Фонде, общение с актерами, с дирекцией театра, словом, вся моя дальнейшая «театральная деятельность» сфокусировалась на одном человеке – Лаврове. Лавров сказал, Лавров попросил, Лавров поблагодарил – вот обычные фразы. Я не задумывался над тем, почему так, это было абсолютно естественным, а сейчас, когда Лаврова нет, и нить, притягивающая меня к театру, истончается, мне известен ответ. Или, кажется, что известен?
Любой коллектив, будь то строительная организация, завод, театр, команда проектировщиков или просто дружеская компания, неоднороден, люди могут обладать несхожими мнениями, разнящимися точками зрения на одну проблему. Что же все-таки их объединяет? Много факторов, но главный – уважение друг к другу.
Уважение – это та основа, та среда, которая необходима любому человеку. Потому что каждый из нас осознает себя как личность. Нам нужны единомышленники, в общении с которыми в большей степени и может раскрыться творческий дар. Уважение можно сравнить с камнем или крепким, надежным фундаментом, несущим сложный в своих «архитектурных (психологических) особенностях» коллектив.
Для меня, как и для многих других, Кирилл Юрьевич Лавров был светлой, выдающейся личностью. Когда о нем заходила речь, все в первую очередь восклицали: «Ах, какой это человек», и только потом начинали говорить о Лаврове-артисте, не умаляя при этом его фундаментального таланта руководителя.
Он обладал духовной крепостью, благодатным внутренним светом, который чувствовали и зрители, и коллеги. Кирилл Юрьевич легко устанавливал отношения с людьми: контактность, открытость, доброжелательность помогали ему находить все новых и новых друзей. При этом он не стеснялся открыто высказывать свою точку зрения, даже если она расходилась с мнением большинства. Умел доказательно отстаивать собственные интересы, не боялся власти, если знал, что он прав. Принимал решения и нес за них полную ответственность.
Лавров был цельным человеком, для которого мысль и действие – неразделимы. Он мог подолгу размышлять, анализировать, сомневаться, но если решение было принято, уже не колебался, отбрасывал все сомнения и активно действовал. В случае неудач, трудноразрешимых проблем или ошибок Лавров умел пользоваться прекрасным методом защиты – юмором. Он применял это оружие не только по отношению к прямому противнику, но и ко всей ситуации, умея посмотреть на нее как бы со стороны и посмеяться над ней. Он был способен тонко, неунизительно иронизировать и над самим собой, и над оппонентами.
Таким для меня был и навсегда остался Кирилл Юрьевич Лавров. Я делаю эти выводы и с расстояния во времени, и с высоты своего жизненного опыта, и очень хочу, чтобы портрет, созданный мной, был узнаваем.
У поэта Сергея Острового есть хорошие стихи о слове:
…Где б мне слово найти, чтобы свет оно людям несло
И людские недуги оно исцелило мгновенно?
Не устаю искать то слово, которое бы помогало надолго оставить память о Лаврове.
Повторю, Кирилл Юрьевич – личность не рядовая. Его характер формировала не только жизнь, но и память – личная, родовая, историческая. Бабушка по материнской линии, Ольга Леонидовна Лыкошина, была последней владелицей имения в селе Григорьевское, Вяземского уезда, Смоленской губернии, в трех километрах от Хмелиты, усадьбы Грибоедовых. Можно предположить, что многое в Лаврове от благородного дворянского века, от дружбы его предков с Александром Сергеевичем Грибоедовым. Аристократизму присущ героизм; чувства чести, совести, справедливости воспитывались в представителях этой среды сызмальства. Счастливой, неосознанной самим Кириллом Юрьевичем наследственностью определяется, вероятно, и красота его личности, и деликатность поведения, и культура речи, и благородство его поступков. Все это оказалось востребованным в должности руководителя великого театра.
Профессиональный опыт позволяет мне оценивать, насколько успех той или иной компании зависит от ее руководителя. Потому говорю уверенно: удержать театр, не дать ему развалиться в годы перехода от тотальной регламентации к полной, мыслимой и немыслимой свободе мог только такой могучий, одаренный человек, как Лавров. Играя героев на сцене и в кино, Лавров и в жизни был на них похож. Отвечал за свои решения и поступки, умел держать слово, никогда никого не предал.
Много добрых дел на счету Попечительского совета. Перечисление заняло бы не одну страницу. Расскажу лишь об одной акции, где мне посчастливилось быть рядом с Кириллом Юрьевичем.
В труппе БДТ жилищный вопрос, особенно в годы перестройки, стоял остро перед многими работниками театра, а каково было его решение и от кого оно зависело – не знал никто. Сплошная свобода, демократия и полная ото всего независимость.
Борис Глебович Контребинский долго уговаривал меня помочь в этом нелегком деле. Обдумав все «за» и «против», я решился. Особых «за» в этой ситуации я не видел. Можно было зачесть стоимость квартир за членские взносы участника Фонда, каковым являлся коллектив треста. Хватило бы лет на двадцать вперед. Но в данном случае требовалась реальная помощь театру, а не болтовня.
Посоветовался с Лавровым. Он долго молчал, потом резюмировал:
– Михаил Константинович, я мог бы сказать: как решишь, так и будет, а мы в любом случае будем благодарны. Просить совета не у меня надо! И совет, и разрешение ты получи от своего коллектива. Это ведь не мелочь, а огромные затраты, это средства, заработанные твоими людьми…
Я сделал так, как посоветовал Кирилл Юрьевич. Пришлось убеждать акционеров, приводя, как мне казалось, неотразимые аргументы. Согласие я получил, но заметил и взгляды недовольных этим благотворительным актом. Что и понятно: в нашем коллективе те же самые трудности с получением жилья.
В это время 47-й трест вел изыскательские работы на трех площадках города. Это – микрорайоны Дачное, поселок Стрельна и территория Нарвской заставы. Обсудив организационные дела, решили вместе с Кириллом Юрьевичем осмотреть все три «пятна» застройки и выбрать место под дом, где будут и театральные квартиры. Первый адрес – Стрельна.
По дороге я рассказал Кириллу Юрьевичу историю старейшего пригорода Санкт-Петербурга, где всего в 19 верстах от Северной столицы Петр I намеревался создать свою парадную летнюю резиденцию – «русскую Версалию». По его повелению ранее пустынное, заболоченное побережье было превращено в цветущий уголок с семейством загородных дворцов и «увеселительных садов» русской знати. Закладка парков и строительство сооружений в Стрельне не прекращались до середины ХХ века. В работах принимали участие мастера, имена которых составляют гордость не только русского, но и мирового зодчества. Среди них Б. Растрелли, Ж. Леблон, Н. Микетти, М. Земцов, П. Еропкин, А. Воронихин, Л. Руска. История поселка восходит к более отдаленным временам. Земли по южному побережью Финского залива были исконно-русскими и входили в Вотскую пятину Новгорода Великого. Император Павел I пожаловал Стрельну «с принадлежащими к ней деревнями» в собственность сыну, великому князю Константину Павловичу. Вот рядом с Константиновским дворцом и предполагалось строительство нашего дома.
Мы вышли из машины и вдоль железной дороги, мимо станции отправились к участку, где шли изыскания. Высокая трава, ручей, заросший камышами и покрытый болотной зеленью. Через ямы и рытвины кое-как выбрались на Львовскую улицу, к ветшающему, но все еще величественному дворцу князя Львова.
Его хозяина называли «огненным князем» и «первым огнеборцем России». Он владел первой в России частной пожарной командой, которую по последнему слову техники того времени организовал на своей даче в Стрельне. Стрельнинская пожарная команда князя Львова тушила огонь не только в Стрельне – ей приходилось выезжать даже к Нарвским воротам, а также действовать на всем протяжении дачного побережья до Ораниенбаума. Иногда пожарная команда, едва успев потушить один пожар, спешила на другой. Ежегодно в Стрельне устраивались праздники пожарной команды в честь заступления огнеборцев на свою вахту. Позднее Львов стал председателем Российского пожарного общества и почти до самой революции руководил пожарным делом в России. За свою общественную деятельность, в частности, за постройку в Стрельне на свои средства народного училища, ежегодные крупные пожертвования на содержание Общества спасания на водах и помощи пострадавшим на пожарах Александр Дмитриевич был награжден орденами Святой Анны и Святого Станислава.
Мы еще раз оглядели площадку и отправились в город.
– Сколько раз я бывал в Стрельне, но никогда так подробно не осматривал поселок, – уже сидя в машине, говорил Кирилл Юрьевич. – Это потому, что у меня сегодня прекрасный гид.
Микрорайон «Дачное» встретил нас огромными «пробками» из легковых машин, автобусов, троллейбусов, маршруток у метро «Проспект Ветеранов». Здесь, в узкой горловине на конечной станции метро, это повседневная картина. С большим трудом добрались до цели.
Условно Кировский район можно разделить на северную и южную части. Они формировались в разное время, и жилая застройка в них существенно различается. В южной части (Дачное, Ульянка) строительство велось в 60–70-е годы ХХ века, и жилье здесь самое разнообразное: «хрущевки», блочные дома, «брежневки», «корабли», новые серии. Вокруг станции метро «Проспект Ветеранов» – самый дорогой «новый» район. Территория Дачного ограничена проспектом Стачек, рекой Красненькой, линией Балтийской железной дороги и парком Александрино. Основную часть жилого фонда здесь составляют панельные пятиэтажки первых массовых серий, ими застроены целые кварталы. Примерно такая же картина наблюдается вдоль улицы Лени Голикова. Засилья панельных пятиэтажек не наблюдается лишь на нескольких участках в Дачном: между проспектами Дачным и Народного Ополчения, улицей Танкиста Хрустицкого и бульваром Новаторов. Здесь преобладают кирпичные пятиэтажные дома с компактной планировкой квартир. Квартал между проспектами Ленинским, Дачным, Ветеранов и улицей Зины Портновой застроен панельными домами 1970–80-х годов и «фасадными» кирпичными домами.
Устав от сутолоки возле метро, от ларьков и исходящих от них навязчивых запахов нерусской кухни, от шума и гама, кое-как добрались до машины. Доехав до Нарвских ворот, подкрепились в кафе. Оставив машину на площади Стачек, пешком прошли на улицу Метростроевцев.
В XVIII в. район площади Стачек являлся границей города. Здесь находилась Нарвская застава, откуда начиналось Петергофское шоссе в сторону Нарвы и Ревеля (г. Таллинн), а сейчас проходит современный проспект Стачек. Именно здесь 11 июня 1813 года петербуржцы встречали гроб с телом М. И. Кутузова. В центре площади установлены триумфальные Нарвские ворота, спроектированные В. П. Стасовым. Перед ними, примерно по направлению современного подземного перехода, ранее протекала речка Таракановка. Через нее был перекинут мост, оформленный в едином стиле с воротами. Речку закопали в 1929 году, тогда же был разобран и мост.
Мы вышли на улицу Тракторную, и я понял, что Кирилл Юрьевич не бывал здесь ни разу. Окружение удивляло его. Названа улица так в 1926 году в память о выпуске первых советских тракторов на заводе «Красный Путиловец». Квартал на Тракторной улице состоит из шестнадцати трех- и четырехэтажных домов, соединенных между собой полуарками. Простые по форме здания украшены балконами, подоконными тягами, козырьками над входами. Дома расположены вдоль улицы так, чтобы не образовывались дворы-колодцы, обычные для многих кварталов старого Петербурга. Пространства между зданиями превращены в скверы. Дома выкрашены в оригинальные яркие цвета. Во дворах – посыпанные песком дорожки и даже работающий фонтанчик.
То ли настроение было хорошее, то ли благим было дело, ради которого мы совершили это утомительное путешествие, ноя и Кирилл Юрьевич вдруг одновременно заметили, как высоко небо с перистыми облаками, как заботливо его свет наполняет уютные дворы на Тракторной улице.
Когда, возвращаясь к машине, мы подходили к улице Метростроевцев, я почувствовал, что именно это место Лаврову пришлось по душе. Правда, мотивы у него были не столь романтичными. На его взгляд, близость места к театру – самое главное. Я не спорил с ним, не убеждал, не доказывал. Он был прав.
«Что нам стоит, дом построить. Нарисуем – будем жить!» – эту фразу из известной песенки, ставшую поговоркой, помнят все. Но если бы ее автор знал, сколько копий сломано вокруг «нарисуем», переделал бы эту строчку. «Нарисовать» дом чрезвычайно трудно. Индивидуальный проект подразумевает большую творческую работу. Самое трудное для заказчика – передать архитектору свое видение будущего жилища. Очень часто представление об этом у самого заказчика оказывается весьма приблизительным. Приходится архитектору угадывать, вносить коррективы, додумывать… Дело небыстрое. Те, кого больше интересует не процесс, а быстрый результат, чаще всего пользуются типовыми проектами. Скоро, гладко, дёшево.
Многие заказчики боятся слова «типовой». Этот страх идет из прошлого века, когда огромные жилмассивы строились всего по нескольким проектам. Сразу вспоминается кинофильм «Ирония судьбы, или с легким паром». Но времена изменились, и сейчас можно найти всё, что угодно, – на любой вкус и кошелёк.
Первый плюс типовых проектов домов – простота и легкость выбора. Второй – дешевизна. Основной вопрос заказчика, желающего построить дом, звучит почти философски: «Что первично – проект или участок?» В России принято начинать строительство с участка. Типовых проектов нужной площади и планировки наверняка окажется достаточно много. Именно из них предстоит выбирать дом по внешнему виду и скомпоновать его с участком, или, наоборот, подыскивать участок под проект дома.
Цветовая гамма стен, крыши и прочее – не главное. Современные отделочные материалы позволяют легко всё поменять. Металлочерепица вовсе не обязана быть только красной, а отделочный камень – коричневым. Главное – пропорции дома и расположение его основных элементов. Если эти показатели вас устраивают, то необходимо ещё «приложить» дом к участку. Как дом будет смотреться? Удобны ли подходы и подъезды? В какую сторону света смотрят окна? Как выглядит дом в застройке улицы? Возможно ли соблюсти все требования на конкретном участке?
Нам с Кириллом Юрьевичем было проще, мы сразу же решили, что дом будет типовым и панельным. Главные преимущества панельного домостроения – максимально короткие сроки и стоимость. По этим показателям панельное жилье, видимо, еще очень долго будет оставаться вне конкуренции, даже при сильно отставшей в развитии производственной базе. Монтаж блок-секции панельного дома при хорошо отлаженном потоке занимает 3–4 дня, а сдача «под ключ» всего здания возможна за каких-то полгода. Поскольку основное производство остается в цехах, издержки от плохой погоды минимальны, и в экстремальных условиях на стройплощадке работает сравнительно немного людей, обеспечивающих монтаж коробки. Привлекательный современный монолит по-прежнему остается более трудоемким, чем панельное домостроение, он более требовательный по времени изготовления и стоимости.
Принципиально новый панельный дом обладает хорошим набором потребительских свойств. Он экологичен и пожаробезопасен. Его срок жизни примерно совпадает с человеческим веком, и, однажды решив жилищный вопрос, к нему в принципе можно уже не возвращаться. Более того, современные технологии позволяют легко загримировать внешний вид здания под кирпич.
Тип дома с Лавровым выбирали вместе. На рынке панельного домостроения в Петербурге работают несколько комбинатов. Основные – ДСК-3, Гатчинский ДСК, Гатчинский ССК, ДСК «Блок». Мы побывали в трех из них.
ДСК-3 ведет строительство домов по типовой серии, которая сменила на конвейере широко известные дома-«корабли». Между тем, это дома принципиально иной конструкции, с «кораблями» их роднят только газобетонные наружные стены.
Гатчинский ДСК – существует уже 45 лет. Свою деятельность начал со строительства жилья в Ленинградской области. В первой половине 90-х годов предприятие стало активно осваивать строительный рынок Петербурга. Производит жилье, зарекомендовавшее себя как демократичное и качественное.
Гатчинскому ССК – тоже немало лет, изначально он специализировался на строительстве зданий промышленного, сельскохозяйственного и социально-бытового назначения в Ленинградской области. В начале 90-х годов, как и Гатчинский ДСК, вышел на петербургский строительный рынок с жилыми домами. Эти дома от других отличают просторные квартиры с большими площадями комнат и кухонь, а также высота потолков в три метра.
Выбирали дом тщательно, вдумчиво, долго. Ездили с Лавровым по строительным площадкам, ходили по этажам новостроек. Я всегда. поражался его чувству долга. Человеку восьмой десяток, но он леток на подъем, с большим интересом относится ко всему, вникает в мелочи, расспрашивает, узнает, сомневается, советуется. Казалось бы, мог отмахнуться: выбирайте, мол, сами, вы специалисты, я со всем соглашусь. Конечно, как профессионалу он мне доверял, но считал необходимым лично участвовать в столь важном деле.
Выбор дома занял не один день, а наши беседы во время этих поездок могли бы составить отдельную книгу. Как-то в шутку Кирилл Юрьевич сказал: «Мне сейчас легче сыграть роль строителя, я ведь столько узнал секретов этой профессии. Но я понимаю, что это только первые шаги…»
Выбрали серию Гатчинского ССК. Очень уж понравилась она Кириллу Юрьевичу. Директор комбината, мой давний приятель Юрий Бойко даже отвез нас на завод и показал производственную линию. Достаточно быстро был сделан проект. Ну, а дальше начались согласования. Я уже рассказывал, как мы проходили через эту процедуру при строительстве студийного корпуса. Но то было несравнимо с новыми нашими страданиями!
Количество согласований, необходимых для строительства жилой недвижимости, в настоящее время составляет примерно двести двадцать позиций. На нашей площадке стояли руины школы. Службы МЧС потребовали провести исследования на наличие снарядов и бомб, службы Ленэнерго – запроектировать новую трансформаторную подстанцию и подвести к ней кабель. Теплосети велели реконструировать аж во всем квартале. Городские службы, стоящие на страже интересов народа, спокойно взирают на то, как монополисты (в основном это частные компании) решают за счет инвесторов свои проблемы.
Если учесть, что по объему производимой продукции и занятых людских ресурсов на строительную отрасль приходится примерно десятая часть экономики страны, то можно представить, как растет мощь организаций, имеющих право распоряжаться ресурсами, которые когда-то принадлежали всему народу.
В свои походы по этим организациям я старался Кирилла Юрьевича не брать. Помнил неприятный случай из прошлого, когда «пробивали» документацию по студийному корпусу театра. Нужно было получить согласование в Комитете по градостроительству и архитектуре – он совсем рядом с театром. Записались на прием к начальнику управления, как требовалось – за неделю. Чтобы решить вопрос сразу, пригласил Кирилла Юрьевича – как «тяжелую артиллерию».
Мы вошли в третий подъезд на улице Зодчего Росси. Узкий коридор переполнен людьми, не протолкнуться. Духота невыносимая. Кое-как добрались до приемной, представились. Секретарша, совсем юная особа, не поднимая головы, сухо буркнула:
– Ждите.
– Но мы же по записи, – возразил я.
– Без записи не принимаем, – тем же тоном ответила она.
Подождали. В кабинет входили какие-то другие люди, которым эта девчонка услужливо открывала дверь. Сесть было некуда: стулья у стены завалены папками с бумагами.
Через полчаса нашего мучительного «стояния» я подошел к стражу-секретарше и тихо сообщил, кто пришел вместе со мной. Никогда не забуду ее перекошенного лица. Она закричала, что я мешаю ей работать, что она выгонит меня из приемной. Это было унизительно и обидно и никак не согласовывалось с культурологическими смыслами деятельности организации, куда мы пришли уважительными просителями! Спасло то, что в приемную заглянул в этот момент один из руководителей комитета и, узнав Лаврова, быстро организовал встречу.
В кабинете находился человек, поведением очень похожий на свою секретаршу. Он был чрезвычайно недоволен тем, что ему помешали заниматься какими-то «неотложными» делами. Сколько самообладания было у Лаврова! Он не «качал» своих прав, которых было вполне достаточно для того, чтобы устроить показательный скандал. Только когда вышли из здания, сказал:
– Удивительная страна. Чиновники не работают на людей, которые их содержат.
Лаврова интересовало в новой для него задаче все. Например, формирование стоимости новой квартиры – из чего она складывается. Я читал ему маленькие «лекции». Он искренне удивлялся, что город занимается такими поборами. «Поборы» – это отчисления на инфраструктуру, плата за аренду земельного участка, за присоединение к инженерным сетям, всевозможные платы за разрешительные документы, штрафы, экспертизы, теплофизический и радиационный контроль, составление экологических паспортов, сертификация электроустановок, пробы воды… Причем выполняют это все государственные предприятия, которых мы и содержим, как налогоплательщики.
«Поборы» составляют до сорока процентов от себестоимости объекта.
– Куда идут деньги, перечисленные на инфраструктуру? – задал он мне вопрос.
Знал бы я ответ! Мы спрашиваем об этом власть уже несколько лет, но никогда не получаем ответа. Видимо, это «государственная тайна».
Несколько лет назад я обратился с запросом на эту тему к тогдашнему вице-губернатору Виктору Локтионову. При личной встрече он мне ответил: «Хочешь работать в городе, не задавай глупых вопросов».
Строительный комплекс сегодня – это тоже достаточно раздробленное, не управляемое из одного центра множество самостоятельно хозяйствующих субъектов, обладающих своими специфическими особенностями и не связанных друг с другом системными целями. В условиях недостаточно развитого строительного рынка, при отсутствии нормальной конкуренции происходит то, что происходит: кто еще вчера торговал валенками, сегодня строит жилые дома и финансовые пирамиды, «исчезая за горизонтом» при первых сигналах ответственности. Сколько обманутых дольщиков, искалеченных душ, убитых горем людей, трагедий и даже смертей.