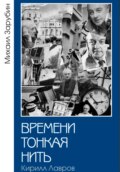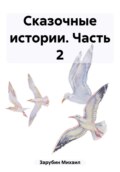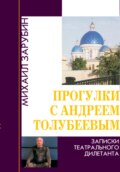Михаил Константинович Зарубин
Герои моего времени
Пришло время, когда мы решили все подготовительные вопросы: разработали документацию, согласовали ее, выполнили все экспертизы, получили разрешения, разобрали руины. С Кириллом Юрьевичем наметили время, пригласили гостей. Все собрались на строительной площадке. Стоял солнечный августовский день, украшенный высокими перистыми облаками и пронзительно чистым, по-настоящему голубым небом. Никогда бы не поверил, что несколько часов назад, ночью, свирепствовала гроза и ветром вырывало с корнями старые тополя. На соседней улице покалечило немало припаркованных машин.
В это краткое время года меня всё радует. И солнце в августе особое, пронзительно-нежное, дарящее себя в избытке – словно на зиму про запас. И звездные августовские ночи с их драматичными перепадами температур, первыми заморозками. Природа как будто по-матерински предупреждает о скорых невзгодах и помогает делать запасы света, тепла и надежды. В общем, – творческое это время – август!
Сорок с лишним лет я в строительстве. Но, начиная новый объект, будь это уже сотый или тысячный, всякий раз, как артист, выходящий на сцену, испытываю трепетное волнение: а получится ли в этот раз, удастся ли все задуманное?
Мы стояли с Лавровым рядом. После коротких речей он махнул рукой, огромный экскаватор вздрогнул, и первый ковш, до краев наполненный землей, стал поворачиваться к кузову машины.
В голове стучит одна мысль: только бы все вышло! В такие моменты все вокруг преображается, привычные вещи начинают приобретать особый смысл. Как тут не стать суеверным человеком, наверное, в каждой профессии есть свои предрассудки и свои приметы. Первый день начинается с традиционных ритуалов, за годы многократно отработанных. Но все равно боишься что то упустить из виду. Возникает ощущение, что к тебе, и только к тебе прикованы взгляды десятков людей, их слух устремлен лишь к твоим словам. Но вот все речи и напутствия позади, колесо завертелось, ты в отличной форме, и все идет, как всегда, как и задумано. Это тоже очень важно, так как человек начинает чувствовать себя более уверенным, понимать, что именно ради таких моментов стоит жить и трудиться!
На следующий год, поздней осенью, мы сдавали дом в эксплуатацию. За время строительства Кирилл Юрьевич часто приезжал на стройку, и каждый его приезд становился праздником. Все хотели пожать руку великому артисту, поговорить с ним, задать вопрос, пообщаться С «легендой»… Конечно, при его занятости и возрасте он мог не совершать утомительные поездки на стройку. Квартиры мы и так передали бы актерам! Или мог бы отправлять вместо себя директора театра, артистов. Но он приезжал сам.
Быть добрым хочет каждый, только не все почему то стремятся творить добро и жить на благо других. Кирилл Юрьевич относился к тем людям, само присутствие которых делало нас милосерднее, добрее. Доброта – это и безграничная любовь, и глубокое уважение, и светлые мысли, и благородные поступки, и, конечно, действия.
Однажды дав слово, что он будет на строительстве дома оказывать помощь всем, чем может, Лавров полностью сдержал его. Я был поражен его чувством долга и ответственностью. Порой так легко дать обещание и так трудно его выполнить! Всегда найдутся тому причины. Кирилл Юрьевич был обязательным человеком, он берег то доверие, которое оказывали ему окружающие.
Как же сейчас мне не хватает его! Будучи человеком скромным, доброжелательным, деликатным, он был способен встать на место другого, понять его трудности, отнестись к недостаткам и ошибкам великодушно и снисходительно.
Сколько проживу, буду хранить радостную о нем память.
Послесловие. Времени тонкая нить
Я пришел на открытие памятника Лавровым – Кириллу Юрьевичу и Валентине Александровне – и увидел символичный массивный православный крест из мрамора. Говорят, сам Лавров хотел такой. Религиозность свою он никогда не показывал, но жил по-христиански. На церемонию собрались самые близкие – дочь, сын, внучка. Пришли представители театра. Друзья. Все, кто хотел, сказали добрые слова и стали расходиться. День был холодный, с затяжным питерским дождем. Я, стоя поодаль, смотрел на мокрый мрамор креста холодного оттенка ненастного питерского неба и вспоминал живую, солнечную, незабываемую улыбку Лаврова. Вспоминал наше с ним общее.
…Словно в другой жизни это было. У меня юбилей – 60 лет. Дата такая, что особо радостной ее не назовешь. С другой стороны, конечно, «мои года – мое богатство». Зрелость, говорят, это мудрость, а если здоров, да еще и внуки есть, то и радость. И вообще: отмечаем мы день своего явления в этот благодатный мир, а не груз лет, отягощающийся каждым таким днем. По этому поводу мне нравится высказывание Бенджамина Франклина из книги «История своей жизни»: «Если бы мне позволили выбирать, я бы не возражал против повторения всей своей жизни с самого начала, испросил при этом только одну льготу, какой пользуются писатели при повторном издании своей книги, – возможность исправить ошибки, допущенные в первом издании».
Не люблю шумных застолий, но здесь – юбилей. Дочери Анна и Наташа выбрали символичное, благородно красивое место – знаменитый своим великолепием Юсуповский дворец. Дворец отличается редкой, даже по меркам старого Петербурга, роскошью интерьеров, пышным архитектурным убранством помещений, известен одной из богатейших художественных коллекций. Его миниатюрный театральный зал называют «малой Мариинкой». Только здесь и должны, по мнению дочерей, проходить юбилейные торжества. Пригласили родных, коллег по работе, друзей. В том числе из Сибири. Все, как полагается, все на должном уровне. Оставалось пригласить Лаврова. Вроде бы, какая проблема? Мы давно знакомы, проверенные партнеры, друзья – он сам это постоянно подчеркивает. Но не оставляли тревожные сомнения: а вдруг? Все же – это Лавров. Что ему какие-то строители? Это по делу мы друзья. Вдруг вежливо сошлется на что-нибудь неотложное? Но он ответил на приглашение коротко и уверенно:
– Спасибо, буду обязательно.
И пришел в назначенный час без опоздания. И ушел не раньше, чем стали расходиться гости. И охотно общался со всеми, подписывал какие-то книжки, открытки, которые ему протягивали поклонники его таланта. И сказал со сцены трогательную речь, полную добрых в мой адрес слов и пожеланий, отметив при этом, что ему повезло в жизни подружиться со мной и этой дружбой он дорожит.
Говорил он просто, не оригинальничал. Но то, как искренне он все это говорил, как легко и естественно держался, – дорогого стоит. Потом, уже в застольных разговорах по поводу юбилейной даты, все старался шутить: «Мне бы твои шестьдесят…» Мы говорили на обычные в таких случаях темы: о том, что годы летят, но душа не стареет в любом возрасте. И этот печальный закон – самая, быть может, большая непонятность в жизни.
Не забуду и нашу с Лавровым пресс-конференцию, которая проходила в канун трехсотлетия города. Мероприятие такого рода со столь именитым участником у меня было впервые. Волновался, как никогда раньше. Поводом для большого разговора с журналистами послужили наши совместные с театром проекты: строительство студийного корпуса, сдача жилого дома для актеров, сорокалетний юбилей треста и дальнейшие планы. Суть дела я понимал просто. У нас была редкая возможность хорошей рекламы среди потенциальных покупателей и инвесторов, если толково организовать этот разговор. Главное – привлечь как можно больше журналистов и хорошо представить трестовские «ноу-хау». На Лаврова, как на премьеру, журналисты пойдут плотными рядами, это ясно. А дальше – все сложится само собой. Мы же – 47-й Трест! Нам есть что сказать! У нас будут строительные новости из первых рук, особые мнения по проблемам производства, новаторский опыт возведения студийного корпуса БДТ, поставленного на шестнадцатиметровые сваи в кисельном грунте.
Лавров, для которого встречи с журналистами всегда были частью актерской и театральной работы, предупредил, что все не так просто. Самое трудное в общении с разного рода СМИ – это как раз такие собрания. Когда интервью один на один – проще. Быстро можно приноровиться к собеседнику, понять, насколько он информирован, о чем можно рассказать подробней, чтобы ничего не перепутал, о чем можно короче, о чем вообще не говорить, как вывести на нужные тебе вопросы. Если вопросов много и все от разных людей – нужна быстрая реакция, желательно остроумная. И непременно точная. Долгие и заунывные ответы не приветствуются, пишущая братия их плохо слушает и не понимает. Вообще надо внимательно следить за реакцией журналистов и действовать по обстановке. Важна импровизация, игра. Что получится из этой игры – об этом расскажут, покажут и напишут журналисты. Надо быть готовым к неожиданностям. В том числе и неприятным. Это издержки многолюдных пресс-конференций.
Выслушав внимательно рекомендации Кирилла Юрьевича, я их забыл, как только мы оказались за столом перед довольно большой и шумной аудиторией журналистов основных городских печатных изданий, радио и телевидения.
Лавров многих знает, кому-то машет, кому-то кивает. Начав конференцию сразу, без предисловий сообщает, что в новом здании, во дворе театра планируется размещение учебной студии, в которой начнет заниматься совместный актерско-режиссерский курс при театре. Студенты будут учиться в Театральной академии, а по окончании им будет выдаваться диплом государственного образца. И туг же вводит в разговор меня:
– За все сделанное я благодарю руководителя 47-го Треста Михаила Константиновича Зарубина. Это его идея – построить корпус. Это все он…
Я поднимаю руки, пытаюсь протестовать, но Лавров, улыбаясь, повторяет:
– Он, он… А я рад, что дожил до того события, когда в БДТ появилась своя творческая студия. В Театральном институте мы не всегда можем найти актеров, подходящих труппе БДТ. Руководители курсов забирают лучших студентов в свои театры, а нам выбора не остается. Теперь мы распорядимся сами. А курс в студии будет вести известный петербургский режиссер Григорий Дидятковский…
Потом Лавров, между делом, посетовал: накануне юбилея города, да и задолго до него, питерские власти совершенно не помогали товстоноговской сцене, ссылаясь на то, что театр находится в федеральном подчинении. А министерских денег долго ждать. Тогда и обратились к 47-му Тресту.
Зачин у Лаврова получился мощным. После чего я изготовился: сейчас мой черед, я окажусь в центре внимания, и налетят журналисты с вопросами и на меня. Вопросы полетели, только не мне, а опять Лаврову, и совсем не по теме конференции:
– Кто ваш преемник?
Лавров, хитро улыбаясь, отвечал:
– Я уже десять лет думаю об этом. Сложно найти такого человека. Советом старейшин, в который входят актеры, долгие годы работающие в театре и имеющие право определять его судьбу (среди них – Алиса Фрейндлих, Олег Басилашвили, Андрей Толубеев), предложено создать структуру, в которой Григорий Дидятковский займет пост главного режиссера, я же сохраню место художественного руководителя театра. А потом, со временем, он, возможно, станет и во главе театра…
Надо сказать, что так все и произошло, только главным режиссером был назначен Темур Чхеидзе. Чему, кроме прочего, поспособствовала и публикация в одном серьезном издании отчета о нашей пресс-конференции.
Наконец-то досталось вопросов и мне. Спросили о сорокалетии треста, которое мы отпраздновали в БДТ. Это был оправданный повод рассказать не только о празднике, но и о наших делах и перспективах. А тресту есть чем гордиться. Нас в городе знают. Поэтому в юбилейные торжества в театре был аншлаг. Среди гостей – председатель Госстроя страны, руководители города. Приветствия – от Госдумы, Совета Федерации. За свои сорок лет трест построил для страны и города много того, о чем не грех напомнить. А уж театральная студия – это и вовсе инновационная стройка… Я увлекался все больше. Но тут, воспользовавшись паузой в моем эмоциональном повествовании, заговорил Лавров:
– Я теперь все больше бываю на стройках, открывая для себя много нового. Строители – великая профессия. Ну, а 47-й Трест и Михаил Константинович Зарубин – это, смею утверждать, судьбой и делом проверенные друзья…
Потом мы так попеременно и говорили, и наш дуэт, по-моему, удостоился внимания придирчивой петербургской прессы. Уже после пресс-конференции Лавров подытожил: «Держался ты молодцом, но нельзя долго говорить на одну тему, даже о чем-то интересном. Внимание все равно ослабевает. Это психология…»
На следующее утро, купив газеты, я приготовился к чтению вариаций своего рассказа о необыкновенной театральной стройке, где нами были проявлены чудеса строительной изобретательности. И прочел: «Во дворе театра действительно появилось новое здание из серых плит газобетона с несоразмерно огромными арками на высоту двух этажей и тремя этажами над ними. Фуры, которые доставляют декорации, должны будут проезжать под этими арками к корпусу хранения декораций. Этим объясняется странное архитектурное решение здания, которое как бы нависает на столбах над и так небольшим двориком театра».
Большего внимания газетчиков удостоились театральные истории, а не строительные, хотя и те, и другие были вполне дельными и поучительными. Что касается оценки «странного архитектурного решения», прав Лавров, сделавший замечания по моему выступлению. Можно сколько угодно возмущаться: вы неправильно меня поняли. Но поздно – как поняли, так и написали…
У Кирилла Юрьевича было место, где он больше всего любил находиться в свободные часы и дни, – благословенная Вырица. Он приглашал меня и туда. Мы гуляли в зеленом лесу вдоль Оредежа, рядом с его дачей, и Лавров рассказывал мне историю этого дивного пригорода, любви к которому он не изменял никогда, хотя получал приглашения жить в Комарово, Репино. Сегодня растянулся вдоль железнодорожного полотна и реки почти на пятнадцать километров старинный поселок, город спутник Царского села – знаменитое дачное место еще дореволюционного Санкт-Петербурга, где жили князья Витгенштейны, Васильчиковы и многие другие известные люди России, свершал свой молитвенный подвиг святой Серафим Вырицкий. Полноценных улиц здесь почти триста. «По одной из версий название места произошло от русского слова “вырь”, что означает пучина, омут, – теперь просвещал меня уже Лавров. – Первыми жителями были четыре семьи саратовских поселенцев, которые, не выдержав каторжной работы на стройках Санкт-Петербурга, бежали и нашли приют в лесах около быстрой и чистой реки. Вокруг были поляны, пригодные для пашни».
– Видишь тот дуб? – показал Лавров. – Тот, что растет у реки? По преданию, он посажен первыми жителями…
Мы остановились и молча смотрели на гладь воды, на древний дуб, ощущая невыразимую благодать.
– Знаешь, – вдруг сказал Лавров, – иногда так хочется лечь в траву и смотреть в небо. Устаю… Мой отец ушел из театра почти сразу же, как только ему исполнилось шестьдесят. Помню его слова: «Лучше уйти на минуту раньше, чем на секунду позже». Он считал, что пенсионерам на сцене не место. Я его понимаю. Но вот у меня так не получилось. Стариков ведь тоже кому-то играть надо…
Он обнял меня по своему обыкновению за плечи, и мы пошли вдоль реки…
Солнечной лентой она петляла в высоких древних своих лесистых берегах, укрепленных цепкими корнями вековых сосен. Много досталось и на их века невзгод, одних войн не счесть. Но охраняемы и ныне те берега святыми церквами, украшены современными злато купольными дворцами и белокаменными усадьбами, возродившимся из небытия. Подумалось, что из космоса эта сияющая река, наверное, кажется тонкой вьющейся паутинкой, такой, какой мне и представляется серебристая ниточка времени.
Да, именно река всегда олицетворяла и путь человеческой жизни, и течение времени. Но глядя на неиссякаемые, чистые, по-молодому стремительные воды Оредежа, которые видели и помнят многих известных и неизвестных людей России, меня охватило не ощущение безысходной грусти по ушедшим временам, но чувство радостной веры в то, что имена и дела людей, любивших Россию и служивших ей, не исчезают в веках. Что время – вовсе не тонкая, рвущаяся нить, но непрерывный, жизнетворный поток, если этому времени служат такие люди, как Кирилл Юрьевич Лавров.
Прогулки с Андреем Толубеевыхи
Глава первая. Поклон театру
Больше всего на свете я люблю свою семью, работу и театр. Театр! О нем можно говорить бесконечно. С ним можно спорить. В нем можно жить, умирать, воскресать и жить вечно. Ему можно поклоняться и постоянно признаваться в любви.
Своей судьбой постигаю мудрые слова Шекспира: «Весь мир – театр. В нем женщины, мужчины – все актеры. У них свои есть выходы, уходы, и каждый не одну играет роль». Действительно, каждый из нас на протяжении жизни «не одну играет роль», если под ролью понимается не притворство, не заведомый обман, но перемена ролей является способом осознания себя и окружающих, методом исследования трудных, основополагающих вопросов человеческого бытия, постижением замысла Творца о тебе, выявлением твоего личного предназначения на земле.
Жизненные роли отличаются от театральных тем, что их нельзя подправить и переиграть заново. Только набело! Только от всего сердца! Только полной отдачей любви и умения можно с ними справиться и получить аплодисменты, как получают их на сцене и в час последнего прощания великие артисты, которые и свои роли играют так, как живут, то есть «без права на ошибку».
Выхожу после окончания спектакля на Фонтанку. Уже темно. Опираюсь на ограду реки. Долго смотрю на темную воду, забавляющуюся качанием на волнах зыбких отражений сопровождающих ее путь фонарей. Молчаливое общение с рекой – мой ритуал. После спектакля хочется как можно дольше сохранить в душе возникшие переживания, поразмышлять над неожиданными ситуациями и поставленными в спектакле вопросами, поделиться с кем-то понимающим своими впечатлениями. Кажется, река меня понимает, а главное, соглашается. Удивляюсь, как же много уму и сердцу дает мой самый любимый в Петербурге – Ленинграде театр – Большой драматический им. Георгия Александровича Товстоногова! Именно этому театру я признаюсь в любви. Именно ему кланяюсь до земли.
Как зарождается странное, порой мучительное, порой легкое, восторженное состояние, именуемое «любовью к театру»? Вероятно, у всех это происходит по-разному, в зависимости от возраста, воспитания, уровня культуры, места жительства и т. д. Но есть и общее – однажды возникнув, это состояние не покидает человека уже никогда. Очень точно это чувство описал Михаил Афанасьевич Булгаков в своем «Театральном романе».
У меня свой роман с театром, который бы я назвал «Театральный роман строителя», и начался он давным-давно. Настоящий профессиональный театр впервые я увидел пятнадцатилетним мальчишкой, когда приехал из сибирской деревни в большой город Иркутск. Нечего и говорить, что при первом знакомстве Иркутск показался мне поистине сказочным, соответствующим своему второму имени – «жемчужина Восточной Сибири».
В старой части Иркутска – уникальные архитектурные ансамбли Драматического театра и Театра музыкальной комедии, нарядное в своем сложном мавританском стиле здание краеведческого музея, скромный домик декабриста Трубецкого и, главное – владычица этой земли Ангара, непохожая ни на одну реку мира.
Первым спектаклем, который я посмотрел в Иркутском драматическом театре, стал гоголевский «Ревизор». Я не смогу в точности описать, что со мной происходило во время действия, однако помню, что мои соседи – пожилая семейная пара – нетерпеливо и неодобрительно поглядывали в мою сторону. Видимо, я слишком бурно выражал свои эмоции – смеялся в общественном месте громче дозволенного, аплодировал эмоциональнее и дольше всех, пока окончательно не закрылся занавес и не опустел зал… В общежитие я возвращался поздно, уже прохладной, немного остудившей мой театральный пыл осенней ночью. Мое тогдашнее состояние можно определить как восторженно-бредовое. Необъяснимый подъем владел мною. По дороге я корчил рожи, воображая себя главным героем, жестикулировал, повторял запомнившиеся из пьесы фразы… Хорошо, что улицы в тот поздний час были уже пустыми, и некому было осуждать мое в высшей степени странное поведение. Но мне казалось, что я еще в театре, я остался в нем вместе с героями, которые приняли меня радостно и дружелюбно. Ни о каких «четвертых стенах» я тогда не знал и не размышлял. Я жил театром. Чья в том заслуга? Театра или моей восприимчивой, ожидающей чуда души? Не знаю.
Театр стал моей жизнью, я это почувствовал сразу. И позже, когда я уже работал по строительной специальности, посещение театра для меня было праздником. А бывая в командировках в других городах, никогда не отказывал себе в радости посетить местные драмтеатры, будучи убежден: театр – лицо города, показатель его духовного климата. С опытом «старого театрала» могу сказать – в любом, даже маленьком, провинциальном театре всегда найдется что-то для души.
Но театр для меня был интересен не только постановками, но историей возникновения и развития, о чем я упорно пытался узнать из доступных мне книг. Много, помнится, я читал о своем Иркутском драматическом театре. Попробую что-нибудь вспомнить и сейчас.
Появился он в 1850 году, когда генерал-губернатор Николай Муравьев-Амурский, известный любитель театра и меценат, уговорил труппу странствующих актеров остаться в городе и поработать несколько сезонов. Первые спектакли артисты давали в Благородном собрании, а через год завершилось строительство здания театра, которое торжественно открылось постановкой пьесы Н. Полевого «Русский человек добро помнит».
Разумеется, первое здание было деревянным и просуществовало недолго – история типичная – оно сгорело. Такая же участь постигла и несколько последующих театральных зданий, но в феврале 1893 года в Петербургском обществе архитекторов был объявлен конкурс проектов нового драматического театра в Иркутске. Из тридцати четырех представленных работ лучшим был признан проект профессора архитектуры В. Шретера.
Современники считали Иркутский театр лучшей постройкой этого типа в России, настоящей архитектурной жемчужиной. Здание отличалось не только богатым убранством зала, но и совершеннейшей акустикой. В 1995 году театру был присвоен статус Памятника исторического и культурного наследия федерального значения.
На гастроли в Иркутск приезжали известнейшие мастера русского театра: Варламов, Долматов, Орленев, Бравич. Не раз побывал в городе передвижной театр Гайдебурова, здесь играла труппа Малого театра, подолгу гастролировали актеры театра Корша.
Нет, я не был театральным «фанатом», не караулил артистов у служебного входа, не клянчил автографов, но каждое посещение театра для меня, а позднее для всей моей семьи, было праздником, открытием.
В Санкт-Петербург – Ленинград я попал уже взрослым, сложившимся человеком. Театральной жизни города я тогда не знал совсем, некоторые ленинградские труппы видел в Сибири на гастролях и судил о них по одному-двум спектаклям. Этого оказалось достаточно, чтобы сразу и навсегда влюбиться в Большой драматический театр, возглавляемый Георгием Александровичем Товстоноговым. Теперь театр носит имя прославленного режиссера…
Мне кажется, что Большой драматический театр похож на отдельное государство с очень маленькой территорией, но громадным культурным влиянием. Население этой театральной страны невелико. Прирастает оно медленно – каждого вновь пришедшего проверяют раз, потом еще раз, а потом берут… на испытание! Ни о каком «радетельном» приросте не может быть и речи: у меня, дескать, и сын подрос, а я, дескать, замуж вышла, ау меня подруга жизни завелась, так давайте и их в нашу общую страну. Речи об этом быть не может. Убыль населения происходит только естественным путем.
Границы государства – стены театра, главная из них фасадная стена – знаменитая, определяющая на протяжении века узнаваемый внешний вид этого театрального храма. Фасад, богато декорированный лепниной в стиле поздней эклектики, имел за время существования театра разные оттенки, но в середине ХХ века, во время наивысшего расцвета сцены БДТ, утвердилась особенная бело – зеленая гамма, позволяющая узнавать легендарное здание на любых изображениях. Фасад – тоже четвертая стена театра в его зримой форме. Отгораживающая таинственный театральный мир от мира обыденного, она выполняет не только архитектурно-конструктивную функцию, но несет особый смысл. Прекрасный фасад театра символизирует суть театрального искусства – воспитывать в людских душах прекрасные чувства. За таким фасадом не могут идти спектакли, унижающие человеческий образ, модные сегодня во многих коммерческих театриках.
Знамя БДТ – Георгий Александрович Товстоногов (1915–1989). Деяния его увековечены его именем. Один из лучших театров России – бывший Суворинский театр, бывший театр им. Горького – носит имя прославленного режиссера.
Сегодня, во времена тотального слома традиционных духовно-нравственных парадигм, откровенного уничтожения театра в его историческом определении, БДТ – именно в силу своей славной истории и классического наследия, находится в непростом положении, в эпицентре поиска, отыскания новых направлений при соблюдении присущей ему от рождения системы ценностей. Театрам-легендам сложнее других выживать в современной культурной ситуации.
Большое значение для судьбы театра имело привлечение на должность председателя Директории БДТ Александра Блока. Меня удивило это назначение поэта, но когда после театроведческих изысканий я выяснил, что Александр Александрович был по существу художественным руководителем БДТ, меня это заставило задуматься о целостности полотна культуры, о соседстве и взаимообогащении жанров. Со школьной скамьи Блок в моем сознании – пролетарский поэт. Его «Двенадцать», «Скифов» мы заучивали наизусть. В юности завораживали стихи о Прекрасной даме. Об остальных его увлечениях и работе я знал очень мало. Все затмевала его поэзия. Во время празднования 90-летия БДТ на № 2 э. малой сцене театра я впервые увидел пьесу Блока «Роза и крест» в постановке художественного руководителя государственного Пушкинского центра Владимира Рецептера, когда-то служившего в Большом Драматическом театре. Я был потрясен, заворожен, увлечен этой историей любви и одиночества. За сказочным сюжетом скрывался глубокий драматизм, где сон и явь нераздельны, где наслаждение, радость жизни переплелись со страданием, выпавшим на долю героя. Здесь сошлось все: гнет безнравственности и нравственная свобода, добро и зло, богатство и бедность. Блок открылся для меня новыми гранями. Выдающийся поэт, оказывается, был и выдающимся драматургом.
Я знаю театр БДТ и хожу на его спектакли уже тридцать лет. Для меня он всегда интересен. Но на протяжении ХХ века театр не миновали и переломы, связанные с репертуарными и идеологическими поисками. Творческий кризис БДТ, обозначившийся еще в середине 1930-х, в послевоенные годы усугубился. Театр, который носил имя Максима Горького, переживал тяжелый период. С 1949 по 1956 год здесь сменилось четыре главных режиссера. В сезон 1953–1954 годов в БДТ вообще не было главного режиссера, театр управлялся режиссерской коллегией. В условиях, когда едва ли не каждый год у руля БДТ вставал новый человек, ни о каком плане развития театра, сложившейся репертуарной линии речь не шла. «Режиссерская чехарда» негативно сказалась на управляемости театром, актерская труппа легко «съедала» неугодных режиссеров. При том, что в БДТ в тот момент было немало талантливых актеров, штат был непомерно раздут. Все это привело к потере театром творческого авторитета, так что БДТ в середине 1950-х оказался в числе аутсайдеров ленинградской театральной жизни. У театра не было «своего» зрителя, спектакли шли при полупустых залах, новые постановки негативно воспринимались театральной критикой, и финансовое положение было весьма плачевным.
Кто сейчас верит в чудеса? Я! Будучи взрослым человеком, я знаю точно, чудеса бывают. Чудо произошло – когда не иначе, как промыслительно, какой-то деятель от культуры повелел назначить в БДТ нового художественного руководителя с фамилией Товстоногов.
Товстоногов, который за шесть лет на посту главного режиссера Ленинградского театра им. Ленинского Комсомола заставил говорить взыскательную ленинградскую театральную общественность о себе как о чрезвычайно талантливом и успешном режиссере, не сразу принял предложение возглавить БДТ. Однако для спасения «первого пролетарского театра», по настоянию курирующих театры властных и партийных органов Ленинграда, 13 февраля 1956 года Товстоногов все же становится главным режиссером БДТ. Таково начало. Оно бывает в каждом деле. Даже в превращении театра в легенду.
Было очевидно, что для возвращения Большому Драматическому театру им. Горького прежней славы требуются быстрые, решительные и жесткие меры. Товстоногову были предоставлены широкие полномочия. Для проведения административной реорганизации директором театра был назначен Георгий Михайлович Коркин. «Он был жесток, он был беспощаден. Он мог все реорганизовать, уволить всех, кого надо», – говорили о нем. Со временем, общаясь с заместителем директора театра Вениамином Наумовичем Капланом, я убедился, что непререкаемость Георгия Коркина слишком преувеличена. В те времена уволить кого-либо вообще было трудно: партком, профком, худсовет – все это Советская власть, зорко следившая за штатом театра. Разбухшую труппу уменьшали с помощью Министерства культуры, а по личностям – решал худсовет. Директор был исполнителем, но память человеческая оставила за ним, как действующим лицом, участие в тех событиях. Из Ленинградского Ленкома Товстоногов пригласил в БДТ заведующую литературной частью театра Дину Морисовну Шварц. На своей первой встрече с труппой, коснувшись темы «съедания» труппой художественных руководителей театра, Товстоногов заявил: «Должен сразу предупредить: я несъедобен».
В истории театра началась новая эпоха. В течение 33 лет, до самой своей смерти, Товстоногов возглавлял БДТ, подобно зодчему, терпеливо и настойчиво возводил творческое здание театра, учитывая возможности труппы в целом и каждого актера в частности, внешние обстоятельства и собственные режиссерские интересы и пристрастия. У него была своя театральная идея и огромная сила созидания. Он создал театр, который, на протяжении трех десятилетий, неизменно оставался одним из лидеров отечественного, убежден, и мирового театрального процесса. Внутри театра Товстоногов являлся непререкаемым творческим авторитетом. В театре ничто не происходило без его соизволения. Это был хозяин. Все, что делалось в коллективе, было осуществлением его знаменитой формулы: «Театр – это добровольная диктатура». Он был диктатором, лидером, воле которого подчинялись безоговорочно. Но основывалось это подчинение не на должностном уставном самоуправстве, а на таланте и непререкаемости творческого авторитета. Он был энциклопедически образованным, душевно мудрым человеком. И о театре заговорил весь город.