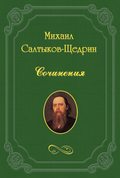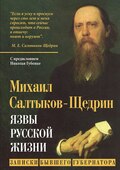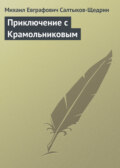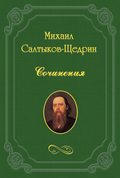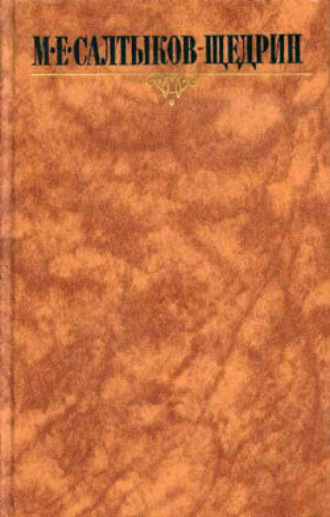
Михаил Салтыков-Щедрин
За рубежом
– В пререканиях власть почерпала не слабость, а силу-с; обыватели же надежды мерцание в них видели. Граф Михаил Николаевич – уж на что суров был! – но и тот, будучи на одре смерти и собрав сподвижников, говорил: отстаивайте пререкания, друзья! ибо в них – наш пантеон!
А Дыба с своей стороны удостоверял:
– Что положение пререкателей было небезопасно – это так; что большинство их кончало служебную карьеру, рассеянное по лицу земли, – и это верно. Но бывали, однако ж, случаи, когда и скромный голос советника губернского правления достигал до ступеней-с…
И затем, застыдившись и крякнув (дело, очевидно, касалось его личности), присовокуплял:
– Я сам один пример такой знаю. Простой советник, а на целую губернию сенаторский гнев навлек-с. Позвольте вас спросить: если б этого не было, могла ли бы истина воссиятъ-с?
Как хотите, а я положительно стою на стороне Удава и Дыбы. Конечно, я понимаю, что собственно "пантеона" тут нет, но ежели уж ничего другого не выработалось, то пусть остаются хоть пререкания. Если нет подлинной надежды, то пусть будет хоть мерцание надежды. Если нет подлинных перспектив, то пусть остается в перспективе "сенаторский гнев". Не приходится нам быть прихотливыми, и до тех пор, покуда в основании нашей жизни лежит пословица: выше лба уши не растут, то ладно будет, если хоть кой-какие обрывочки "перспектив" на нашу долю выпадут. Если что выпадет – лови! а не выпадет – жди и воспитывай в себе "надежды мерцание". Все-таки хоть что-нибудь, а не голое "ничего". Что же касается до власти, то и в этом отношении я согласен с Удавом: не слабость она почерпала в пререканиях, а силу. Прежде всего, общее правило: ежели надоел пререкатель, то ничего не стоит его расточить – разве это не сила? А затем и другая сила: обыватель, зная, что у него есть за спиной пререкатель, смотрит веселее, думает: пока у нас Иван Иваныч в советниках сидит, опасаться мне нечего. Так что ежели Иван Иваныч сидит долго (бывали в старину, по упущению, и такие случаи), то обыватель начинает даже гордиться и впадает в самонадеянный тон. "Совсем уж у нас не такая форма правления, как внутренние враги пишут! нет! у нас чуть немного… Иван Иваныч как раз сократит!"
Право, это было очень удобно. И прежде всего удобно для самой бюрократии, потому что смягчало ее ответственность и ограждало ее репутацию от нареканий. А главное, заставляло ее мотивировать свои действия и в "понеже" и "поелику" искать прибежища от внезапностей. Мысль остепенялась, да и сам бюрократ смотрел осанистее, умнее. А обыватель утешался тем, что он хоть что-нибудь да понимает…
Но опытные служаки идут еще дальше. Удав, например, охотно брал на себя даже защиту ябедников и ябедничества, и опять-таки ссылался на авторитет графа Михаила Николаевича.
– Вы, сударь, не шутите с ябедниками, – говорил он мне, – в древние времена ябедник представлял собою сосуд, в котором общественная скорбь находила единственное и всегда готовое убежище. И без торгу, сударь; бери двугривенный и пиши! За двугривенный человек рисковал, что его и в бараний рог согнут, и в табак сотрут, и туда зашвырнут, куда ворон костей не заносил! Где нынче таких героев сыщешь! И сколько, спрошу я вас, было нужно скорбей, сколько презрения к жизненным благам в сердце накопить, чтобы, несмотря ни на какие перспективы, в столь опасном ремесле упражнение иметь? Всю жизнь видеть перед собой "раба лукавого" 19, все интересы сосредоточить на нем одном и об нем одном не уставаючи вопиять и к царю земному, и к царю небесному – сколь крепка должна быть в человеке вера, чтоб эту пытку вынести! А сколько их погибло… всячески погибло-с! и под бременем прозрения от своих, и под начальственным давлением! Полки можно было бы из этих ревнителей поруганной общественной совести сформировать!
– Но какую же пользу они могли приносить, коль скоро с ними так легко можно было по всей строгости поступить? – возражал я.
– А ту пользу, что сегодня, например, десять "ябедников" загублено, а завтра на их месте новых двадцать явилось! А кроме того, смотришь, одного какого-нибудь и проглядели. Сидел он где-нибудь тихим манером в кабачке, пописывал да пописывал – глядь, ан в губернию сенаторский гнев едет! Откуда? как? кто навлек?.. Ябедник-с!
Как это ни странно с первого взгляда, но приходится согласиться, что устами Удава говорит сама истина. Да, хорошо в те времена жилось. Ежели тебе тошно или Сквозник-Дмухановский одолел – беги к Ивану Иванычу. Иван Иваныч не помог (не сумел "застоять") – недалеко и в кабак сходить. Там уж с утра ябедник Ризположенский с пером за ухом ждет. Настрочил, запечатал, послал… Не успел оглянуться – вдруг, динь-динь, колокольчик звенит. Кто приехал? Иван Александров Хлестаков приехал! Ну, слава богу!
Я не утверждаю, конечно, чтоб все это, вместе взятое, представляло настоящие гарантии; я говорю только, что было мерцание надежд. Были пререкания (даже два чиновника специально для пререканий: прокурор и жандармский штаб-офицер; им же предоставлялось отирать слезы), были ябедники. Теперь пререкания признаны предосудительными, и ябедники, с распространением хороших манер, извелись сами собой. Вместе с ними извелось и исчезло достопочтенное "понеже", которое так или иначе, но все-таки остепеняло разнузданную бюрократическую мысль и налагало на нее известные обязанности. Все прочее осталось. То есть остался граф ТвэрдоонтС с теорией повсеместного смерча и с ее краткословной формулой: пошел!
Мне скажут, быть может, что теория смерча оказалась, однако ж, несостоятельною, и вследствие этого граф ТвэрдоонтС ныне уже находится не у дел. Стало быть, правда воссияла-таки…
А сколько он народу погубил, покуда его теория оказалась несостоятельною? И кто же поручится, что он не воспрянет и опять? что у него уж не созрела в голове теория кукиша с маслом, и что он, с свойственною ему ретивостью, не поспешит положить и эту новинку на алтарь отечества при первом кличе: шествуйте, сыны!
* * *
По-настоящему мне следовало бы, сейчас же после свидания с графом ТвэрдоонтС, уехать из Интерлакена; но меня словно колдовство пришпилило к этому месту. В красоте природы есть нечто волшебно действующее, проливающее успокоение даже на самые застарелые увечья. Есть очертания, звуки, запахи до того ласкающие, что человек покоряется им совсем машинально, независимо от сознания. Он не анализирует ни ощущений своих, ни явлений, породивших эти ощущения, а просто живет как очарованный, чувствуя, как в его организм льется отрада.
Нечто подобное испытал и я. Всякая дребедень лезла мне в голову: и теория смерча, и теория кукиша с маслом, и еще какая-то совсем новая теория умиротворения, но не без участия строгости и скорости. Но и за всем тем чувствовалось хорошо. Эти тающие при лунном свете очертания горных вершин с бегущими мимо них облаками, этот опьяняющий запах скошенном травы, несущийся с громадного луга перед Hoheweg, эти звуки йодля 20, разносимые странствующими музыкантами по отелям, – все это нежило, сладко волновало и покоряло. И я, как в полусне, бродил под орешниками, предаваясь пестрым мечтам и не думая об отъезде.
Само собой разумеется, что в этих мечтаниях немалое место занимала и литература. Русские газеты получаются и в Интерлакене, а тут, как раз кстати, и в иностранных и русских журналах появились слухи о предстоящих для нашей печати льготах 21. Натурально, я взволновался: но что всего страннее, мне показалось, что вместе со мною взволновался и весь Интерлакен. Думалось, что на меня все смотрят с каким-то напряженным любопытством, словно у всех – даже у кельнеров – одна мысль в голове: освободят его или окончательно упекут?
Что касается до меня лично, то я не только не ставил себе никаких вопросов, но просто-напросто заранее предвкушал. Мне нравился молодой задор русских газет, которые в один голос предвещали конец административному произволу и громко призывали на печать кары суда. Все глаза как-то разом раскрылись, и жизнь без суда вдруг оказалась нестерпимейшею из обид, когда-либо ниспосланных разгневанным небом для усмирения бунтующей человеческой плоти. Одно только смущало: ни в одной газете не упоминалось ни о том, какого рода процедура будет сопровождать предание суду, ни о том, будет ли это суд, свойственный всем русским гражданам, или какой-нибудь экстраординарный, свойственный одной литературе, ни о том, наконец, какого рода скорпионами будет этот суд вооружен.
Я знал, что русская печать вообще скромная и потому о многом умалчивает; но тут мне показалось, что скромность как будто и не совсем уместна. Разумеется, нам, как литераторам, оно понятно, что по суду и скорпиона приятно проглотить, – особливо ежели он запущен на точном основании, – но ведь надо же, чтоб и публика поняла, почему судебный скорпион считается более подходящим, нежели скорпион административный. Поэтому восторг восторгом, а все-таки не худо было хоть сторонкой заявить: от суда, мол, мы не прочь, но только нельзя ли постараться, чтоб оный вместить было можно.
Виноват: было и еще одно смущающее обстоятельство. Радуясь предстоящему пришествию судебных скорпионов, газеты, к сожалению, не воздержались от издевок над скорпионами административными. Вот, мол, сколько вы ни старались, а в результате все-таки получили шиш! Если вы изыскивали средства, то и литература изыскивала средства. Выдумываете вы, бывало, какую-нибудь выдумку и воображаете себе: ну, теперь будет крепко! а литература возьмет да другую выдумку выдумает, и окажется, что вы палите из пушек по воробьям. А потому уходите-ка лучше вы с глаз долой, бессильные, постылые, неумелые! и очистите место другим, кои это дело в аккурате поведут!
Признаюсь откровенно: этого даже и я, литератор, не понял. Положим, что административные скорпионы были бессильны и что литература находила возможность ускользать от них… Но в чем же тут неудобство? и для чего, вместо мнимых скорпионов, понадобились скорпионы подлинные?..
Я почти тридцать пять лет литераторствую, не пользуясь покровительством законов, но и за всем тем не ропщу. Бывали, правда, огорчения, и даже довольно сильные – иногда казалось, что кожу с живого сдирают, – но когда приходила беда, то я припоминал соответствующие случаю пословицы и… утешался ими. Бывало, призовут, побранят – я скажу себе: брань на вороту не виснет. Или, бывало, местами ощиплют, а временем и совсем изувечат – я скажу себе: до свадьбы заживет. В моих глазах, произвол имеет ту выгодную сторону, что он для всех явно несомнителен. Он не может ни оскорбить, ни подлинно огорчить, а может только физически измучить. Никому не придет в голову справляться, правильно или неправильно поступил произвол, потому что всякому ясно, что на то и произвол, чтоб поступать без правил, как ему в данную минуту заблагорассудится. Так что ежели у произвола и была жестокая сторона, к которой очень трудно было привыкнуть, то она заключалась единственно в том, что ни один литератор не мог сказать утвердительно, что он такое: подлинно ли литератор или только сонное мечтание. Дунул – и нет его.
Тем не менее для меня не лишено, важности то обстоятельство, что в течение почти тридцатипятилетней литературной деятельности я ни разу не сидел в кутузке. Говорят, будто в древности такие случаи бывали, но в позднейшие времена было многое, даже, можно сказать, все было, а кутузки не было. Как хотите, а нельзя не быть за это признательным. Но не придется ли познакомиться с кутузкой теперь, когда литературу ожидает покровительство судов? – вот в чем вопрос.
Я боюсь кутузки по двум причинам. Во-первых, там должно быть сыро, неприятно, темно и тесно; во-вторых – кутузка, несомненно, должна воспитывать целую кучу клопов. Право, я положительно не знаю такого тяжкого литературного преступления, за которое совершивший его мог бы быть отданным в жертву сырости и клопам. Представьте себе: дряхлого и больного литератора ведут в кутузку… ужели найдется каменное сердце, которое не обольется кровью при этом зрелище?
Тем не менее покуда я жил в Интерлакене и находился под живым впечатлением газетных восторгов, то я ничего другого не желал, кроме наслаждения быть отданным под суд. Но для того, чтоб это было действительное наслаждение, а не перифраза исконного русского озорства, представлялось бы, по мнению моему, небесполезным обставить это дело некоторыми иллюзиями, которые прямо засвидетельствовали бы, что отныне воистину никаких препон к размножению быстрых разумом Невтонов полагаемо не будет. А именно:
1) Чтобы процедура предания суду сопровождалась не сверхъестественным, а обыкновенным порядком.
2) Чтобы суды были тоже не сверхъестественные, а обыкновенные, такие же, как для татей.
3) Чтобы кутузки ни под каким видом по делам книгопечатания не полагалось. За что?
Ежели эти мечтания осуществятся, да еще ежели денежными штрафами не слишком донимать будут (подумайте! где же бедному литератору денег достать, да и на что?.. на штрафы), то будет совсем хорошо.
Я помню, эта триада так ясно сложилась в моей голове, что, встретив в тот же вечер под орешниками графа ТвэрдоонтС, я не выдержал и сообщил ему мой проект.
С первого абцуга он даже одобрил.
– Вы логичны, Подхалимов! – сказал он мне, – и, в сущности, быть может, даже правы. Я удивляюсь полету вашей фантазии и нахожу ваш вымысел в высшей степени благородным… но!
Но потом вдруг засверкал глазами и забормотал:
– Но пресса… вы понимаете?.. вы говорите, что это сила… прекрасно!.. но сила… и притом… Откуда, спрашиваю вас, зло?.. Но положим, однако ж… допустим, что это сила… пусть будет по-вашему… Но это сила… О! го-го-го!
Он не выдержал и, вынув из кармана трубу, протрубил:
Трубят в рога!
Разить врага!
Давно пора!
И зачем только я этот разговор завел?!
* * *
Но вопрос об оскудении бюрократического творчества продолжал терзать меня. Я видел пагубные последствия этого поветрия на графе ТвэрдоонтС и не мог не трепетать за будущее России. Этот человек дошел наконец до такой прострации, что даже слово «пошел!» не мог порядком выговорить, а как-то с присвистом, и быстро выкрикивал: «п-шёл!» Именно так должен был выкрикивать, мчась на перекладной, фельдъегерь, когда встречным вихром парусило на нем полы бараньего полушубка и волны снежной пыли залепляли нетрезвые уста. Но замечательно, что тот же самый ТвэрдоонтС, как только речь касалась предметов его компетентности, говорил не только складно, но и резонно. Так, например, однажды при мне зашел у него с Мамелфиным разговор о том, что есть истинная кобыла и каковы должны быть у нее статьи? – и я решительно залюбовался им. Совсем другой человек стоял передо мной. Умен, образован, начитан и… доброжелателен. И он знал кобылу, и кобыла знала его. Общие положения, выводы, цитаты – так и сыпались…
Как бы то ни было, но я решился от самого графа ТвэрдоонтС добиться разъяснения этой тайны.
– Граф! – сказал я, встретившись с ним, – будьте так добры разрешить мое недоумение: отчего наше бюрократическое творчество до такой степени захудало?
– Я вас не понимаю, – ответил он холодно, оглядывая меня с ног до головы.
– Позвольте пояснить примером. Отчего, например, как только дело коснется вопросов внутренней политики, или благоустройства, или, наконец, экономии, – вы ничего не имеете сказать, кроме: "п-шел!"
Он вновь пытливо взглянул на меня, как бы подозревая, не расставляю ли я ему ловушку. Но в голосе моем не слышалось и тени озорства; одна душевная теплота – и ничего больше. Он понял это.
– Вы правы, мой друг! – сказал он с чувством, – я действительно с трудом могу найти для своей мысли приличное выражение; но вспомните, какое я получил воспитание! Ведь я… даже латинской грамматики не знаю!
– Ах, ваше сиятельство, это ужасно!
– Вот Мамелфин – тот счастливее меня! Он Евтропия в своем "заведении" переводил!
– Но если вас не учили латинской грамматике, то в чем же состояло ваше воспитание?
– Нас заставляли танцевать, фехтовать, делать гимнастику. В низших классах учили повиноваться, в высших – повелевать. Сверх того: немного истории, немного географии, чуть-чуть арифметики и, наконец, краткие понятия о божестве. Вот и все. Виноват: заставляли еще вытверживать басни Лафонтена к именинам родителей…
– Ваше сиятельство! не помните ли какой-нибудь басенки? – вдруг разохотился я.
– Помню и даже с удовольствием прочитаю.
И он, не выжидая дальнейших просьб, начал:
Maitre corbeau, sur un arbre perche,
Tenait en son bec un fromage…[56]
Он декламировал так мило и так детски отчетливо, что даже посторонние прохожие останавливались и любовались.
– Прекрасно! – похвалил я, – но понимаете ли вы, граф, смысл этой басни?
Он на минуту задумался.
– До сих пор, – сказал он, – я не думал об этом; но теперь… понимаю! Знаете ли вы, Подхалимов, что в этой басне рассказана вся моя жизнь?
– Это весьма возможно, граф!
– Именно так. Было время, когда и я во рту… держал сыр! Это было время, когда одни меня боялись, другие – мне льстили. Теперь… никто меня не боится… и никто не льстит! Как хотите, а это грустно, Подхалимов!
– Бог милостив, ваше сиятельство!
Он не отвечал и некоторое время, понурив голову, шел рядом со мной по аллее.
– Моя жизнь – трагедия! – начал он опять, – никто не видел столько лести, как я, но никто не испытал и столько вероломства! Ужасно! ужасно! ужасно!
– Ваше сиятельство! позвольте вам доложить! Это всегда так бывает. Коль скоро человек взбирается на высоту, не зная латинской грамматики, то естественно, что это наводит на всех страх. А где страх, там, конечно, и лесть. Зато потом, когда обнаруживается, что без латинской грамматики никак невозможно, и когда, вследствие этого, человек оказывается несостоятельным и падает, тогда, само собой разумеется, страх и лесть исчезают, а вместо них появляется озорство и вероломство. По крайней мере, так идет эта процедура у нас.
– Понимаю я это, мой друг! Но ведь я человек, Подхалимов! Homo somo, как говорит Мамелфин… то бишь, как дальше?
– Homo sum et nihil humani a me alienum puto,[57] – подсказал я, – то есть: человек есмь и ни один человеческий порок не чужд мне…
– Вот видите ли! Разве легко мне примириться с моим настоящим положением?
– Знаю, что не легко, граф, но, по моему мнению, слишком огорчаться все-таки не следует. Фортуна слепа, ваше сиятельство, а бог не без милости. Только уж тогда нужно покрепче сыр-то во рту держать.
– Натурально!
– Но ежели, ваше сиятельство, это случится… Позвольте надеяться, сиятельнейший граф!
– Натурально! И даже… непременно! Вы будете, так сказать… Но только с одним условием… скажите, вы не будете льстить мне, Подхалимов?
– Никак нет-с, ваше сиятельство!
– И вы будете всегда говорить мне правду? одну только правду?
– Точно так, ваше сиятельство!
– Touchez la![58]
Он протянул мне руку и затем вдруг дрогнул всем телом и… обнял меня! Это было до того несогласно с обычаями Интерлакена, что Юнгфрау мгновенно закутала свою вершину в облако, а сидевшая поблизости англичанка вскрикнула: shocking![59] – и убежала.
– Но довольно об этом! – сказал граф взволнованным голосом, – возвратимся к началу нашей беседы. Вы, кажется, удивлялись, что наше бюрократическое творчество оскудевает… то есть в каком же это смысле? в смысле распоряжений или в другом каком?
– Нет, ваше сиятельство, не в смысле распоряжений. Распоряжений и нынче очень довольно, но мотивировки у распоряжений нет. Трудно понять-с.
– Гм… да; но как же, по-вашему мнению, помочь этому?
– Конечно, необходимо прежде всего обратить внимание на воспитание…
– Да, но ведь это длинная история! Покуда вы воспитанием занимаетесь, а между тем время не терпит!
– Точно так, ваше сиятельство. И я, в сущности, только для очистки совести о воспитании упомянул. Где уж нам… и без воспитания сойдет! Но есть, ваше сиятельство, другой фортель. Было время, когда все распоряжения начинались словом "понеже"…
– "Понеже"… это, кажется, "поелику"?
– Браво, граф! Именно оно самое и есть. Так вот, изволите видеть…
И я изложил ему в кратких словах, но ясно, всю теорию "понеже". Показал, как иногда полезно бывает заставлять ум обращаться к началам вещей, не торопясь формулированием изолированных выводов; как это обращение, с одной стороны, укрепляет мыслящую способность, а с другой стороны, возбуждает в обывателе доверие, давая ему возможность понять, в силу каких соображений и на какой приблизительно срок он обязывается быть твердым в бедствиях. И я должен отдать полную справедливость графу: он понял не только оболочку моей мысли, но и самую мысль.
– Как же, по-вашему, я поступать должен? – спросил он меня.
– Очень просто, граф. Каждый раз, как вы соберетесь какое-нибудь распоряжение учинить, напомните себе, что надо начать с "понеже", – и начните-с!
– Поясните, прошу вас, примером.
– Примером-с? ну, что бы, например? Ну, например, в настоящую минуту вы идете завтракать. Следовательно, вот так и извольте говорить: понеже наступило время, когда я имею обыкновение завтракать, завтрак же можно получить только в ресторане, – того ради поеду в ресторан (или в отель) и закажу, что мне понравится.
– Но ежели я не голоден?
– Ах, ваше сиятельство! Тогда извольте говорить так: понеже я не голоден, то хотя и наступило время, когда я имею обыкновение завтракать, но понеже…
– Вот видите! два раза понеже!
– Это от поспешности, граф! А результат все один-с: того ради в отель не пойду, а останусь гулять в аллее…
– По-ни-ма-ю!
– И увидите, ваше сиятельство, как вдруг все для вас сделается ясно. Где была тьма, там свет будет; где была внезапность, там сама собой винословность скажется. А уж любить-то, любить-то как вас все за это будут!
– Вы говорите: будут любить?.. за что?
– Ах, ваше сиятельство! да ведь, благодаря вам, все свет увидят! Ведь и в кутузке посидеть ничего, если при этом сказано: понеже ты заслужил быть вверженным в кутузку, то и ступай в оную!
– По-ни-ма-ю!.. Однако вы напомнили мне, что и в самом дело наступило время, когда я обыкновенно завтракаю… да! как бишь это вы учили меня говорить? Понеже наступило время…
– Того ради… так точно-с! с богом, ваше сиятельство!
– Прощайте, Подхалимов… до свидания!
Он сделал мне ручкой и, насвистывая: поне-е-же! пошел перевалочкой по направлению к курзалу. Я тоже хотел отправиться восвояси, но вдруг вспомнил нечто чрезвычайно нужное и поспешил догнать его.
– Ваше сиятельство! – спросил я, – знаете ли вы, что такое рубль?
Он взглянул на меня с недоумением, как бы спрашивая: это еще что за выдумка?
– Я знаю, – продолжал я, – вы думаете: рубль – это денежный знак…
– Но… sapristi![60] надеюсь…
– В том-то и дело, что это не совсем так. Чтоб сделаться денежным знаком, рубль должен еще заслужить. Если он заслужил – его называют монетною единицей, если же не заслужил – желтенькою бумажкой.
– Гм… но если б это было даже и так, для чего мне это нужно знать?
– Ах, ваше сиятельство! вам обо всем необходимо необременительные сведения иметь! бог милостив! вдруг, паче чаяния, не ровён час…
– Да; но даже и в таком случае… Рубль так рубль, бумажка так бумажка…
– А вы попробуйте-ка к этому делу "понеже" приспособить – ан выйдет вот что: "Понеже за желтенькую бумажку, рублем именуемую, дают только полтинник – того ради и дабы не вводить обывателей понапрасну в заблуждение, Приказали: низшим местам и лицам предписать (и предписано), а к равным отнестись (и отнесено-с), дабы впредь, до особого распоряжения, оные желтенькие бумажки рублями не именовать, но почитать яко сущие полтинники".
– Ну-с, дальше-с.
– А дальше опять: "Понеже желтенькие бумажки, хотя и по сущей справедливости из рублей в полтинники переименованы, но дабы предотвратить происходящий от сего для казны и частных лиц ущерб, – того ради Постановили: употребить всяческое тщание, дабы оные полтинники вновь до стоимости рубля довести"… А потом и еще «понеже», и еще, и еще; до тех пор, пока в самом деле что-нибудь путное выйдет.
– Позвольте! а ежели ничего не выйдет?
– Ну, тогда уж как богу угодно…
– По-ни-ма-ю!
* * *
Одним утром, не успел я еще порядком одеться, как в дверь ко мне постучалась номерная прислужница ("la fille,[61] как их здесь называют) и принесла карточку, на которой я прочитал: Theodor de Twerdoonto. Он ожидал меня в читальном салоне, куда, разумеется, я сейчас же и поспешил.
– Подхалимов! – сказал он мне, – вы литератор! вы это можете… Напишите из моей жизни трагедию!
– С удовольствием, граф, – ответил я.
– Такую трагедию, чтоб все сердца… ну, буквально, чтоб все сердца истерзались от жалости и негодования… Подлецы, льстецы, предатели – чтоб все тут было! Одним словом, чтоб зритель сказал себе: понеже он был окружен льстецами, подлецами и предателями, того ради он ничего полезного и не мог совершить!
– Понимаю, ваше сиятельство! Только все-таки позвольте подумать: надо эту мину умеючи подвести.
– Я рассчитываю на вас, Подхалимов! Надо же, наконец! надо, чтоб знали! Человек жил, наполнил вселенную громом – и вдруг… нигде его нет! Вы понимаете… нигде! Утонул и даже круга на воде… пузырей по себе не оставил! Вот это-то именно я и желал бы, чтоб вы изобразили! Пузырей не оставил… поймите это!
Он быстро повернулся и пошел к выходу, очевидно, желая скрыть от меня охватившее его волнение. Но я вспомнил, что для полного успеха предстоящей работы мне необходимо одно очень важное разъяснение, и остановил его.
– Ваше сиятельство! позвольте один нескромный вопрос, – сказал я, – когда человек сознаёт себя, так сказать, вместилищем государственности… какого рода чувство испытывает он?
Он остановился против меня и глубоко взволнованным голосом произнес:
– C'est mi sentiment… ineffable!![62]
* * *
Первый акт был через час окончен мною. Содержание его составляло воспитание графа ТвэрдоонтС. Молодой граф требует, чтоб его обучали латинской грамматике, но родители его находят, что это не комильфо, и, вместо латинской грамматики, заставляют его проходить науку о том, что есть истинная кобыла? Происходит борьба, в которой юноша изнемогает. Действие оканчивается тем, что молодой граф получил аттестат об отличном окончании курса наук (по выбору родителей) и, держа оный в руках, восклицает: «Вот и желанный аттестат получен! но спросите меня по совести, что я знаю, и я должен буду ответить: я знаю, что я ничего не знаю!»
Граф прочитал мою работу и остался ею доволен, так что я сейчас же приступил к сочинению второго акта. Но тут случилось происшествие, которое разом прекратило мои затеи. На другой день утром я, по обыкновению, прохаживался с графом под орешниками, как вдруг… смотрю и глазам не верю! Прямо навстречу мне идет, и даже не идет, а летит обнять меня… действительный Подхалимов!
Вся эта сцена продолжалась только одно мгновение. В это мгновение Подхалимов успел назвать меня по фамилии, успел расцеловать меня, обругать своего редактора, рассказать анекдот про Гамбетту, сообщить, что Виктор Гюго – скупердяй, а Луи Блан – старая баба, что он у всех был, мед-пиво пил…
Граф смотрел на эту сцену и понимал только одно: что я не Подхалимов. Казалось, он сбирался проглотить меня…
И он непременно проглотил бы, если б я не распорядился заблаговременно провалиться сквозь землю…
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Само собой разумеется, что через полчаса я уже оставил Интерлакен, а вместе с тем и Швейцарию.
Но для чего мне понадобилось быть в оной?