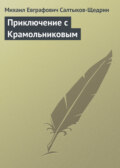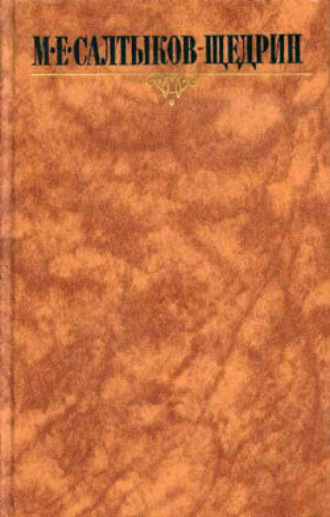
Михаил Салтыков-Щедрин
За рубежом
Но Гамбетта уклонился от прямого ответа и только сочувственно произнес: ссс…
– Не думайте, впрочем, Гамбетта, – продолжал Твэрдоонто, – чтоб я был суеверен… нимало! Но я говорю одно: когда мы затеваем какое-нибудь мероприятие, то прежде всего обязываемся понимать, против чего мы его направляем. Если б вы имели дело только с людьми цивилизованными – ну, тогда я понимаю… Ни вы, ни я… О, разумеется, для нас… Но народ, Гамбетта! вспомните, что такое народ! И что у него останется, если он не будет чувствовать даже этой узды?
Но Гамбетта только качал головой и время от времени произносил: ссс… Как истинно коварный генуэзец, он не только не раздражил своего собеседника возражением, но даже охотно уступил ему, что без бога – нельзя.
– Так за чем же дело стало? – радостно воскликнул ТвэрдоонтС, протягивая руки.
Однако Гамбетта и тут нашелся: не говоря ни слова, позвонил и приказал сервировать завтрак. Подали какой-то необычайной красоты руанскую утицу и к ней совершенно седую бутылку ПонтИ-КанИ. Разумеется, ТвэрдоонтС только языком щелкнул.
И таким образом разрыв был устранен. Съели утицу, выпили ПонтИ-КанИ, и о боге – ни гугу! Вот как ловко действует современная французская дипломатия.
Ту же самую несложность требований простирает современный буржуа и к родной литературе. Было время, когда во Франции господствовала беллетристика идейная, героическая. Она зажигала сердца и волновала умы; не было безвестного уголка в Европе, куда бы она не проникла с своим светочем, всюду распространяя пропаганду идеалов будущего в самой общедоступной форме. Люди сороковых годов и доселе не могут без умиления вспоминать о Жорж Занде и Викторе Гюго, который, впрочем, вступил на стезю новых идеалов несколько позднее. Сю, менее талантливый и теперь почти забытый, – и тот читался нарасхват, благодаря тому, что он обращался к тем инстинктам, которые представляют собой лучшее достояние человеческой природы. Даже в Бальзаке, несмотря на его социально-политический индифферентизм, невольно просачивалась тенденциозность 57, потому что в то тенденциозное время не только люди, но и камни вопияли о героизме и идеалах.
За этою же героической литературой шла и русская беллетристика сороковых годов. И не только беллетристика, но и критика, воспитательное значение которой было едва ли даже в этом смысле не решительнее.
Современному французскому буржуа ни героизм, ни идеалы уже не под силу. Он слишком отяжелел, чтоб не пугаться при одной мысли о личном самоотвержении, и слишком удовлетворен, чтоб нуждаться в расширении горизонтов. Он давно уже понял, что горизонты могут быть расширены лишь в ущерб ему, и потому на почве расширения охотно примирился бы даже с Бонапартом, если б этот выход был для него единственный. Но, во-первых, ему навернулось нечто другое, более подходящее и в смысле горизонтов столь же вожделенное; а во-вторых, дух авантюризма в соединении с тупоумием – свойства, в высшей степени украшавшие бандита, державшего в течение осьмнадцати лет в своих руках судьбы Франции, – испугали буржуа. Обуреваемый жаждою приключений, бандит никогда не мог определить, во что обойдется предполагаемое приключение и куда оно приведет. И таким образом дошел до прусского нашествия. Буржуа не может без злости вспомнить, что пруссаки выпили все вино, хранившееся в его погребах, выкурили все его сигары, выкрали из его шкапов платье, посуду и серебро и даже часы с каминов. Он может забыть гибель сынов Франции, изменническую сдачу Метца, панику худо вооруженных и неодетых войск, но забыть пропажу часов, за которые он заплатил столько-то сотен франков, rubis sur ongle[122] – никогда! И вот это-то вечно присущее воспоминание о выпитом вине и исчезнувших часах и уничтожило весь престиж наполеоновской идеи. А тут же, кстати, вспомнилось, что не худо бы посчитать, во что обошлись Франции приключения бандита. Посчитали, и оказалась такая прорва, что буржуа даже позеленел от злости при мысли, что эту прорву наполнил он из собственного кармана и что все эти деньги остались бы у него, если б он в 1852 году, с испуга, не предал бандиту февральскую республику. Но зато теперь он республику уже не предаст. Теперь у него своя собственная республика, республика спроса и предложения, республика накопления богатств и блестящих торговых балансов, республика, в которой не будет ни «приключений», ни… «горизонтов». Эта республика обеспечила ему все, во имя чего некогда он направо и налево расточал иудины поцелуи и с легким сердцем предавал свое отечество в руки первого встречного хищника. А именно, обеспечила сытость, покой и возможность собирать сокровища. И, сверх того, она же бдительно следит за легкого поведения девицами, не ради торжества добродетели, а дабы его же, буржуа, оградить от телесных повреждений.
И буржуа, действительно, так плотно засел в своей сытости и так прочно со всех сторон окопался, что отныне уже никакие "приключения" не настигнут его.
Но эта безыдейная сытость не могла не повлиять и на жизнь. Прониклась ею и современная французская литература, и для того, чтоб скрыть свою низменность, не без наглости подняла знамя реализма. Слово это небезызвестно и у нас, и даже едва ли не раньше, нежели во Франции, по поводу его у нас было преломлено достаточно копий. Но размеры нашего реализма 58 несколько иные, нежели у современной школы французских реалистов. Мы включаем в эту область всего человека, со всем разнообразием его определений и действительности; французы же главным образом интересуются торсом человека и из всего разнообразия его определений с наибольшим рачением останавливаются на его физической правоспособности и на любовных подвигах. С этой точки зрения Виктор Гюго, например, представляется в глазах Зола чуть ли не гороховым шутом, да, вероятно, той же участи подверглась бы и Жорж Занд, если б очередь дошла до нее. По крайней мере, никто нынче об ней не вспоминает, хотя за ней числятся такие создания, как «Орас» и «Лукреция Флориани», в которых подавляющий реализм идет об руку с самою горячею и страстною идейностью.
Во главе современных французских реалистов стоит писатель, несомненно талантливый – Зола. Однако ж и он не сразу удовлетворил буржуа (казался слишком трудным), так что романы его долгое время пользовались гораздо большею известностью за границей (особенно в России), нежели во Франции. "Ассомуар"[123] был первым произведением, обратившим на Зола серьезное внимание его соотечественников, да и то едва ли не потому, что в нем на первом плане фигурируют представители тех «новых общественных наслоений»59, о близком нашествии которых, почти в то же самое время, несколько рискованно возвещал сфинкс Гамбетта (Наполеон III любил, чтоб его называли сфинксом; Гамбетта – тоже) в одной из своих речей. Любопытно было взглянуть на этого дикаря, вандала-гунна-готфа, к которому еще Байрон взывал: arise ye, Goths![124] и которого давно уже не без страха поджидает буржуа, и даже совсем было дождался в лице Парижской коммуны, если б маленький Тьер, споспешествуемый Мак-Магоном и удалым капитаном Гарсеном 60, не поспешил на помощь и не утопил готфа в его собственной крови.[125]
И точно, Зола настолько испугал буржуа, что в самое короткое время "Ассомуар" разошелся во множестве изданий. Но все-таки это был успех испуга, действительным же любимцем, художником по сердцу буржуа и всефранцузскою знаменитостью Зола сделался лишь с появлением "Нана" 61. Представьте себе роман, в котором главным лицом является сильно действующий женский торс, не прикрытый даже фиговым листом, общедоступный, как проезжий шлях, и не представляющий никаких определений, кроме подробного каталога «особых примет», знаменующих пол. Затем поставьте, в pendant[126] к этому сильно действующему торсу, соответствующее число мужских торсов, которые тоже ничего другого, кроме особых примет, знаменующих пол, не представляют. И потом, когда все эти торсы надлежащим образом поставлены, когда, по манию автора, вокруг них создалась обстановка из бутафорских вещей самого последнего фасона, особые приметы постепенно приходят в движение и перед глазами читателя завязывается бестиальная драма… Спрашивается: каких еще более возбуждающих услад может требовать буржуа, в котором сытость дошла до таких геркулесовых столпов, что едва не погубила даже половую бестиальность?
Все в этом романе настолько ясно, что хоть протягивай руку и гладь. Только лесбийские игры несколько стушеваны, но ведь покуда это вещь на охотника, не всякий ее вместит. Придет время, когда буржуа еще сытнее сделается – тогда Зола и в этой сфере себя мастером явит. Но сколько мерзостей придется ему подсмотреть, чтоб довести отделку бутафорских деталей до совершенства! И какую неутомимость, какой железный организм нужно иметь, чтоб выдержать труд выслеживания, необходимый для создания подобной экскрементально-человеческой комедии! 62 Подумайте! сегодня – Нана, завтра – представительница лесбийских преданий, а послезавтра, пожалуй, и впрямь в герои романа придется выбирать производительниц и производителей экскрементов!
Но тогда, разумеется, буржуа еще при жизни поставит ему монумент.
Оговариваюсь, впрочем, что в расчеты мои совсем не входит критическая оценка литературной деятельности Зола. В общем я признаю эту деятельность (кроме, впрочем, его критических этюдов) весьма замечательною и говорю исключительно о "Нана", так как этот роман дает мерило для определения вкусов и направления современного буржуа.
Около Зола стоит целая школа последователей, из которых одни рабски подражают ему, другие – выказывают поползновение идти еще дальше в смысле деталей. Но тут псевдореализм приобретает характер скудоумия тем более яркий, что даже нагота торсов не защищает его. Скучно, назойливо, бездарно, и ничего больше. Перед читателем проходит бесконечный ряд подробностей, не имеющих ничего общего ни с предметом повествования, ни с его обстановкой, подробностей, ни для чего не нужных, ничего не характеризующих и даже не любопытных сами по себе. Вот, например, перед вами Альфред 63. Бедный Альфред! Возьмись за него писатель сильный, вроде Жорж Занда, Бальзака, Флобера – из него вышел бы отличный малый. А так называемый реалист едва прикоснулся к нему, как уже и погубил!
Судите сами.
Альфред встает рано и имеет привычку потягиваться. Потягиваясь, он обдумывает свой вчерашний день и находит, что провел его не совсем хорошо. Ночью он ужинал с Селиной и заметил, что от нее пахнет теми же духами, какими обыкновенно прыскается Жюль! Когда он спросил об этом, то она только рассмеялась (un petit rire[127] или un gros rire[128] – это безразлично). Надо, однако ж, эту тайну раскрыть. Раскрыть так раскрыть, но для чего он будет раскрывать? вот в чем вопрос. Задавши себе этот вопрос, Альфред решает, что затеял глупость. Говоря по совести, ни с какой Селиной он вчера не ужинал, а пришел вечером в десять часов домой, съел кусочек грюйеру 64 и щелкнул языком. Уличивши себя во лжи, Альфред решается встать. Разумеется, сначала умывается (страница, посвященная умывальнику, и две, посвященные мылу), потом начинает одеваться. Денных рубашек у него всего три: одна у прачки, другую он надевал вчера, третья лежит чистая в комоде. Надо быть осторожным. Рассматривая вчерашнюю рубашку, он замечает порядочное пятно на самой груди. Это, должно быть, Селина вчера за ужином капнула вином! говорит он, и на этом первая глава кончается. Вторая глава начинается с того, что Альфред припоминает, что ни Селины, ни ужина, ни вина вчера не было. Стало быть, происхождение пятна на рубашке должно быть иное. Ба! да ведь я вчера купаться ходил! – восклицает Альфред и приходит к заключению, что, покуда он был в воде, а белье лежало на берегу реки, могла пролететь птица небесная и на лету сделать сюрприз. Но, придя к этому выводу, Он припоминает, что ни вчера, да и вообще никогда не купался. Стало быть, и опять соврал, и так как с этим враньем надо покончить, то автор проводит черту и приступает к 3-й главе. В этой новой главе Альфред все еще одевается. Разумеется, описание одежды строго соображается с теми правами состояния, которыми пользуется герой. Ежели он человек салонов, то всякая часть его одежды блестит и покроем свидетельствует, что в постройке ее участвовали первые мастера Парижа; если он un homme declasse,[129] то на каждой части его туалета оказывается пятно, что заставляет его нюхать и рубашку, и жилет, и штаны, дабы не поразить добрых знакомых запахом благополучия. Допустим, что наш Альфред принадлежит к последнему разряду молодых людей. Он нюхает и отчищает, но дело у него решительно не спорится. Сначала приходит portier,[130] с которым нужно сказать несколько ненужных слов, потом вбегает соседка, которая просит одолжить коробочку спичек и которой тоже нельзя не сказать несколько любезностей. За тем да за сём время летит, и наступает минута кончить третью главу. В четвертой главе Альфред идет завтракать в кафе; там его встречает гарсон (имярек). Разговор. Гарсон предлагает сперва одну газету, потом другую, третью – Альфред отказывается; потом Альфред начинает спрашивать сперва одну газету, потом другую, третью – гарсон отвечает, что кафе этих газет не получает. Потом гарсон спрашивает, почему Альфред так давно не был в кафе, на что последний отвечает, что получил наследство. Но так как он наследства не получал, то спешит переменить разговор и говорит, что ездил в Москву. На этом 4-я глава кончается. В пятой главе Альфред идет на бульвар. Идет и думает: а ведь у меня нет почтовой бумаги – зайду и куплю. Но по дороге ему попадается торговка с фруктами. Сочные груши, сочная торговка (описание торговкиной груди), а из-под груш выглядывает сочный гроздий винограда. «Эк тебя разнесло!» – думает Альфред, смотря не то на торговкину грудь, не то на виноград. Ибо и виноград своим видом способен пробуждать в нем вожделение. Альфред решается начать с груши и ест ее, а тем временем ему садится на нос муха. Пятой главе конец. В шестой главе он сгоняет муху, которая опять садится на то же место. Это повторяется до трех раз; тогда он догадывается, что муху привлекает сок груши, и он бросает последнюю на мостовую. Муха улетает. А между тем торговка, в форме маленьких строчек, предлагает ему то грушу, то персик, то фигу, но он на всякий ее вопрос отвечает односложно: non![131] Наступает седьмая глава. Альфред идет на бульвар, забывши, что он хотел купить почтовой бумаги; вместо того он вспомнил, что у него нет перчаток, и идет к перчаточнице. У перчаточницы грудь колесом, а поясница – ума помраченье. Он вспоминает, что точь-в-точь такая же поясница у Селины, но тут же спохватывается, что еще утром было решено, что он никакой Селины никогда не знал. «Где же бы, однако, я эту поясницу видел?» – говорит сам себе Альфред и, начиная всматриваться в перчаточницу, узнает в ней свою тетку. «Ma tante! quel bonheur!»[132] Седьмая глава кончилась. В восьмой главе Альфред вспоминает о своем детстве. «А помните, ma tante, как я раз подсмотрел вас купающеюся в Марне?» – Молчи, шалун! – грозит ему ma tante и требует, чтоб он пришел к ней обедать. Осьмая, девятая, десятая и прочие главы посвящены описанию тетенькиной квартиры, тетенькинова мужа и блюд, подающихся за обедом. Тетенькин муж – араб, который служил когда-то Абдель-кадеру, но передался Франции, полюбил Париж и женился на тетушке. У него один недостаток: он кусается в порыве страсти; но есть и достоинство: тетушка не имеет от него детей. Оттого-то и поясница у нее в том же виде, в каком запомнил ее Альфред, когда она купалась в Марне. Еще глава – и Альфред идет в театр, а оттуда – ужинать в кафе. Там он совершает адюльтер, но тут выходит нечто в высшей степени непостижимое. Оказывается, что адюльтер совершил не он, а Жюль, а он, Альфред, ни у тетушки, ни в театре, ни в кафе не был… где же он, однако, был? Интерес возбужден в высшей степени. Первой части конец.
Далее я, разумеется, не пойду, хотя роман заключает в себе десять частей, и в каждой не меньше сорока глав. Ни муха, ни торговка, ни перчаточница, ни Селина в следующих томах уже не встретятся. Они были нужны, потому что без них невозможно производить строчки, а без строчек не было бы построчной платы. Реалист французского пошиба имеет то свойство, что он никогда не знает, что он сейчас напишет, а знает только, что сколько посидит, столько и напишет. И никто его обуздать не может; ни обуздать, ни усовестить, потому что он на все усовещевания ответит: я не идеолог, а реалист; я описываю только то, что в жизни бывает. Вижу забор – говорю: забор; вижу поясницу – говорю: поясница. И при этом непременно облает Виктора Гюго, назовет его старым шутом 65, и т. д.
Но для современного буржуа это мелькание мысли совершенно по плечу. Ему любы литераторы, которые не затрудняют его загадками, а излагают только его собственные обыденные дела. Собственно говоря, он и читает единственно для того, чтоб не прослыть неучем, и вот, на его счастье, нашелся чародей, который облегчил ему и эту задачу. Этот чародей пишет строки коротенькие, а главы – на манер водевильных куплетов. Купит буржуа книжку (и цена ей – грош), принесет ее домой – и сам рад, и в семье все рады. Все от рождения сыты, и всем лестно коротеньких строчек почитать. А иногда и смешные эпизоды встречаются. Пил человек пиво и залил новый жилет; или: казалось, что у перчаточницы грудь колесом, а, по исследованию, вышло, доска доской. "Вот наши общественные недуги!" – восклицает буржуа и, обращаясь к жене, прибавляет: "А у тебя, мой друг, без обману!"
Такова вторая стадия современного французского реализма; третью представляют произведения порнографии. Разумеется, я не буду распространяться здесь об этой литературной профессии; скажу только, что хотя она довольно рьяно преследуется республиканским правительством и хотя буржуа хвалит его за эту строгость, но потихоньку все-таки упивается порнографией до пресыщения. Особливо ежели с картинками.
Убедиться в том, что современный властелин Франции (буржуа) – порнограф до мозга костей, чрезвычайно легко: стоит только взглянуть на модные покрои женских одежд. В этой области каждый день приносит новую обнаженность, и ежели, например, сегодня нет ничего неясного под мышками, то завтра, наверное, такая же ясность постигнет какую-нибудь другую разжигающую часть женского бюста. Театр, который всегда был глашатаем мод будущего, может в этом случае послужить отличнейшим указателем тех требований, которые предъявляет вивёр-буржуа[133] к современной женщине, как носительнице особых примет, знаменующих пол. Действительно, в парижских бульварных театрах покрой женских костюмов до такой степени приблизился к идее скульптурности, что ни один гусарский вахмистр, наверное, не мечтал о рейтузах, равносильных, по выразительности, тем, которые охватывают нижнюю часть туловища m-lee Myeris в «Pilules du Diable» 66 .[134] И надо видеть, как буржуа, весь в мыле и тяжко сопя, ловит глазами каждое движенье этих рейтуз!
Сами французы жалуются, что старинная французская causerie[135] постепенно исчезает. И точно: салонов, в которых маркиза разыгрывала бы «провербы» 67, а маркиз, в умеренных размерах, предавался бы фрондерству и кощунству, в настоящее время в Париже нет и в помине. Их заменили клубы (но не clubs, а cercles, так как по-французски club означает нечто равносильное тому, что у нас разумеется под названием обществ, составляемых с целью ниспровержения и т. д.), в которых господствует игра, и cabinets particuliers,[136] в которых господствует обжорство и адюльтер. Да и мудрено требовать разговора от людей, у которых нет никаких слов в запасе, а имеются только непроизвольные движения, направляемые с целью ниспровержения женских туалетов. Представить их себе разыгрывающими провербы все равно, что ждать от бывшего крепостного владыки утонченных манер относительно девки Палашки или от железнодорожного хлыща, упомянутого мной во 2-й главе настоящих этюдов, – кроткого обращения с девицей Альфонсинкой. Все, что буржуа может, – это, подобно последнему, «изуродовать» Альфонсинку или, в добрую минуту, дать ей по спине «раза».
Я, впрочем, не держусь мнения, чтоб следовало жалеть о пресловутых французских causeries. В первой половине прошлого столетия они сделали свое дело, ознаменовав начало умственного возрождения и дав миру Вольтеров, Дидро, Гольбахов и проч. Но как только "возрождение" встретилось с 1789 годом, так тотчас же causeries утратили фрондерско-кощунственный характер и просто-напросто превратились в высшую школу паскудства. Впрочем, и доселе образчики этих causeries от времени до времени появляются на сцене французских комедий в форме "proverbes", в которых девица Круазетт показывает свои наливные плечи и поражает великолепием туалетов. Но, несмотря на привлекательность этих приманок, современные "провербы" точно так же мало удовлетворили бы козёра восемнадцатого века, как мало удовлетворяют они и буржуа-вивёра наших времен. Первый наплел бы их чересчур однообразными и не встретил бы в них ни аттической соли, ни элемента возрождения; второй говорит прямо: ведь все равно развязка будет в cabinet particulier, так из-за чего же ты всю эту музыку завела?
Не об этом надо жалеть, а о том горении мысли, которое в течение слишком полустолетия согревало не только Францию, но чрез ее посредство и мир. Но пришел бандит и, не долго думая, взял да и погасил огонь мысли. Он ничего не страшился, ни современников, ни потомков, и с одинаковым неразумением накладывал гасильник и на отдельные человеческие жизни, и на общее течение ее. Успех такого рода извергов – одна из ужаснейших тайн истории; но раз эта тайна прокралась в мир, все существующее, конкретное и отвлеченное, реальное и фантастическое, – все покоряется гнету ее.
И вот, в результате – республика без республиканцев, с сытыми буржуа во главе, в тылу и во флангах; с скульптурно обнаженными женщинами, с порнографическою литературой, с изобилием провизии и bijoux и с бесчисленным множеством cabinets particuliers, в которых денно и нощно слагаются гимны адюльтеру. Конечно, все это было заведено еще при бандите, но для чего понадобилось и держится доднесь? Держится упорно, несмотря на одну великую, две средних и одну малую революции.
На это возражают, что за республикой остается одно капитальное и неотъемлемое приобретение: suffrage universel.[137] Конечно, против этого ничего сказать нельзя; даже у нас ничего подобного нет. Но, во-первых, suffrage universel существовал и во времена бандита, и неизменно отвечал «да», когда последний этого желал. Во-вторых, ведь и теперь продукты suffrage universel, заседающие в палатах, едва ли многим отличаются от продуктов suffrage restreint,[138] которыми щеголяли chambres introuvables 68 времен Карла Х и Луи-Филиппа. Это тоже тайна истории и, конечно, не из утешительных.
И еще говорят, что в последнее время в Париже уже начинается движение, имеющее положить конец владычеству буржуазии. Действительно, рабочие кварталы, с осуществлением амнистии, как будто оживились 69, но размеры движения еще так ничтожны, что ни цели его, ни темперамент, ни шансы на успех – ничто не выяснилось. Покуда имеются в виду только страшные слова, которые, впрочем, не производят особенного впечатления, потому что за ними не слышится той жизненности и страстности, которые одни могут дать начало действительному движению.
* * *
P. S. В ту самую минуту, когда я дописываю настоящие строки, со стен Петропавловской крепости раздается пушечная пальба, возвещающая, что галлы изгнаны 70. Но как, однако ж, это давно было!
25-го декабря, 1880 года.