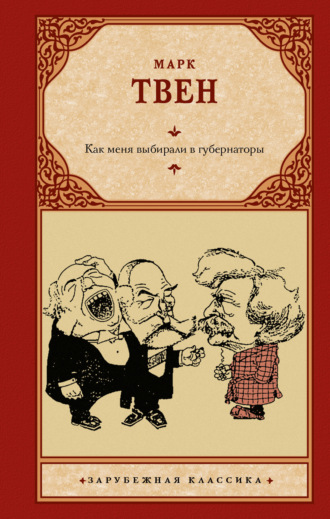
Марк Твен
Как меня выбирали в губернаторы
Глава пятая. Кафе в Риме
Один из группы американцев читает и переводит из «Иль Бен Соврато ди Рома»:
– «Чудесная находка! Около шести месяцев тому назад синьор Джон Смит, американский джентльмен, в течение нескольких лет проживающий в Риме, приобрел за незначительную сумму участок земли в Кампанье, по соседству с мавзолеем Сципионов, у владельца этого участка, разорившегося родственника княгини Боргезе. Затем мистер Смит перевел этот участок на имя бедного американского художника Джорджа Арнольда, в возмещение материального убытка, ненамеренно причиненного им синьору Арнольду, и заявил, что он за свой счет собирается привести в порядок это владение для синьора Арнольда. Месяц назад, производя на участке земляные работы, синьор Смит нашел античную статую редких достоинств, представляющую большую ценность даже для сокровищниц Рима, которые изобилуют первоклассными произведениями искусства. Глядя на эту прекрасную женскую фигуру, хотя и сильно поврежденную временем и пребыванием в земле, никто не может остаться равнодушным к ее восхитительной красоте. Не хватает носа, левой ноги, уха, нескольких пальцев на правой ноге и двух пальцев на руке, но в общем статуя замечательно сохранилась. Статуя находится в руках правительства; назначена комиссия, в которую вошли художественные критики, антиквары и представители римской церкви для определения художественной ценности статуи и размеров вознаграждения, причитающегося собственнику участка, где она была найдена. До вчерашнего вечера все дело сохранялось в строжайшей тайне. Комиссия заседала при закрытых дверях. Вчера вечером комиссия единогласно решила, что статуя изображает Венеру и принадлежит неизвестному, но высокоодаренному художнику третьего века до Рождества Христова. Комиссия считает эту статую одним из совершеннейших произведений искусства, известных миру.
В полночь состоялось последнее заседание, на котором Венера была оценена в десять миллионов франков! По римским законам и обычаям, государству принадлежит половинная доля в каждом произведении искусства, найденном в Кампанье, а потому оно уплачивает мистеру Арнольду пять миллионов франков, после чего статуя переходит во владение правительства. Сегодня утром Венеру перевезут в Капитолий, где она будет установлена, а в полдень комиссия отвезет синьору Арнольду чек его святейшества папы римского на пять миллионов франков золотом!»
Хор голосов. Вот повезло! Просто слов не подберешь!
Один голос. Джентльмены, предлагаю немедленно организовать американское акционерное общество для приобретения земельных участков и производства раскопок, открыть филиал нашего общества на Уолл-стрит, немедленно выпустить на биржу акции и начать игру на повышение и понижение.
Все. Мы согласны!
Глава шестая. В Римском Капитолии – десять лет спустя
– Дорогая Мэри, вот самая знаменитая статуя в мире. Это Венера Капитолийская, о которой ты столько слышала. Вот она, «реставрированная», то есть кое-как подштукатуренная лучшими римскими скульпторами. Уже одно то, что они принимали скромное участие в ее реставрации, навеки прославит их имена. Как все это странно! Десять лет назад, накануне того памятного дня, я стоял на этом самом месте и отнюдь не был богачом, – честное слово, у меня не было ни цента. И все же без меня Рим не получил бы величайшего произведения античного искусства, какое когда-либо было известно миру.
– Знаменитая, прославленная Венера Капитолийская. И каких огромных денег она стоит! Десять миллионов франков!
– Да, теперь она стоит десять миллионов…
– О Джорджи, как она хороша! Божественно хороша!
– Да, конечно, но все же она далеко не та, какая была, пока этот чертов Джон Смит не отбил ей ногу и не повредил нос. Хитроумный Смит, гениальный Смит, благородный Смит! Творец нашего счастья!.. Послушай, что это такое? У мальчишки коклюш! Мэри, неужели ты никогда не научишься смотреть за детьми!
Конец
Венера Капитолийская и посейчас стоит в Римском Капитолии и все еще является самым пленительным и знаменитым произведением искусства, каким может похвастать мир. Но если вам придется когда-нибудь стоять перед ней и, как полагается, восхищаться, пусть эта правдивая и мало кому известная история ее происхождения не портит вам удовольствия; и когда вы прочтете об окаменевшем гиганте, которого откопали близ Сиракуз, в штате Нью-Йорк или еще где-нибудь, не верьте ни одному слову.
И если зарывший колосса Барнум предложит вам купить его за большие деньги, не покупайте. Пошлите Барнума к папе римскому!
Ниагара
Ниагарский водопад – приятнейший уголок для отдыха. Гостиницы там отличные, а цены вовсе не такие уж баснословные. Для рыболовов во всей стране нет лучшего места, и даже равного не сыскать. А все потому, что в других водоемах обычно где хуже клюет, где лучше; здесь же всюду одинаково хорошо по той простой причине, что не клюет нигде; а значит, незачем ходить за пять миль в поисках подходящего местечка, – можно с таким же успехом закинуть удочку у самого дома. О преимуществах такого положения вещей до сих пор почему-то еще никто не додумался.
Летом здесь всегда прохладно. Прогулки все приятные и ничуть не утомительные. Когда вы отправляетесь осматривать водопад, вам нужно сначала спуститься на милю вниз и уплатить некоторую сумму за право взглянуть с обрыва на самую узкую часть реки Ниагары. Железнодорожный туннель в горе был бы, пожалуй, так же приятен для глаз, если бы на дне его с ревом пенилась и клокотала эта рассвирепевшая река. Затем можно спуститься по лестнице еще на полтораста футов вниз и постоять у самой воды. Потом вы, правда, сами станете удивляться, зачем вам это понадобилось, но будет уже поздно.
Проводник небрежно расскажет, заставляя вас холодеть от ужаса, как на его глазах пароходик «Дева тумана» летел вниз с головокружительной высоты, как бушующие волны поглотили сперва одно гребное колесо, потом другое, – и покажет, в каком месте свалилась за борт дымовая труба, и где начала трещать и отваливаться обшивка, и как «Дева тумана» все-таки выбралась, совершив невозможное: она промчалась то ли семнадцать миль за шесть минут, то ли шесть миль за семнадцать минут – уж, право, не помню. Так или иначе, случай был поистине удивительный. Стоило заплатить деньги, чтобы послушать, как проводник рассказывает эту историю девять раз подряд девяти различным экскурсиям, ни разу не сбившись, не пропустив ни словечка, не изменив ни фразы, ни жеста.
Потом вы едете по висячему мосту и не знаете, чего вам больше бояться: того ли, что вы рухнете с высоты в двести футов в реку, или того, что на вас рухнет проходящий над вами поезд. Любая из этих перспектив достаточно неприятна сама по себе; вместе же они вконец портят вам настроение.
На канадском берегу вы попадаете в живое ущелье, образованное двумя рядами фотографов, которые стоят со своими аппаратами в полной боевой готовности, выжидая подходящей минуты, чтобы увековечить вашу особу вместе с ветхой колымагой, влекомой унылым четвероногим скелетом, обтянутым шкурой, – вам предлагается считать его лошадью, – и все это на фоне величественной Ниагары, небрежно отодвинутой на задний план; и ведь у многих хватает наглости поощрять подобную преступную деятельность, – впрочем, быть может, ум их от природы столь извращен?
Вы всегда увидите у этих фотографов внушительное изображение папы, мамы, Джонни, Боба и их сестренки или четы провинциальных родичей; на всех лицах застыла бессмысленная улыбка, все сидят в экипажах в самых неудобных и вычурных позах, и все они в своем ошеломляющем тупоумии вылезают на первый план, заслоняя и оскорбляя самим видом своим великое чудо природы, чьи покорные слуги – радуги, чей голос – гром небесный, чей устрашающий лик скрывается в облаках. Сей грозный владыка царил здесь в давно минувшие, незапамятные времена, задолго до того, как горстке жалких пресмыкающихся дано было на краткий миг заполнить пробел в нескончаемом ряду безвестных тварей земных, и будет царить века и века после того, как эти жалкие пресмыкающиеся станут пищей столь родственных им могильных червей и обратятся в прах.
В сущности, нет ничего дурного в том, чтобы на фоне Ниагары выставить на всеобщее обозрение свое ярко освещенное великолепное ничтожество. Но все же для этого нужно сверхчеловеческое самодовольство.
После того как вы досыта нагляделись на огромный водопад Подкову, вы по новому висячему мосту возвращаетесь в Соединенные Штаты Америки и идете вдоль берега к тому месту, где выставлена для вашего обозрения Пещера Ветров.
Здесь я поступил точно по инструкции: снял с себя всю одежду и напялил непромокаемую куртку и комбинезон. Одеяние это довольно живописное, но отнюдь не отличается красотой. Проводник, в таком же наряде, повел меня вниз по винтовой лестнице, которая очень скоро потеряла для меня прелесть новизны, но все еще вилась и вилась – и вдруг кончилась задолго до того, как спуск по ней начал доставлять удовольствие. К тому времени мы были уже глубоко под землей, но все еще довольно высоко над уровнем реки.
Потом мы стали пробираться по шатким, в одну дощечку, мосткам. Нас отделяли от бездны только жиденькие деревянные перильца, и я цеплялся за них обеими руками, – не подумайте, что от страха, просто мне так нравилось. Постепенно спуск становился все круче, а мостик все ненадежнее; брызги водопада обдавали нас все чаще, все гуще – скоро под этим ливнем уже ничего невозможно было разглядеть, и двигаться теперь приходилось ощупью. Вдобавок из-за водопада подул яростный ветер, словно он решил во что бы то ни стало сдуть нас с моста, швырнуть на скалы или сбросить в бурные воды реки Ниагары. Я робко заметил, что не прочь бы вернуться домой, но было уже поздно. Мы оказались почти у подножья гигантской водяной стены, с таким грохотом низвергавшейся с высоты, что человеческий голос совсем терялся в ее безжалостном реве.
Вдруг проводник исчез за водяной завесой, и я двинулся за ним, оглушенный грохотом, гонимый ветром и весь исколотый вихрем колючих брызг. Меня обступила тьма. Никогда в жизни не слышал я такого завывания и рева разбушевавшихся стихий, такой яростной схватки ветра с водой. Я наклонил голову, и мне показалось, что сверху на меня обрушился целый Атлантический океан. Казалось, настал конец света. Я не видел ничего вокруг себя за яростными потоками воды. Задохнувшись, я поднял голову, и добрая половина американской части водопада влилась мне в глотку. Если бы в эту минуту во мне открылась течь, я бы погиб. И тут я обнаружил, что мост кончился, и теперь нам предстоит карабкаться по обрывистым скользким скалам. В жизни своей я так не трусил, но все обошлось. В конце концов мы все же выбрались на свет божий, на открытое место, где можно было остановиться и смотреть на пенную громаду бурлящих, низвергающихся вод. Когда я увидел, как много тут воды и как мало она склонна к шуткам, я от души пожалел, что отважился пройти между потоком и скалой.
Благородный краснокожий всегда был моим нежно-любимым другом. Я очень люблю читать рассказы, легенды и повести о нем. Я люблю читать о его необычайной прозорливости, его пристрастии к дикой вольной жизни в горах и лесах, благородстве его души и величественной манере выражать свои мысли главным образом метафорами, и, конечно, о рыцарской любви к смуглолицей деве, и о живописном великолепии его одежды и боевого снаряжения. Особенно о живописном великолепии его одежды и боевого снаряжения. Когда я увидел, что в лавчонках у водопада полным-полно индейских вышивок бисером, ошеломляющих мокасинов и столь же ошеломляющих игрушечных человечков, у которых ноги, как пирожки, а в руках и туловище проверчены дырки – как бы они могли иначе удержать лук и стрелы? – я ужасно обрадовался. Теперь я знал, что наконец воочию увижу благородного краснокожего.
И в самом деле, девушка-продавщица в одной из лавчонок сказала мне, что все эти разнообразные сувениры сделаны руками индейцев и что индейцев здесь очень много, настроены они дружественно и разговаривать с ними совершенно безопасно. И верно, неподалеку от моста, ведущего на Остров Луны, я столкнулся нос к носу с благородным сыном лесов. Он сидел под деревом и усердно мастерил дамскую сумочку из бисера. На нем была шляпа со спущенными полями и грубые башмаки, а в зубах торчала короткая черная трубка. Вот оно, пагубное влияние нашей изнеженной цивилизации на живописное великолепие, присущее индейцу, пока он не изменил своим родным пенатам. Я обратился к этой живой реликвии со следующей речью:
– Счастлив ли ты, о Ух-Бум-Бум из племени Хлоп-Хлоп? Вздыхает ли Великий Пятнистый Гром по тропе войны, или душа его полна мечтами о смуглолицей деве – Гордости Лесов? Жаждет ли могучий Сахем напиться крови врагов, или он довольствуется изготовлением сумочек из бисера для дочерей бледнолицых? Говори же, гордая реликвия давно минувшего величия, достопочтенная развалина, говори!
И развалина сказала:
– Как, это меня, Дениса Хулигена, ты принимаешь за грязного индейца? Ты гнусавый, зубастый, тонконогий дьявол! Клянусь лысиной пророка Моисея, я тебя сейчас съем.
И я ушел.
Немного погодя где-то возле Черепаховой Башни я увидел нежную туземную деву в мокасинах из оленьей кожи, отороченных бисером и бахромой, и в гетрах. Она сидела на скамье среди всяких занятных безделушек. Дева только что кончила вырезать из дерева вождя племени, больше напоминавшего прищепку для белья, и теперь буравила в его животе дырку, чтобы вставить туда лук со стрелами. Помявшись минуту, я спросил:
– Не тяжко ли на душе у Лесной Девы? Не одинока ли Смеющаяся Ящерица? Оплакивает ли она угасшие костры совета вождей ее племени и былую славу ее предков, или же ее печальный дух витает в далеких дебрях, куда отправился на охоту Индюк, мечущий молнии, ее храбрый возлюбленный? Почему дочь моя безмолвна? Или она имеет что-либо против бледнолицего незнакомца?
И дева сказала:
– Ах, чтоб тебя! Это меня, Бидди Мейлоун, ты обзываешь всякими словами? Убирайся вон, а не то я спихну твой тощий скелет в воду, негодяй паршивый!
Я удалился и от нее.
«Пропади они пропадом, эти индейцы, – сказал я себе. – Говорят, они совсем ручные, но, если глаза меня не обманывают, похоже, что все они вступили на тропу войны».
Все же я сделал еще одну попытку побрататься с ними, одну-единственную. Я набрел на целый лагерь индейцев; под сенью огромного дерева они шили мокасины и нанизывали ожерелья из раковин. И я обратился к ним на языке дружбы:
– Благородные краснокожие! Храбрецы! Великие Сахемы, воины! Жены и высокие Безумцы из племени одержимых! Бледнолицый из страны заходящего солнца приветствует вас. Ты, благородный Хорек, ты, Пожиратель Гор, ты, Грохочущий Гром, ты, Дерзкий Стеклянный Глаз! Бледнолицый, пришедший из-за Большой воды, приветствует всех вас. Ваши ряды поредели, болезни и войны сгубили ваш некогда гордый народ. Покер, и «семерка», и пустая трата денег на мыло – роскошь, неведомая вашим славным предкам, – истощили ваши кошельки. Присваивая чужую собственность – только по простоте душевной! – вы без конца обрекаете себя на неприятности. Все путая и перевирая – и все по чистейшей наивности! – вы уронили себя в глазах бессердечных завоевателей. Ради того чтобы купить крепкого виски, напиться, почувствовать себя счастливым и перебить томагавком всю семью, вы приносите в жертву живописное великолепие своей одежды. И вот вы стоите передо мной в ярком свете девятнадцатого века, точно жалкое отребье, подонки нью-йоркских трущоб. Стыдитесь! Вспомните своих предков! Вы забыли их славные дела? Вспомните Ункаса, и Красную Куртку, и Пещеру Дня, и Тилибум-бум! Ужели вы хуже их? Станьте под мои знамена, благородные дикари, прославленные бродяги!
– Долой его! Гоните негодяя! Сжечь его! Повесить его! Утопить его!
Все произошло в одно мгновение. В воздухе мелькнули дубинки, кулаки, обломки кирпичей, корзинки с бисером, мокасины. Миг – и все это обрушилось на меня со всех сторон. В следующую минуту все племя кинулось на меня. Они сорвали с меня чуть ли не всю одежду, переломали мне руки и ноги, так стукнули меня по голове, что череп на макушке прогнулся, и в ямку можно было налить кофе, как в блюдце. Но одних побоев им показалось мало, им понадобилось еще и оскорбить меня. Они швырнули меня в Ниагару, и я промок.
Пролетел я вниз футов девяносто, а то и все сто, и тут остатки моего жилета зацепились за выступ скалы, и, пытаясь освободиться, я чуть не захлебнулся. Наконец я вырвался, упал и погрузился в буйство белой пены у подножья водопада, что пузырилась и кипела, вздымаясь на несколько дюймов у меня над головой. Разумеется, я попал в водоворот и завертелся в нем. Сорок четыре круга сделал я, гоняясь за какой-то щепкой, которую в конце концов обогнал, причем за один круг проделывал полмили; сорок четыре раза меня проносило мимо одного и того же куста на берегу, снова и снова я тянулся к нему и каждый раз не мог дотянуться всего лишь на волосок.
Наконец к воде спустился какой-то человек, уселся рядом с моим кустом, сунул в рот трубку, чиркнул спичкой и заслонил огонь ладонью от ветра, поглядывая одним глазом на меня, другим – на спичку. Вскоре порыв ветра задул ее. Когда я в следующий раз проносился мимо, он спросил:
– Спички есть?
– Да, в другом жилете. Помогите, пожалуйста, выбраться.
– Черта с два!
Снова поравнявшись с ним, я сказал:
– Простите навязчивое любопытство тонущего человека, но не можете ли вы объяснить мне ваше несколько необычное поведение?
– С удовольствием. Я следователь, мое дело – мертвые тела. Можете не торопиться ради меня. Я вас подожду. Но вот спичку бы мне!
– Давайте поменяемся местами, – предложил я. – Тогда я принесу вам спичку.
Он отказался. Такое недоверие с его стороны привело к некоторой холодности между нами, и с этой минуты я старался его избегать. Я даже решил про себя, что если со мной что-нибудь случится, то я рассчитаю время происшествия так, чтобы меня обслужил следователь по мертвым телам на противоположном, американском берегу.
В конце концов появился полицейский и арестовал меня за нарушение тишины, так как я громко взывал о помощи. Судья оштрафовал меня. Но тут я выгадал: все мои деньги были в брюках, а брюки остались у индейцев.
Таким образом я спасся. Сейчас я лежу в очень тяжелом состоянии. Собственно говоря, тяжелое оно или нет, я все равно лежу. Я весь избит и изранен, но пока не могу сказать точно, где и как, потому что доктор еще не закончил опись остатков. Сегодня вечером он подведет итоги. Впрочем, пока он считает смертельными только шестнадцать из моих ран. Ну а остальные меня мало занимают.
Очнувшись, я спросил:
– Эти индейцы, что делают на Ниагаре мокасины и всякую всячину из бисера, это ужасное, дикое племя – откуда оно взялось, доктор?
– Из Ирландии, дорогой мой.
Как я редактировал сельскохозяйственную газету
Не без опасения взялся я временно редактировать сельскохозяйственную газету. Совершенно так же, как простой смертный, не моряк, взялся бы командовать кораблем. Но я был в стесненных обстоятельствах, и жалованье мне очень пригодилось бы. Редактор уезжал в отпуск, я согласился на предложенные им условия и занял его место.
Чувство, что я опять работаю, доставляло мне такое наслаждение, что я всю неделю трудился не покладая рук. Мы сдали номер в печать, и я едва мог дождаться следующего дня – так мне не терпелось узнать, какое впечатление произведут мои труды на читателя. Когда я уходил из редакции под вечер, мальчишки и взрослые, стоявшие у крыльца, рассыпались кто куда, уступая мне дорогу, и я услышал, как один из них сказал: «Это он!» Вполне естественно, я был польщен. Наутро, идя в редакцию, я увидел у крыльца такую же кучку зрителей, а кроме того, люди парами и поодиночке стояли на мостовой и на противоположном тротуаре и с любопытством глядели на меня. Толпа отхлынула назад и расступилась передо мной, а один из зрителей сказал довольно громко: «Смотрите, какие у него глаза!» Я сделал вид, что не замечаю всеобщего внимания, но втайне был польщен и даже решил написать об этом своей тетушке.
Я поднялся на невысокое крыльцо и, подходя к двери, услышал веселые голоса и раскаты хохота. Открыв дверь, я мельком увидел двух молодых людей, судя по одежде – фермеров, которые при моем появлении побледнели и разинули рты. Оба они с грохотом выскочили в окно, разбив стекла. Меня это удивило.
Приблизительно через полчаса вошел какой-то почтенный старец с длинной развевающейся бородой и благообразным, но довольно суровым лицом. Я пригласил его садиться. По-видимому, он был чем-то расстроен. Сняв шляпу и поставив ее на пол, он извлек из кармана красный шелковый платок и последний номер нашей газеты.
Он разложил газету на коленях и, протирая очки платком, спросил:
– Это вы и есть новый редактор?
Я сказал, что да.
– Вы когда-нибудь редактировали сельскохозяйственную газету?
– Нет, – сказал я, – это мой первый опыт.
– Я так и думал. А сельским хозяйством вы когда-нибудь занимались?
– Н-нет, сколько помню, не занимался.
– Я это почему-то предчувствовал, – сказал почтенный старец, надевая очки и довольно строго взглядывая на меня поверх очков. Он сложил газету поудобнее. – Я желал бы прочитать вам строки, которые внушили мне такое предчувствие. Вот эту самую передовицу. Послушайте и скажите, вы ли это написали?
«Брюкву не следует рвать руками, от этого она портится. Лучше послать мальчика, чтобы он залез на дерево и осторожно потряс его».
Ну-с, что вы об этом думаете? Ведь это вы написали, насколько мне известно?
– Что думаю? Я думаю, что это неплохо. Думаю, это не лишено смысла. Нет никакого сомнения, что в одном только нашем округе целые миллионы бушелей брюквы пропадают из-за того, что ее рвут недозрелой, а если бы послали мальчика потрясти дерево…
– Потрясите вашу бабушку! Брюква не растет на дереве!
– Ах, вот как, не растет? Ну а кто же говорил, что растет? Это надо понимать в переносном смысле, исключительно в переносном. Всякий, кто хоть сколько-нибудь смыслит в деле, поймет, что я хотел сказать «потрясти куст».
Тут почтенный старец вскочил с места, разорвал газету на мелкие клочки, растоптал ногами, разбил палкой несколько предметов, крикнул, что я смыслю в сельском хозяйстве не больше коровы, и выбежал из редакции, сильно хлопнув дверью. Вообще он вел себя так, что мне показалось, будто он чем-то недоволен. Но, не зная, в чем дело, я, разумеется, не мог ему помочь.
Вскоре после этого в редакцию ворвался длинный, похожий на мертвеца субъект с жидкими космами волос, висящими до плеч, с недельной щетиной на всех горах и долинах его физиономии, и замер на пороге, приложив палец к губам. Наклонившись всем телом вперед, он словно прислушивался к чему-то. Не слышно было ни звука. Но он все-таки прислушивался. Ни звука. Тогда он повернул ключ в замочной скважине, осторожно ступая, на цыпочках подошел ко мне, остановился несколько поодаль и долго всматривался мне в лицо с живейшим интересом, потом извлек из кармана сложенный вчетверо номер моей газеты и сказал:
– Вот, вы это написали. Прочтите мне вслух, скорее! Облегчите мои страдания. Я изнемогаю.
Я прочел нижеследующие строки, и по мере того как слова срывались с моих губ, страдальцу становилось все легче. Я видел, как скорбные морщины на его лице постепенно разглаживались, тревожное выражение исчезало, и наконец его черты озарились миром и спокойствием, как озаряется кротким сиянием луны унылый пейзаж.
«Гуано – ценная птица, но ее разведение требует больших хлопот. Ее следует ввозить не раньше июня и не позже сентября. Зимой ее нужно держать в тепле, чтобы она могла высиживать птенцов».
«По-видимому, в этом году следует ожидать позднего урожая зерновых. Поэтому фермерам лучше приступить к высаживанию кукурузных початков и посеву гречневых блинов в июле, а не в августе».
«О тыкве. Эта ягода является любимым лакомством жителей Новой Англии; они предпочитают ее крыжовнику для начинки пирогов и используют вместо малины для откорма скота, так как она более питательна, не уступая в то же время малине по вкусу. Тыква – единственная съедобная разновидность семейства апельсиновых, произрастающая на севере, если не считать гороха и двух-трех сортов дыни. Однако обычай сажать тыкву перед домом в качестве декоративного растения выходит из моды, так как теперь всеми признано, что она дает мало тени».
«В настоящее время, когда близится жаркая пора и гусаки начинают метать икру…»
Взволнованный слушатель подскочил ко мне, пожал мне руку и сказал:
– Будет, будет, этого довольно. Теперь я знаю, что я в своем уме: вы прочли так же, как прочел и я сам, слово в слово. А сегодня утром, сударь, впервые увидев вашу газету, я сказал себе: «Я никогда не верил этому прежде, хотя друзья и не выпускали меня из-под надзора, но теперь знаю: я не в своем уме». После этого я испустил дикий вопль, так что слышно было за две мили, и побежал убить кого-нибудь: все равно, раз я сумасшедший, до этого дошло бы рано или поздно, так уж лучше не откладывать. Я перечел один абзац из вашей статьи, чтобы убедиться наверняка, что я не в своем уме, потом поджег свой дом и убежал. По дороге я изувечил нескольких человек, а одного загнал на дерево, чтоб он был под рукой, когда понадобится. Но, проходя мимо вашей редакции, я решил все-таки зайти и проверить себя еще раз; теперь я проверил, и это просто счастье для того бедняги, который сидит на дереве. Я бы его непременно убил, возвращаясь домой. Прощайте, сударь, всего хорошего, вы сняли тяжкое бремя с моей души. Если мой рассудок выдержал ваши сельскохозяйственные статьи, то ему уже ничто повредить не может. Прощайте, всего наилучшего.
Меня несколько встревожили увечья и поджоги, которыми развлекался этот субъект, тем более что я чувствовал себя до известной степени причастным к делу. Но я недолго об этом раздумывал – в комнату вошел редактор! (Я подумал про себя: «Вот если б ты уехал в Египет, как я тебе советовал, у меня еще была бы возможность показать, на что я способен. Но ты не пожелал и вернулся. Ничего другого от тебя я и не ожидал»).
Вид у редактора был грустный, унылый и расстроенный.
Он долго обозревал разгром, произведенный старым скандалистом и молодыми фермерами, потом сказал:
– Печально, очень печально. Разбиты бутылка с клеем, шесть оконных стекол, плевательница и два подсвечника. Но это еще не самое худшее. Погибла репутация газеты, и боюсь, что навсегда. Правда, на нашу газету никогда еще не было такого спроса, она никогда не расходилась в таком количестве экземпляров и никогда не пользовалась таким успехом, но кому же охота прослыть свихнувшимся и наживаться на собственном слабоумии? Друг мой, даю вам слово честного человека, что улица полна народа, люди сидят даже на заборах, дожидаясь случая хотя бы одним глазком взглянуть на вас; а все потому, что считают вас сумасшедшим. И они имеют на это право – после того как прочитали ваши статьи. Эти статьи – позор для журналистики. И с чего вам взбрело в голову, будто вы можете редактировать сельскохозяйственную газету? Вы, как видно, не знаете даже азбуки сельского хозяйства. Вы не отличаете бороны от борозды; коровы у вас теряют оперение; вы рекомендуете приручать хорьков, так как эти животные отличаются веселым нравом и превосходно ловят крыс! Вы пишете, что устрицы ведут себя спокойно, пока играет музыка. Но это замечание излишне, совершенно излишне. Устрицы всегда спокойны. Их ничто не может вывести из равновесия. Устрицы ровно ничего не смыслят в музыке. О, гром и молния! Если бы вы поставили целью всей вашей жизни совершенствоваться в невежестве, вы бы не могли отличиться больше, чем сегодня. Я никогда ничего подобного не видывал. Одно ваше сообщение, что конский каштан быстро завоевывает рынок как предмет сбыта, способно навеки погубить газету. Я требую, чтобы вы немедленно ушли из редакции. Мне больше не нужен отпуск – я все равно ни под каким видом не мог бы им пользоваться, пока вы сидите на моем месте. Я все время дрожал бы от страха при мысли о том, что именно вы посоветуете читателю в следующем номере газеты. У меня темнеет в глазах, как только вспомню, что вы писали об устричных садках под заголовком «Декоративное садоводство». Я требую, чтобы вы ушли немедленно! Мой отпуск кончен. Почему вы не сказали мне сразу, что ровно ничего не смыслите в сельском хозяйстве?
– Почему не сказал вам, гороховый стручок, капустная кочерыжка, тыквин сын? Первый раз слышу такую глупость. Вот что я вам скажу: я четырнадцать лет работаю редактором и первый раз слышу, что человек должен что-то знать для того, чтобы редактировать газету. Брюква вы этакая! Кто пишет театральные рецензии в захудалых газетках? Бывшие сапожники и недоучившиеся аптекари, которые смыслят в актерской игре ровно столько же, сколько я в сельском хозяйстве. Кто пишет отзывы о книгах? Люди, которые сами не написали ни одной книги. Кто стряпает тяжеловесные передовицы по финансовым вопросам? Люди, у которых никогда не было гроша в кармане. Кто пишет о битвах с индейцами? Господа, не отличающие вигвама от вампума, которым никогда в жизни не приходилось бежать опрометью, спасаясь от томагавка, или выдергивать стрелы из тел своих родичей, чтобы развести на привале костер. Кто пишет проникновенные воззвания насчет трезвости и громче всех вопит о вреде пьянства? Люди, которые протрезвятся только в гробу. Кто редактирует сельскохозяйственную газету? Разве такие корнеплоды, как вы? Нет, чаще всего неудачники, которым не повезло по части поэзии, бульварных романов в желтых обложках, сенсационных мелодрам, хроники и которые остановились на сельском хозяйстве, усмотрев в нем временное пристанище на пути к дому призрения. Вы мне что-то толкуете о газетном деле? Мне оно известно от Альфы до Омахи, и я вам говорю, что чем меньше человек знает, тем больше он шумит и тем больше получает жалованья. Видит бог, будь я круглым невеждой и наглецом, а не скромным образованным человеком, я бы завоевал себе известность в этом холодном, бесчувственном мире. Я ухожу, сэр. Вы так со мной обращаетесь, что я даже рад уйти. Но я выполнил свой долг. Насколько мог, я исполнял все, что полагалось по нашему договору. Я сказал, что сделаю вашу газету интересной для всех слоев общества, – и сделал. Я сказал, что увеличу тираж до двадцати тысяч экземпляров, – и увеличил бы, будь в моем распоряжении еще две недели. И я дал бы вам самый избранный круг читателей, какой был когда-либо у сельскохозяйственной газеты, – ни одного фермера, ни одного человека, который мог бы отличить дынный куст от персиковой лозы даже ради спасения собственной жизни. Вы теряете от нашего разрыва, а не я. Прощайте, арбузное дерево!







