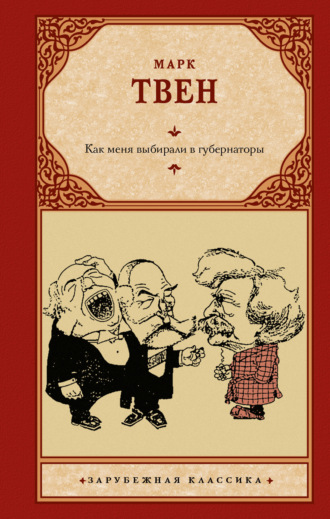
Марк Твен
Как меня выбирали в губернаторы
История о плохом мальчике
Жил да был плохой мальчик, и звали его Джим. Самые внимательные, наверное, заметят, что в книжках для воскресных школ плохих мальчиков почти всегда зовут Джеймсами. Однако этот плохиш, как ни странно, был именно Джимом.
У типичного Джеймса всегда больная матушка – чахоточная и набожная, которая с радостью уже упокоилась бы в сырой земле, кабы не самоотверженная любовь к своему сыночку и страх оставить его одного в этом холодном и жестоком мире. Она учит сына читать «Отче наш» перед сном, целует на ночь и тихим голоском напевает ему колыбельную, а когда чадо заснет, встает у его кровати на колени и рыдает. Но у нашего плохиша все было иначе. Его, напомню, звали Джим, и мать у него была жива-здорова. Ни чахоткой, ни набожностью она не страдала и, более того, совершенно не переживала за сына. Пусть хоть шею сломает, говорила она, невелика потеря. На сон грядущий она устраивала Джиму порку и на прощание не целовала, а наоборот, надирала ему уши.
Однажды он стащил ключ от буфета, залез туда и отъел варенья, а чтобы мама не заметила убыли, долил в банку дегтя. И никакое страшное предчувствие не охватило Джима, никакой голос свыше не прошептал ему: «Не совестно ли тебе обманывать матушку? Не грешно ли это? Знаешь, куда попадают невоспитанные мальчики, которые едят варенье без спроса?» Не бухнулся Джим на колени и не пообещал, что больше никогда не будет поступать плохо, и не вскочил с легким и счастливым сердцем, и не побежал сознаться во всем маме, и не взмолился о прощении, и не получил его со слезами благодарности и гордости в ее глазах. Нет, такое бывает только с плохишами из книжек, но не с Джимом, как ни удивительно. Отъев варенья, он произнес: «Ух, объедалово!», а долив дегтя, сказал: «Вот ведь очуметь придумал!» и, посмеиваясь, заметил: «То-то старуха взбесится, когда узнает!» – вот такой грубый на язык был наш шкодник. А когда мама обо всем прознала, Джим заявил, будто знать ничего не знает, за что получил хорошую порку, и слезы выступили в глазах у него… Словом, все-то у этого мальчика было не так – совсем не так, как у плохих Джеймсов, про которых пишут в книжках.
Однажды он полез воровать яблоки в саду у Джо Луда. И нет, ветка яблони под Джимом не подломилась, он не упал и не сломал себе руку, его не растерзал сторожевой пес фермера, и он не промучился много недель в кровати, не раскаялся и не встал на путь исправления. Нет, он нарвал столько яблок, сколько смог унести, и без происшествий слез с дерева. К собаке Джим тоже был готов и огрел ее по голове припасенным кирпичом, едва та к нему кинулась. Вот ведь удивительное дело: ни о чем подобном не писали ни в одной из тех книжечек в узорчатых обложках, где на картинках мужчины ходят во фраках и рейтузах по колено, а у женщин пояса платьев затянуты под мышками и нет кринолинов. В воспитательных книжках про таких, как Джим, нет ни слова.
Однажды он стащил у учителя перочинный ножик и, испугавшись, что его преступление вскроется, подсунул нож в кепку Джорджу Уилсону – сыну вдовы Уилсон, благочестивому и доброму мальчику, всеобщему любимцу, который во всем слушался маму, никогда не врал, любил учиться и обожал воскресную школу. И когда ножик выпал у него из кепки, и бедняга Джордж сразу опустил голову и покраснел, как будто признавая свою вину, и расстроенный учитель обвинил его в воровстве и уже готовился занести розги, не возник из ниоткуда седовласый мировой судья, не встал в позу и не сказал: «Пощадите этого доброго юношу, ибо вот он, подлый преступник! На перемене я проходил мимо школьной двери и, незамеченный, видел, как совершается воровство!» Никто Джима не выпорол, а почтенный судья не зачитал расчувствовавшемуся классу нравоучение, не взял Джорджа за руку и не сказал, что такой юноша достоин лучшего, и не забрал его к себе, чтобы тот мёл в кабинете, разжигал камин, бегал по поручениям, колол дрова, помогал судейской жене по дому и изучал право, а в оставшееся время веселился в свое удовольствие и жил припеваючи, получая сорок центов в месяц на карманные расходы. Да, в книжке было бы так, но только не с нашим Джимом. Никакой престарелый служитель Фемиды не вмешался в экзекуцию и никого не вывел на чистую воду, так что порка досталась примерному мальчику Джорджу, а Джим смотрел да потирал руки, потому что, видите ли, терпеть не мог примерных мальчиков. «Перебил бы всех этих рохлей», – говорил он, ведь, как уже упоминалось, был невоспитанным и грубым на язык.
Однако самая странная штука приключилась с Джимом, когда он отправился плавать на лодке в воскресенье и не утонул. А еще когда собрался рыбачить в выходной, попал под грозу, но в него не ударила молния. Можете листать воспитательные книжки хоть до следующего Рождества – нигде такого не встретите. Наоборот, узнаете, что у всех плохишей, ходящих на реку в воскресенье, лодки неизбежно переворачиваются, а все плохиши, рыбачащие в выходной, неизбежно попадают под грозу и получают удар молнией. Как нашему Джиму удалось избежать этой участи, для меня загадка.
Заговоренный был этот плохой мальчик – иначе никак. Ничто его не брало. Он даже дал слону в зверинце понюшку табаку, а слон за это не размозжил ему голову хоботом. Он искал в серванте мятную настойку и не выпил по ошибке вместо нее кислоты. Он стащил у отца ружье, чтобы поохотиться на птиц в воскресенье, и не отстрелил себе три или четыре пальца. Он со злости тюкнул сестренку кулаком в висок, но та не мучилась от боли длинными летними днями и не умерла с добрыми словами прощения на губах, которые вконец разбили нашему плохишу и без того обливающееся кровью сердце. Нет, она выжила и даже забыла про это. Наконец, Джим сбежал из дому и стал моряком, но, вернувшись, не обнаружил, что никого у него во всем мире не осталось, что все родные и близкие упокоились за церковной оградкой, а обвитый плющом дом его детства покосился. Нет, он вернулся домой вдрызг пьяный и первым делом угодил в кутузку.
В итоге Джим остепенился, женился и воспитал детей – а потом как-то ночью зарубил их всех топором. Впоследствии он разбогател на всевозможных аферах и мошенничестве. Теперь это самый отъявленный негодяй в своем городке, но все его уважают; он даже состоит депутатом в местном законодательном собрании.
Словом, ни одному плохишу-Джеймсу, знакомому нам по воспитательным книжкам, и не снилась такая полоса везения, какая досталась этому грешнику Джиму, прожившему счастливую жизнь.
Жалоба на корреспондентов, написанная в Сан-Франциско
Послушайте, за кого вы принимаете нас, живущих по эту сторону материка? Я обращаю этот прямой и решительный вопрос ко всем мужчинам, женщинам и детям, обитающим к востоку от Скалистых гор. Не считаете ли вы нас идиотами, что шлете нам эти чудовищные письма, этот бессмысленный, тупой, никчемный вздор? Вы жалуетесь, что стоит человеку прожить на Тихоокеанском побережье полгода, как он теряет интерес ко всему, что оставил на далеком Востоке, и перестает отвечать на письма друзей, даже на письма родных. Только по вашей вине! Сейчас я прочитаю небольшую лекцию на эту тему, – она пойдет вам на пользу.
Существует одно-единственное правило, как писать письма. Либо вы его не знаете, либо настолько глупы, что не считаетесь с ним. Это простое и ясное правило: пишите лишь о том, что интересно вашему адресату.
Неужели так трудно запомнить это правило и держаться его? Если вы издавна в дружбе с тем, кому шлете письмо, неужели вы не в силах рассказать ему хотя бы об общих знакомых? Можно ли сомневаться, что человек, уехавший на край света, примет с благодарностью даже самые тривиальные сообщения такого рода?
А что пишете вы, по крайней мере большинство из вас? Вы забиваете нам голову бессовестной галиматьей о людях, о которых мы не имеем ни малейшего представления, о происшествиях, которых мы не знаем и знать не хотим. Есть ли в этом хоть доля смысла? Разрешите мне представить вам образчик вашего эпистолярного стиля. Вот отрывок из последнего письма моей тети Нэнси, которое я получил четыре года тому назад и на которое не отвечаю уже четыре года.
«Сент-Луис, 1862
Дорогой Марк! Вчера мы премило провели вечер, у нас был в гостях преподобный доктор Мэклин с супругой из Пеории. Он смиренно трудится на своей ниве. Он пьет очень крепкий кофе, он страдает невралгией, точнее, невралгическими головными болями. Какой непритязательный и богомольный человек! Как мало таких на этом свете! К обеду у нас был суп; хотя, ты знаешь, я супа не люблю. Ах, Марк, если бы ты взял себя в руки и вступил на стезю добродетели! Прошу тебя, почитай из Второй книги Царств от второй главы и по двадцать четвертую включительно. Я была бы так счастлива, если бы это обратило тебя на праведный путь. Миссис Габрик умерла, бедняжка. Ты ее не знал. Под конец у нее были очень сильные припадки. 14-го числа наша армия начала наступление на…»
Дойдя до этих строк, я обычно бросаю письмо, так как знаю наверняка, что дальше пойдет сухой и монотонный перечень военных событий. Мне так и не удалось вбить в башку этим тупицам, что обо всем, что происходит в Соединенных Штатах, мы узнаем здесь, в Сан-Франциско, по телеграфу на следующий же день, и что Пони-Экспресс привозит нам все мельчайшие подробности военных событий на добрые две недели раньше, чем мы получаем письма. Вот почему я раз и навсегда отказываюсь от этих замшелых военных отчетов, даже с риском, что упущу совет прочитать ту или иную главу из Священного Писания. Письма нашпигованы подобными советами, и зазевавшийся грешник может в любую минуту угодить в капкан.
Теперь я спрошу вас, что мне до преподобного Мэклина? Какое мне дело до того, что он «смиренно трудится на своей ниве», что он «пьет крепкий кофе», что он «непритязателен», что он «богомолен», что он «страдает невралгией»? Допустим, что это прихотливое сочетание добродетелей приведет меня в восторг, но интереса к преподобному Мэклину все равно не прибавит. Сообщения о том, что таких, как он, мало и что к обеду был суп, меня радуют, – я готов честно признать это. Требование прочитать двадцать две главы из Второй книги Царств, адресованное человеку, который ни секунды не помышляет стать священником, я рассматриваю как грубое вторжение на территорию нейтральной державы. Информация о кончине «бедняжки миссис Габрик» почти не обрадовала меня, должно быть потому, что я не знал покойную лично. Впрочем, было приятно узнать, что под конец у нее были сильные припадки.
Ну что, ясно вам теперь? Ясно вам, что во всем письме нет двух слов, способных пробудить во мне хоть искру интереса? Ваши военные новости я уже знаю. Если я захочу прослушать проповедь – рядом есть церковь, где их читают гораздо лучше. Я не желаю ничего знать о бедняжке Габрик, которую не видел ни разу в жизни. Я не желаю ничего знать о преподобном Мэклине, которого тоже никогда не видел. Я спрашиваю вас: почему здесь нет ничего о Мэри Энн Смит (о, как я жажду узнать хоть что-нибудь о ней!), ни слова о Джорджиане Браун, о Зебе Левенворте, о Сэме Бауэне, о Стротере Уилли, – ни о ком, чья судьба волнует меня? И так как приведенное письмо похоже на все предыдущие как две капли воды, я не ответил на него, – на что мне эта переписка?
Моя почтенная матушка недурной корреспондент, ее письма, во всяком случае, своеобразны. Она надевает очки, берет ножницы и принимается вырезать из газет всякую всячину – передовицы, списки постояльцев в гостиницах, вирши, официальные сообщения, объявления, рассказы, старые анекдоты, рецепты «от печени», кулинарные советы, – все, что подвернется под руку (она лишена предвзятости, содержание не волнует ее); потом, взявши вырезки, она читает их, глядя поверх очков (очки не годятся, старые гораздо лучше, но она предпочитает эти потому, что они в золотой оправе), и говорит: «Уж не знаю, как быть, во всяком случае – это из сент-луисской газеты!» – и запихивает вырезки в конверт вместе с письмом. В письме она сообщает мне обо всех, кого я когда-либо знал, но, к сожалению, в такой своеобразной форме: «Ж. Б. умер», или: «В. Л. выходит замуж за Т. Д.», или: «Б. К. и Р. М. вместе с Л. А. Ж. уехали в Новый Орлеан». Она упускает из виду, что когда-то отлично знакомые имена стерлись за эти годы в моей памяти и восстановить их теперь по инициалам для меня непосильная задача. Она никогда не пишет имени полностью, я никогда не знаю, о ком она рассказывает, и принимаю решение наугад. Помню, как я оплакивал кончину Билла Криббена, – а ведь должен был ликовать, что Бен Кенфурон наконец сыграл в ящик: я ошибся, расшифровывая инициалы.
Самые интересные и содержательные письма из дома мы получаем от детей семи-восьми лет от роду. Это проверено на тысяче примеров. По счастью, им не о чем писать, кроме как о домашних новостях и о том, что происходит по соседству (взрослые считают эти новости слишком ничтожными для письма, отправляемого за несколько тысяч миль). Они выражаются просто и непринужденно и не пытаются сразить вас изяществом слога. Они сообщают то, что им доподлинно известно, и ставят точку. Они редко трактуют о высоких материях и не читают лекций на моральные темы. Их послания кратки, но всегда занимательны, поскольку речь в них идет о людях и событиях, вам знакомых. Итак, если вы желаете совершенствоваться в эпистолярном искусстве, учитесь у детей. Я храню письмо от восьмилетней девочки, храню его как достопримечательность, потому что это единственное письмо за все годы моего отсутствия, которое я прочел с непритворным интересом. Вот это письмо:
«Сент-Луис, 1865
Дядя Марк! Жаль, что тебя нет. Я могла бы тебе рассказать наизусть, как младенца Моисея нашли в тростниках. Мистер Сауэрби свалился с лошади и сломал ногу, потому что ездил верхом в воскресный день. Маргарет, наша служанка, вынесла из твоей комнаты все плевательницы, помойные ведра и старые бутылки. Она говорит: раз тебя так долго нет, наверно, ты уже не приедешь совсем. Мама Сисси Макэлрой завела нового ребеночка. Они у нее не переводятся. У ребеночка синие глазки, как у их жильца мистера Свимли, и вообще он похож на этого жильца. Мне подарили новую куклу, но Джонни Андерсон оторвал у нее ногу. Сегодня у нас была мисс Дузенбарри, я хотела дать ей твою фотографию, но она не взяла. У моей кошки снова котята – целая куча котят! Ты просто не поверишь – вдвое больше, чем у кошки Лотти Белден! Одного из них, короткохвостого, я назвала в твою честь, – такой славный котеночек. Сейчас я уже всем придумала имена: генерал Грант, генерал Галлек, пророк Моисей, Маргарет, Второзаконие, капитан Семмс, Исход, Левит, Хорейс Грили. Десятый без имени, я держу его про запас, потому что тот, которого я назвала в твою честь, хворает и, наверно, помрет. [Боюсь, что с короткохвостым сыграли дурную шутку, назвав его в мою честь. Что-то будет со следующим кандидатом?] Дядя Марк, я хочу тебе сказать, что ты очень нравишься Хэтти Колдуэлл. Она считает тебя красавцем. Вчера я сама слышала, как она сказала маме, что твоей красоте ничто не грозит, даже если ты заболеешь оспой и сделаешься рябым, – хуже, чем был, не станешь. Мама говорит, что она очень остроумная девушка [очень!]. Я кончаю письмо, потому что генерал Грант сцепился с пророком Моисеем.
Энни».
Девочка без всякого стеснения наступает мне на мозоль почти в каждой фразе своего письма, но в простоте душевной не ведает об этом.
Я считаю ее письмо образцовым. Это отлично написанное, увлекательное письмо, и, как я уже сказал, в нем больше полезных и интересных для меня сведений, чем во всех остальных письмах, полученных мной с Востока, вместе взятых. Мне гораздо приятнее узнать, как живут наши кошки, и познакомиться с их незаурядными именами, чем читать про неведомых мне людей или штудировать «Прискорбную повесть о вреде горячительных напитков», на обложке которой изображен оборванный бродяга, замахивающийся на кого-то из своих ближайших родственников пустой бутылкой из-под пива.
Моя петиция против горничных
На всех горничных вне зависимости от возраста и цвета кожи я обрушиваю проклятие холостяцкой жизни! Ибо, по пунктам:
1. Они всегда кладут подушки на край кровати, противоположный керосинке, чтобы при чтении за трубкой перед сном (древний и почитаемый обычай холостяков) вам приходилось держать книгу на весу в неудобном положении, прикрывая глаза от слепящего света.
2. Найдя наутро подушки на другом краю кровати, горничные не воспринимают это как дружеский намек. Нет, пользуясь своей безнаказанностью, безжалостные к вашей беспомощности, они снова заправляют кровать как было, в тайне злорадствуя тем неудобствам, которые вам причиняют.
3. И каждый раз после этого, заметив переложенные подушки, горничные сводят ваши труды на нет, исключительно из стремления омрачить вашу жизнь и свободу, дарованную Богом.
4. Горничные всегда ставят лампу в самом неудобном месте, а если не получается, то передвигают кровать.
5. Стоит вам отодвинуть дорожный сундук дюймов на шесть от стены, чтобы крышку можно было держать открытой, горничные непременно придвинут его обратно. Они делают это нарочно.
6. Стоит вам найти удобное место для плевательницы, чтобы та была под рукой, они обязательно переставят ее в другое, менее удобное место.
7. Они всегда убирают вашу запасную обувь в какое-нибудь труднодоступное место: чаще всего в дальний угол под кроватью. А все для того, чтобы вы корячились в неподобающей позе и, чертыхаясь, тщетно шарили в темноте обувным рожком.
8. Горничные вечно куда-то прячут коробок со спичками, причем каждый день выдумывают новый тайник, а на место коробка ставят бутылку или иной хрупкий предмет с той целью, чтобы вы, шаря рукой в темноте, непременно его разбили и были вынуждены расплачиваться.
9. Когда горничным нечем заняться, они переставляют мебель. Вернувшись вечером к себе, можете быть уверены, что на месте гардероба вдруг застанете бюро. Если же вы уйдете утром и оставите ведро с помоями у двери, а кресло-качалку у окна, то вернувшись в полночь или под утро, непременно споткнетесь на входе о кресло, а подойдя к окну, плюхнетесь в лохань с грязной водой. Просто ваши мучения доставляют горничным несказанную радость.
10. Вы ничего не найдете там, куда клали. Горничные при первой возможности переложат ваши вещи в другое место. Такова природа этого племени. И кроме того, горничные упиваются возможностью творить извращенное зло и вечно во всем вам противоречить. Если их лишить этой возможности, они погибнут.
11. Все клочки старых газет, которые вы бросаете на пол, горничные непременно соберут и сложат аккуратной стопочкой на столе, а для растопки воспользуются какими-нибудь важными бумагами. Если же некий обрывок вам ненавистнее прочих, и вы тратите невосполнимые часы жизни на попытки от него избавиться, то как бы вы ни старались, все усилия пропадут втуне, ведь горничные всегда будут возвращать обрывок вам. Это доставляет им удовольствие.
12. А еще они тратят масла для волос больше, чем шестеро мужчин. И если горничную уличить в воровстве, она станет изворачиваться. Думает ли она в это время о своей бессмертной душе? Уверен, что нет.
13. Стоит вам для удобства оставить ключ в двери, горничные отнесут его на стойку портье под благовидным предлогом, мол, чтобы защитить вашу собственность от воров. Не верьте: на самом деле они хотят, чтобы вы, и без того уставший, плелись обратно вниз по лестнице или были вынуждены отправить за ключом швейцара, которому, естественно, нужно будет дать на чай (подозреваю, эти две низменные категории существ состоят в сговоре и делятся друг с другом).
14. Горничные регулярно врываются застелить вам постель, когда вы еще не поднялись, прерывая ваш драгоценный отдых, но стоит вам подняться, до следующего утра вы их больше не увидите.
Итого, нет таких злодеяний, которых они не могли бы совершить, причем исключительно от глубочайшей порочности и ни от чего иного.
Все человеческое горничным чуждо.
Клянусь, что приложу все усилия, чтобы пролоббировать в парламенте закон об упразднении горничных!
Обстоятельства моей недавней отставки
Вашингтон, декабрь 1867 г.
Я ухожу в отставку. Бюрократический механизм, конечно, продолжит работу в обычном режиме, но уже без одной из своих шестеренок. Я был клерком в комитете по конхиологии Сената США, но сложил полномочия. Остальные члены правительства, не таясь, препятствовали моему участию в решении вопросов государственной важности, а значит, я не мог более пребывать в должности, не утратив при этом чувство самоуважения. Если бы я захотел подробно изложить все притеснения, которым мне пришлось подвергнуться за шесть дней правительственной службы, мой рассказ занял бы увесистый том.
Итак, меня назначили клерком в комитете по конхиологии, не позволив при этом взять в подчинение секретаря, с которым я мог бы играть на биллиарде. Я бы снес подобное одиночество, получай я положенное мне уважение со стороны прочих членов кабинета. Как бы не так! Каждый раз, когда какой-нибудь министр совершал оплошность, я откладывал все дела и пытался наставить его на путь истинный, как велел мне долг, – и за все время никто меня не поблагодарил. С самыми наилучшими намерениями я пошел к флотскому министру и заявил:
– Сэр, я не могу наблюдать, как адмирал Фаррагут[2] просто так катается туда-сюда по Европе, будто у него пикник. Возможно, ничего страшного в этом нет, но со стороны мне так не кажется. Если воевать там не с кем, пусть возвращается домой. Не дело одному человеку гонять с собой целый флот ради увеселительной прогулки. Это слишком накладно. Заметьте, я не против увеселительных прогулок для морских офицеров, но только если речь о разумных – экономичных – увеселительных прогулках. Например, офицеров можно было бы отправить сплавляться по Миссисипи на плоту…
Ну и буря тогда поднялась, вы бы слышали! Можно подумать, я совершил какое-то преступление. Однако я стоял на своем: говорил, что это дешево, по-республикански аскетично и совершенно безопасно. Уж поверьте, говорил я, для увеселительной прогулки нет ничего лучше плота.
Тогда министр флота спросил, кто я такой. На мой ответ, что я сотрудник правительства, министр потребовал сообщить, в какой должности. Сделав вид, будто не замечаю возмутительной бестактности подобного вопроса со стороны члена того же самого правительства, я ответил, что имею честь служить клерком в комитете по конхиологии Сената США. И вот тогда буря разразилась по-настоящему! В конце концов министр велел мне освободить его кабинет и на будущее порекомендовал совать нос только в мои собственные дела. Первой моей мыслью было добиться отставки хама, однако я бы ничего, по существу, от этого не выиграл, да и пострадал бы не только он, но и другие, так что я решил делу хода не давать.
Следом я отправился к военному министру, который не собирался меня принимать, пока не узнал, что я тоже из правительства. Не будь у меня срочного дела, полагаю, я вообще не попал бы на прием. Я попросил у министра огоньку (он как раз сам курил) и сказал, что не имею ничего против его решения поддержать условное освобождение генерала Ли с сослуживцами[3], но не могу одобрить его методов борьбы с индейцами Великих равнин. Наши силы, сказал я, чересчур распыляются. Нужно собрать индейцев в кучу в каком-нибудь удобном месте, обеспечить обе стороны припасами и устроить генеральное побоище. Для индейца, сказал я, нет ничего убедительнее генерального побоища. Ну а если резня министру претит, то следующие по надежности средства – это мыло и образование. В отличие от резни мгновенного результата они не принесут, зато причинят куда больший вред со временем, ведь недобитые индейцы смогут оклематься, но если их отмыть и воспитать, то когда-нибудь они вымрут окончательно. Чистота подорвет их здоровье, а образование уничтожит фундамент самого их бытия.
– Сэр, – произнес я решительно, – настало время применить самые жестокие, леденящие кровь меры. Ударьте по каждому индейцу, наводняющему равнины, мылом и азбукой, и пусть подохнут!
Военный министр спросил, являюсь ли я членом кабинета. Я ответил, что да, являюсь. В какой должности, спросил он тогда. Я ответил, что я клерк в комитете по конхиологии Сената США. Тогда меня взяли под арест и ограничили свободу до конца дня.
С тех пор я почти зарекся вмешиваться в дела правительства; пусть работает как хочет. Тем не менее, ко мне взывал долг, и я не мог его игнорировать. Я зашел к министру казначейства.
– Чего желаете? – спросил он.
– Ромового пунша, – ответил я, несколько сбитый с толку.
– Если вы по делу, сэр, так и излагайте. Только, по возможности, кратко.
На это я сказал, мол, сожалею, что министр позволяет себе вот так вот резко и без предупреждения менять тему, ведь такое поведение по отношению к себе я лично считаю весьма обидным; впрочем, ввиду обстоятельств государственной важности я закрою глаза на неуважительное обращение и перейду к делу. После чего я живо изложил ему свою критику по поводу чрезмерной длины его доклада. Я сказал, что текст раздут сверх меры, скучен и неуклюже построен, что в нем нет описаний, нет поэзии, нет героев, которым можно было бы сопереживать, нет сюжета, нет даже иллюстраций – хотя бы эстампов! Ясное дело, читать такое никто не станет. Я призвал министра не портить себе имя, публикуя нечто подобное. Если он надеется преуспеть на литературном поприще, нужно делать текст более живым и разнообразным, избегая сухого изложения фактов. Я сказал, что популярность альманахам приносят главным образом поэзия и сюжетные повороты: втиснуть в отчет казначейства хотя бы парочку таких, и это поспособствует его продажам куда больше, чем все налоги, которые можно туда вписать.
Я поделился этими соображениями в исключительно добродушном тоне, однако министр казначейства вышел из себя. Даже ослом меня обозвал. После чего в ядовитейших выражениях сообщил, что, если я снова заявлюсь совать нос в его дела, он вышвырнет меня в окошко. В ответ я заявил, что если меня не будут воспринимать с полагающимся моей должности уважением, то немедленно развернусь и уйду. Так я и поступил. Начинающий писатель, что с него взять! Они все такие: думают, раз их первую книжку опубликовали, то уже всё знают лучше всех. И никто им не указ.
За время, проведенное в составе правительства, я понял одно: невозможно проявить чиновничью инициативу, не угодив при этом в какую-нибудь передрягу. Однако я ничего не делал – ровным счетом ничего, – в чем не видел бы пользы для своей страны. Возможно, обида на унижения привела меня к несправедливым и вредным выводам, но мне определенно казалось, что министр иностранных дел, военный министр, министр казначейства и прочие их коллеги с самого начала сговорились выжить меня из администрации. За все время я присутствовал лишь на одном заседании кабинета, и мне хватило. Швейцар у двери Белого дома вообще не желал меня пропускать, пока я не спросил, в сборе ли остальные члены кабинета. Тот ответил, что да, и разрешил мне войти. Все и правда были на месте, однако никто не предложил мне сесть. Напротив, они смотрели на меня, будто я человек с улицы.
– Так, сэр, а вы еще кто такой? – спросил президент.
Я вручил ему свою карточку: «Почтенный г-н Марк Твен, клерк, комитет по конхиологии, Сенат США». Президент оглядел меня с ног до головы, как будто никогда прежде обо мне не слышал.
– Это тот самый настырный осел, – подсказал министр казначейства, – который советовал мне добавить в отчет стишков и неожиданных поворотов, будто это литературный альманах.
– Ага, тот гений, который заходил ко мне вчера с предложением заучить часть индейцев до смерти, а остальных перебить, – добавил военный министр.
– И я помню этого молодого человека, – вставил министр флота. – Он всю неделю отвлекал меня от работы. Его, видите ли, беспокоит, что адмирал Фаррагут гоняет с собой целый флот ради, цитирую, «увеселительной прогулки». А предложение устроить сплав на плоту слишком абсурдно, чтобы его повторять.
– Господа, – вмешался я, – мне слышится в ваших словах предубеждение и желание опорочить каждый мой служебный поступок. А также стремление отстранить меня от участия в решении государственных вопросов. В частности, сегодня мне никто даже не прислал уведомления о заседании кабинета. Я узнал о нем лишь по счастливой случайности. Не стану, впрочем, заострять на этом внимание. Скажите мне только: это правда заседание кабинета или нет?
– Да, правда, – подтвердил президент.
– Что ж, – сказал я, – тогда давайте немедля перейдем к делу и не будем тратить драгоценное время на неподобающее выискивание недостатков в работе друг друга.
Тут подал голос вечно дипломатичный и благожелательный министр иностранных дел:
– Молодой человек, вы пали жертвой недоразумения. Клерки сенатских комитетов членами кабинета не являются. Так же как и швейцары Капитолия, сколь бы странно это ни звучало. Таким образом, как бы мы ни желали выслушать ваши более чем здравые мысли, закон этому препятствует. Решение государственных вопросов должно проходить без вашего участия. Если же нацию постигнет несчастье, что ж, так тому и быть; пусть бальзамом на вашу расстроенную душу станет то, что вы и словом, и делом пытались это несчастье предотвратить. Засим выражаю вам свое благословение, прощайте.
Эти мягкие слова успокоили мое взволнованное сердце, и я удалился. Однако слуги народа не знают покоя. Едва я дошел до своей каморки в Капитолии и положил ноги на стол, как подобает чиновнику, ко мне влетел разъяренный сенатор из комитета по конхиологии и требовательным тоном осведомился:
– Где вас весь день носило?
Я заметил, что это мое личное дело, но извольте: присутствовал на заседании кабинета.
– На заседании кабинета?! И какое же дело, позвольте узнать, занесло вас туда?
Ради приличия допустив, что сенатора действительно это касается, я ответил, что ходил туда в качестве консультанта. Тогда он грубо меня отчитал, заявив, что вот уже три дня разыскивает меня, чтобы я переписал некий конхиологический отчет по каким-то раковинам – то ли ушным, то ли кухонным, то ли морским (понятия не имею, о чем речь), – но меня постоянно не было на месте.
Это стало последней каплей – той самой соломинкой, переломившей спину бюрократического верблюда.
– Сэр, неужели вы полагаете, будто я собираюсь трудиться за жалкие шесть долларов в день в такой обстановке? – произнес я. – Если так, то советую комитету по конхиологии взять на работу кого-то другого. Я вам тут не раб! И заберите свои унизительные гроши. Дайте мне свободу – или же смерть!







