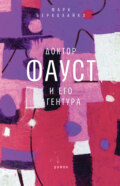Марк Берколайко
Любви неправильные дроби
Тем не менее каждым будним вечером он исчезал на несколько часов, дети Курносенькой радовались ему, как возвращающемуся с работы отцу, а внуки – как навещающему их любимому деду..
Нас он никогда не навещал. Ни когда мы болели, ни когда родители шумно отмечали наши дни рождения. Приходила на них только бабушка.
Один только его приход к нам, на Тверскую, я помню. В нашей квартире появилась тогда удивительно милая, ладная кошечка, Дымка, и дед вдруг совершил чудо – он пришел как-то в воскресенье днем, часа полтора играл с ней, потом заспешил и исчез, даже не выпив чая.
Но как он играл с Дымкой! Молодая дурында с восторгом гонялась за веревочкой, которую он возил по полу, азартно кидалась на его приближающуюся руку, отбегала и прятала голову за выступ порожка, полагая себя невидимой. А дед хохотал, как ребенок, и единственный раз в жизни я слышал, как он умеет взахлеб смеяться.
Может быть, сама лишенная детства, Курносенькая распознала, как ему, умному, зрелому, крепкому ее мужчине, надоедает быть умным и зрелым, как мечтает он просто похохотать. Может быть, она умела заставить его забывать о тяжелой кузнечной работе, об адском напряжении херсонского учения, о необходимости вламываться в мир, завоевывать его раз за разом… и оказываться раз за разом на руинах… и искать забвения в мыслях великих философов, в рвущих сердце сладких мелодиях. Может, и отдаваться ему она умела то легко и радостно, то чуть испуганно, дабы почувствовал он себя вечно молодым фавном, догнавшим легконогую нимфу. Может, и детей она наставляла не рассказывать ему о школьных трудностях, о том, как хочется есть, о синяках и обидах, а играть с ним, дурачиться, беситься. Чтобы каждый вечер обретал он в ее нищей квартирке, в двух шагах от навсегда утерянного завода, просто детство, просто юность, просто молодость и беззаботность, которых никогда до этого у него не было. И которые вдруг появились, когда пора уже спускаться с горы навстречу туману небытия.
А может, шел он к ней наперекор миру, наперекор тому, что подумают и что скажут. И спешил каждый вечер, чтобы убедиться, что хоть здесь нет руин: нет и не будет. И уходил успокоенный, но потом опять спешил, чтобы опять убедиться.
Но это я сейчас домысливаю, фантазирую, гадаю – а тогда о существовании Курносенькой даже не подозревал. Хотя… если вспомнить один мартовский день 1957-го года…
VII
Дни весенних каникул чертовски хороши, если, конечно, не свалила вдруг ангина, или мать, обеспокоенная возможной четверкой по русскому, не заставляет писать диктанты под какую-нибудь нудятину, вроде «Записок охотника».
Зимние каникулы хуже. Что с того, что елка, подарки? Все это быстро приедается, и с каждым днем неотвратимо близится бесконечная третья четверть. То ли дело – весенние! После них сразу же «первый апрель, никому не верь»… верь только, что всего через месяц веселая демонстрация, и мой день рождения не за горами, и ничего нового не проходим, а значит, еще чуть-чуть, и «темницы рухнут».
И потому трижды ура весенним каникулам, особенно, если родителями решено (дабы не болтался без присмотра) каждый день отправлять меня на Искровскую, и можно, выходя пораньше, сэкономить за неделю приличную сумму «трамвайных» копеек, и бабушка каждый день печет что-нибудь вкусненькое, а дед согласен позаниматься со мной французским.
Английский, который уже почти год изучается в школе, – это язвительная, занудная училка, помешанная на оксфордском произношении дифтонга «th», а как эту несуразность можно хорошо произнести, когда язык должен прижаться к верхним зубам, а те еще толком не выровнялись?
Но французский – совсем другое дело! Это «Три мушкетера», это тайком поглощаемый Мопассан, это «Война и мир» с самыми первыми словами: «Eh bien, mon prince…» – и дальше все, кроме лакеев, шпарят по-французски, а ты вынужден смотреть перевод внизу страницы и чувствовать себя тем самым лакеем, навсегда отлученным от высокого стиля салонной беседы.
Итак, дед согласился, мать купила учебник для пятого класса, а я, забегая в мечтах года на три-четыре вперед, мысленно грассировал, как истый парижанин, ведя игривый разговор с Николь Курсель.
Кто это?! А фильм «Колдунья» по мотивам купринской «Олеси», а совсем еще юная Марина Влади в главной роли, а эти ее длинные, до плеч, распущенные светлые волосы, эти картинные позы, взывающие к немедленной эрекции! Однако ж Марина Влади, потрясшая воображение советских мужчин, а потом и Высоцкого, мое воображение почти не затронула. А вот второстепенную роль в этом фильме играла та самая Николь Курсель – и с нею флиртовать хотелось безумно.
Крепко сжимая в руке французский для 5-го класса, я шел бодрым шагом на Искровскую, и произносимые мысленно «Мадам!», «Мадемуазель?!» соответствовали, по-видимому, на лице моем гримасам столь залихватским, что встречные юницы и гражданки испуганно уступали мне дорогу.
Как и ожидалось, горячие печенюшки поспели прямо к моему приходу, но метал я их в рот без всякого гурманства, нетерпеливо ожидая, когда же дед погрузит меня в журчащие звуки языка бретеров и соблазнителей. Это значительно позже я узнал, что французы, в большинстве своем нимало не элегантные и не похожие на любимых героев игристых романов и повестей, истинным языком любви считают итальянский. И понятно, что поведай я деду о своей мечте говорить о любви на языке любви, он с куда большим удовольствием учил бы меня итальянскому, и произносил бы я ласковые итальянские слова со страстью и певучестью голосистых гондольеров. Но, крепкий «задним» умом, тогда я нырнул всем своим недоразвитым «передним» в океан галльской фонетики. Однако дьявольщина! Почти сразу, «отфыркиваясь», обнаружил, что ненавидимый «the table» превратился в ненамного более благозвучный «ле табль», что привычные «one, two, three…» звучат по-французски весьма похоже… ну, есть разница, конечно… но не более, как если бы зануда-училка, одетая в длинную, заштрихованную светлой кошачьей шерстью юбку, перестала бы делать из своих бесцветных губ ротик снулой рыбы, а сложила бы их несвежим, мятым бантиком.
Дед быстро почувствовал угасание моего энтузиазма и с облегчением, поскольку учебник пятого класса явно вызывал у него тошноту, сказал:
– Так дело не пойдет. Так языки не учат! Возьми свои обожаемые и абсолютно пустые «Три мушкетера» на французском и на русском, сравнивай, работай со словарем, заучивай слова, а я поставлю тебе произношение и грамматику. Но учти, заниматься надо ежедневно. Сможешь?
– Нет, – честно признался я.
– А я в Херсоне учил именно так. Но по новеллам Мериме, а не по твоим пустейшим «Мушкетерам».
– Так-то вы! – промямлил я.
– Плохо! – заключил дед и погрузился в какую-то толстенную книгу.
Но не все еще было потеряно: в четыре дед обещал взять меня с собой в библиотеку расположенного неподалеку хлебозавода, а потом, как я рассчитывал, мы еще немного погуляем, и мне удастся задать мучивший в то время вопрос…
Да, интимные беседы с Николь Курсель, равно как и с любой другой французской кинодивой, стали разбитой мечтой, но в возрасте Керубино поменять мечту об одной заоблачной красавице на мечту о другой никакого труда не составляло, и под пеплом несбывшихся надежд сердце мое оставалось целехоньким.
А к обеду пришел дядя Абрам, младший бабушкин брат. В детстве он переболел менингитом, выжил, но превратился в вечно радостное дитя. Почему жена его, Ревека, тетя Рика, часто путающая кокетство с жеманностью, но, несомненно, яркая маленькая женщина, вышла когда-то за него замуж, понятия не имею. Подозреваю, что это должно было покрыть некие грехи ее девичества, но никаких явных следов былых шалостей – неприлично быстро после свадьбы рожденных детей – не существовало. Да и вообще она была бездетна, был у нее только солнечный, едва ли не гукающий и пускающий блаженные пузыри ребенок-муж.
Абрам работал в какой-то крупной конторе, Рика работала там же, но на куда более значимой должности. Складывая мозаику из оброненных при мне фраз, позже я понял, что Рика была долговременной любовницей начальника конторы, искренне к миниатюрной кокетке привязавшегося и пристроившего не-соперника-мужа на какой-никакой оклад с весьма неопределенными обязанностями.
Приходить домой обедать Абраму позволялось редко, только тогда, когда у «начальника» не было никаких эротических планов на обеденный перерыв. Вот Абрам и заявлялся на Искровскую: иногда поесть, а иногда просто надоедало ему сидеть в конторе, тем паче что его отсутствие сказывалось на работе остальных сотрудников скорее благотворно. Если же у любовников возникали планы не только на обеденный перерыв, но и на часок-другой после работы, то мужу назначалось время, когда он может вернуться домой, что неукоснительно им исполнялось и никаких протестов не вызывало.
Итак, пришел Абраша. Мы пообедали, бабушка загрохотала на кухоньке посудой, дед опять погрузился в книгу, а Абрам смотрел на него, буквально плавясь от счастья находиться вблизи такого могучего ума. Время от времени он взглядывал на меня, приглашая к своему счастью присоединиться. Вообще-то экзальтация и подхалимаж мне не свойственны, но в тот день я всерьез опасался, что дед, после фиаско с французским, общаться со мной будет неохотно и на вопрос отвечать не захочет. А потому счел за благо в ответ на Абрашины взгляды и подмигивания закатывать глаза в молитвенном экстазе и едва ли не воздевать руки горе.
Право, даже папа во дни великих католических праздников не бывает окутан таким благоговейным обожанием, и в результате дед, чуть не задохнувшись в невидимых облаках фимиама, решил обратить на безмолвный народ свое пастырское благословение. На народ в лице Абраши, разумеется, ибо мое лицо и в сотой доле так не сияло.
– Ну что, Абраша, как дела? – спросил дед строго, однако было ясно, что при любом мало-мальски удовлетворительном ответе благословение Абрама не минует.
Неопалимая купина и Божий глас не произвели когда-то на Моисея столь же сильное впечатление, как на Абрама – этот простой вопрос, прямо скажем, несколько запоздавший, поскольку вдруг замеченный дедом бедный любящий родственник уже сидел на этом же самом месте битых два часа… Радостный наш ребенок впал в оцепенение, а пока он справлялся с нахлынувшими чувствами, дед перевел взгляд на меня, и я прочел в его взгляде, что уж мне-то, отпетому бездельнику, на вопрос: «Как дела?» и ответить нечего.
Но Абраша все же собрался с мыслями, его лицо, посмурневшее было в тяжких раздумьях, опять засияло, как летний пейзаж.
– Хорошо, Гриша! Таки очень хорошо! Рикочка сегодня разрешила мне не гулять, а вернуться домой в пять часов.
Дед был явно обескуражен такой жесткой связью между состоянием Абрашиных дел и амурными Рикочкиными планами, но быстро опомнился, мимолетно ему улыбнулся и вновь взглянул на меня, приглашая оценить, в какую бездну скудоумия я свалюсь, не желая изучать французский ни по новеллам Мериме, ни даже по пустейшим «Трем мушкетерам». Но я тем не менее приободрился, почувствовав, что все ритуальные танцы на тему «Ученье – свет» уже исполнены, что деду наставлять меня во французском не больно-то и хотелось, а стало быть, поход в библиотеку хлебозавода будет хорош и вопрос мой без ответа не останется.
И вот в четыре мы отправились этаким журавлиным клином: чуть впереди дед, небрежно взмахивающий своей тяжелой тростью, а почтительным эскортом – мы с Абрашей, решившим, благо, до пяти еще было время, тоже сходить в библиотеку. Видимо, памятны были ему взбучки за несвоевременные приходы домой. «Рикочка любит, чтобы к моему приходу квартира была прибрана», – доверительно сообщил он мне по дороге, гордясь домовитой «хлопотуньей».
В библиотеке дед заговорил о литературе со скучающей дамой-библиотекаршей, преданной своей поклонницей, а я рванул к полкам «Физкультура и спорт», где с наслаждением стал перелистывать книгу Василия Васильевича Смыслова «Избранные партии».
Играл я весьма средне, но магические фразы вроде «черные по дебюту получили стесненную позицию, а их слабый пункт на f6 доставит им еще немало хлопот» завораживали меня не хуже описаний рыцарских турниров. Кроме того, шел 57-й год, самый пик соперничества Ботвинника и Смыслова, вторая их схватка за звание чемпиона мира, и я, в «перпендикуляр» настроениям всех еврейских родственников, отчаянно болел именно за Смыслова. Во-первых, мне нравилось само сочетание: Василий Смыслов – василиск, смысл, осмысленность – совсем другое, нежели Ботвинник – ботва, ботвинья. Во-вторых, сам Смыслов – высоченный, с породистым гладким лицом гедониста. В-третьих, он был певцом, с небольшим, но очень приятного тембра лирическим баритоном. Насколько же все ярче доктора технических наук Ботвинника, какого-то машиноподобного, с упрямым лицом человека, ни на секунду не забывающего о намеченной цели.
К Смыслову и относился мучивший меня вопрос. Но вопрос откладывался на потом, когда Абраша уйдет, а я останусь с дедом наедине; пока же комментарии к шахматным позициям, которые представлялись мне застывшими картинками великих битв Цезаря или Ганнибала, притягивали высоким, как сам Смыслов, смыслом.
Абраша крейсировал между библиотечной стойкой, облокотясь на которую, дед ронял веские слова, жадно ловимые пожилой библиотекаршей, и полкой в глубине зала, привалившись к которой я пытался вникнуть в тайное предназначение очередной жертвы качества.
– Так ты играешь в шахматы? – уважительно осведомлялся Абраша.
– Играю, – почти отмахивался я.
– Надо же, какой умный растет мальчик! – бормотал Абрам, отправляясь в обратный путь к библиотечной стойке.
Вскоре появлялся опять:
– Так ты таки хорошо играешь в шахматы?
– Плохо, – честно отвечал я, и Абрам, восхищенно вздыхая, отчаливал из пункта А в пункт В, гудя, как маленький трудолюбивый пароходик:
– Ведь совсем еще ребенок, а уже хорошо играет в шахматы!
Потом мы вышли из библиотеки, и на углу стремительно уходящей вверх улицы Нагорной дед вдруг сказал:
– Расходимся, друзья мои! Абраша, ты прямо, уже начало шестого. Марик, ты вниз, к трамвайной остановке – и домой. Ну а я – вверх по Нагорной.
– Дедушка, – попросил я, – а можно мне с вами, вверх? До следующей остановки.
– Нельзя, я хочу погулять один.
– Но почему?! Я вам не помешаю, у меня только один вопрос…
– Без разговоров! – почти рявкнул дед. – Я пойду один, вверх. И ты пойдешь один – вниз. Абраша, ступай домой, Рика заждалась!
Он резко повернулся, резко выбросил руку с тростью, оперся на нее и устремился прочь. И с каждым шагом рука выбрасывалась все энергичнее, трость взлетала все легче, а тело отталкивалось от нее все нетерпеливее.
Я, остолбенев, глядел ему вслед – и ничего не понимал. Почему мне нельзя дойти с ним до следующей остановки? Почему он удаляется от меня, да что там, почти убегает, так необратимо и быстро, словно бы убеждая каждым своим шагом, что это – шаг во мне неведомое, для меня чужое? И кому теперь я смогу задать этот проклятый вопрос: почему все родственники считают Смыслова антисемитом, почему, если нееврей хочет поставить мат еврею, то он непременно антисемит?
Позже я узнаю, что милейший Василий Васильевич никаким таким «анти» не был ни сном ни духом, что настоящая дворянская порода враждебна только хамоватому быдлу… но это будет позже, а пока Абраша, подпрыгивающий от нетерпеливого ожидания встречи со своей Рикочкой, заметил мое отчаяние и пожелал утешить, продолжив беседу о шахматах:
– Ты слышал, Ботвинник со Смысловым опять играют? А Ботвинник – таки наш, аид… ты, конечно, болеешь за Ботвинника?
– Нет, – помертвевшими губами вытолкнул я, – не за Ботвинника. За Смыслова.
Но у Абраши уже не оставалось ни капли терпения. Он дрожал, как ребенок, который не может допроситься в туалет, он мечтал о своей чисто прибранной квартире, из которой уже выветрился тяжкий дух чужого, сильного самца, в которой Рикочка напоит его чаем с рассыпчатым шекер-чуреком и уложит спать… милая мамочка Рикочка… и поцелует перед сном, и он будет видеть радостные сны, этот лучезарный ребенок – а как же не быть им радостным, если жизнь так чудно хороша.
И он припустил со всех ног домой, счастливо приговаривая:
– Надо же, такой маленький мальчик, а уже болеет за Ботвинника!
А дед уходил, – и уходил, как я понимал, туда, где мне места никогда не будет.
Но обернитесь хотя бы! Просто в знак того, что и сейчас, уходя, вы все же оставляете меня в другой части вашей жизни; оставляете хотя бы прощальным взмахом руки!
Обернитесь, потому что если вы не обернетесь, то я уже никогда не приберегу для вас ни одного вопроса, ни одной мечты. Ни о французском, который вы знаете совершенно, а я не буду знать совсем; ни о Римской опере, о которой вы так интересно рассказываете и где мне так хотелось побывать вместе с вами.
Обернитесь! Даже сейчас, вспоминая, я гляжу в вашу давно уже истлевшую спину – и прошу об этой малости…
Но нет, не обернулся!
VIII
Трудно связно объяснить приятелю, одевающемуся у соседнего шкафчика, что Петька мне пересказал, как Арбен ему рассказал, что его пьяный сосед рассуждал, будто сука Гитлер думал, что Сталин – говнюк, но товарищ Сталин ему доказал, кто из них на самом деле говнюк. Трудно, потому что повествование пришлось на самый конец субботнего вечера в опустевшем детском саду, где в раздевалке мы возились с бесчисленными шнурками, застежками и пуговицами под нетерпеливые окрики нашей припозднившейся домработницы Зины и под злыми взглядами воспитательницы, уже час назад возмечтавшей уйти поскорее домой.
Трудно, потому что приходилось шептать, а природа наградила меня на редкость несуразным шепотом, то не слышным в десяти сантиметрах, то вдруг слышным за десять метров, тем паче в гулкой раздевалке. Я знал, что если безапелляционно запретное слово «сука», пусть даже как характеристика ненавистного Гитлера, будет взрослыми услышано, то мне здорово влетит. Поэтому этот риф я миновал с особой осторожностью, но, миновав, воодушевился и вырванное из контекста: «Сталин – говнюк» прозвучало вполне явственно.
– Что ты сказал?! – дрожащим голосом вопросила воспитательница, не решаясь поверить ушам своим, но видя, как помертвела Зина.
– Сталин – говнюк… – честно воспроизвел я последние слова и, почуяв неладное, поспешно добавил: – Так думал Гитлер.
Но никто уже не слушал. Зина, до того меня пальцем не тронувшая, подскочила и влепила такую затрещину, что про Гитлера, пьяного, Арбена и Петьку я забыл моментально.
– Ты что болтаешь?! – вопила домработница, лихорадочно застегивая мое пальтишко и затягивая на шее шарф так туго, что способность болтать я потерял напрочь. – Ты что, фашист, болтаешь?! В тюрьму захотел?
– Надо сказать родителям! – верещала воспитательница. – Надо принять меры! Я доложу директору! – Не надо директору, – охрипшим от вопля голосом сказала Зина. – Вам же первой попадет. А я – могила…
Женщины смотрели друг на друга и думали об одном.
«Вдруг донесет… а я промолчу… Спросят, почему молчала, может, ты с этим жиденком согласна? А если сообщить, спросят: что ж он, в первый раз такое сказал? А о чем родители говорят? В случае чего скажу, последить хотела… за родителями…» – решила Зина.
«Эта не расскажет, она ж у них в доме живет! – соображала воспитательница. – Не поверят ей, что мальчишка случайно… Либо родители, либо в группе… В случае чего скажу, что решила проконтролировать группу..»
Зина выволокла из садика нас с приятелем, жившим в соседнем доме на Тверской, и началось мое восшествие на казнь. Я беззвучно рыдал (реветь в голос не позволял шарф), Зина волокла меня слева, приятель, не сказавший ни слова в мою защиту, вышагивал справа, значительный, как конвоир, и мой беззвучный плач воспринимался как трусливое «Гитлер капут!» – традиционный вопль сдавшихся немцев.
Конечно же, я знал, что детей лупят. Но что когда-нибудь будут лупить меня, да еще так демонстративно, так церемониально! А это была именно церемониальная порка и называлась она: «Молнии – да падут на лопоухую голову негодяя и да запечатают они его поганые уста!»
…Когда мы пришли домой, мать с работы еще не вернулась, а сестра подробно выслушивать Зину не стала. Она поняла, что недотепа-брат опять сотворил нечто ужасное, но собственное детство еще было памятно и для настоящей строгости душа недостаточно окаменела. Поэтому получил я лишь пару обидных шлепков, грозное «дурак!», еще более грозное «вот, погоди, мама придет!», после чего она занялась своими делами.
До прихода матери я несколько раз порывался рассказать о том, как было дело, выстраивал, уже чуть успокоившись, правильную последовательность Петьки, Арбена, пьяного и Гитлера, но сестра углубилась в занятия и отмахивалась, а Зина шипела с присвистом, яростно-предупреждающе, как плотное облако пара, которое время от времени выпускали паровозы, сбрасывая лишнее давление в котлах. И ее «У, фаш-шист!» сродни было грозному предупреждению огромной машины: «Не подходи, раздав-лю-ю-ю!»
Зина была у нас в доме третьей домработницей. Первые две до приезда в Баку жили в русских деревнях Азербайджана, населенных молоканами и староверами, бежавшими от преследований на окраины Российской империи. Попадались последователи и других сект, так называемых жидовствующих, – этнических русских, окающих по-вологодски или акающих по-рязански, но исповедывающих иудаизм в самом его дистиллированном виде.
Первая домработница, молоканочка Настенька, удивительно проворная была девчушка. Квартира под ее руками сверкала: еда, хоть и простая, всегда с пылу с жару. Помню, одевала она меня так ловко, приговаривая всякую ласковую всячину, что совсем не хотелось вырастать и учиться одеваться самостоятельно. Невероятная чистюля, в баню она бегала не раз в неделю, как весь остальной бакинский люд, без различий национальности и веры, а через день. И меня иногда с собой прихватывала, мыла властно и быстро, вертя и отдраивая, как любимую кастрюлю, и не обращая внимания на рев по причине попавшей в глаза жгучей мыльной пены. Потом мылась сама, так же тщательно отдраивая все закоулки крепенького тела, а я сидел рядышком на горячей мраморной полке, подревывал, скорее притворно, и с любопытством разглядывал грудки, торчащие, как до отказа надутые воздушные шарики, попку и веселые кучеряшки, убегавшие вниз, чтобы спрятаться между толстенькими ножками. Она же, ополаскивая в пятый или десятый раз длинные, гораздо темнее кучеряшек, волосы, ловила мои взгляды и хитренько так подмигивала, мол, смотри, пока мал! Мол, вырастешь – ни за что не разрешу посмотреть… И от подмигивания этого мне, сопляку-четырехлетке, ей-же-ей, становилось жарче, чем от горячей мраморной полки и душных волн тепла, гуляющих по огромному, плохо освещенному банному залу.
Но подрасти при ней я не успел. Вскоре она получила письмо из дому, покручинилась немножко и сообщила: «Возвращаюсь я, сосватали меня родители». Мигом собрала вещи, чмокнула меня в макушку – и исчезла навсегда…
Вторая тоже была Настей, но вот назвать ее Настенькой язык бы не повернулся. Хмурая, некрасивая дева из «жидовствующих»; понятно, что устроиться домработницей она хотела только в еврейскую семью. Но с нами ей не повезло – ни малейших признаков соблюдения запрещений и повелений иудаизма у нас в доме не наблюдалось. От этого природная хмурость быстро превратилась в озлобление праведника, вынужденного жить в окружении всех мыслимых и немыслимых пороков. Вулкан ее ненависти загрохотал очень скоро, потому что отец, бывший тогда начальником геологоразведочного треста и всю рабочую неделю живший довольно далеко от Баку, ввалился субботним вечером, в первые сутки Песах, Пасхи, когда в доме не должно быть ни крошки дрожжевого теста, и радостно возгласил с порога, что привез купленный по дороге свежайший чурек. Настя сочла это провокацией, призвала на нас все те кары, кои Всевышний обрушил когда-то на филистимлян, моавитян и прочую языческую нечисть, и рассчиталась немедленно. Никто ей вслед не горевал…
Зина же была откуда-то из Ставрополья и приехала в Баку на поиски жениха. Замысел был вполне логичен: страна воевала на бакинском горючем, и всем, кто работал в нефтедобыче или переработке, бронь давали безоговорочно. А летом-осенью 44-го, когда армия пополнилась партизанами и призывниками с ранее оккупированных территорий, стали демобилизовывать всех, имеющих к нефти хоть какое-то касательство – так в сентябре оказался дома мой отец. Поэтому найти после войны жениха в Баку было куда реальнее, чем в России. Задача решалась Зиной при каждом ее выходе на улицу. Когда мне приходилось пропускать садик, и мы шли с ней гулять на Приморский бульвар, она ощупывала взглядом всех молодых мужчин и по ей только известным критериям либо моментально выбраковывала, либо мысленно ставила «галочку». Если, откликаясь на ее взгляд, к ней подваливали «не те», она принималась притворно хлопотать вокруг меня, то поправляя одежду, то нежно осведомляясь, не замерз ли или не хочу ли часом пить? «Недостойные» понимали, что девушка – вовсе «не такая», и после двух-трех оставшихся без ответа фраз уходили ни с чем. Но зато, если подходили те, что «с галочкой», я немедленно отсылался побегать, и попытки не подчиниться пресекались ором и скрежетом зубовным.
Однако года полтора «не клевало». А потом к ней посватался Борис Гасанов, сын жившей под нами соседки, Надежды Тимофеевны, которую все окрестные женщины с испугом и ненавистью называли меж собой не иначе как Гасанихой.
…Услышав исполненный драматизма Зинин рассказ, мать побелела и взялась за меня основательно. Так основательно, что сестра не выдержала и сбежала на время экзекуции из дому. Никаких моих заранее заготовленных рассказов про Петьку и прочих мать не слушала.
– Пе-пе-петька сказал… – захлебывался я.
– Ах, Петька! – кричала мать и – бац! – припечатывала свой возглас очередным шлепком или тумаком. – Ты повторяешь слова какого-то подлеца Петьки! – Бац! бац! – Ты не повторяешь слова своих родителей, которые любят товарища Сталина и восхищаются им! – Бац! – Зина, ты слышала когда-нибудь, чтобы о товарище Сталине в нашей семье говорили без восхищения и любви?! – Бац!
– Н-нет… – выдавила Зина и, в общем, не врала, ибо я не помню, чтобы в нашей семье вообще до того говорили о вожде, с восхищением ли, без оного ли, хотя небольшой гипсовый бюст красовался на книжном шкафчике рядом со старинной шкатулкой китайской ручной работы.
– Значит, эту антисоветчину он слышал в садике?! – Бац! – Зина, почему ты не пошла немедленно к директору?
Та, понимая, что ее загоняют в ловушку, молчала.
– Я сама в понедельник пойду к директору! – совсем уже разошлась мать. – Нет, лучше завтра, в воскресенье, мы с мужем пойдем в органы! – Бац! – Мы доложим! И если они решат отправить этого идиота – бац! – в колонию для малолетних, я соглашусь! – Бац! бац! – Лишь бы они посадили всех, кто промолчал! Всех, кто не сообщил! Всех, кто не любит товарища Сталина!
– Не надо в органы! – заверещала Зина. – Не надо Марика в колонию! Он же нечаянно…
– Нечаянно! – вопил я, надсаживая глотку. – Я люблю товарища Сталина! Очень-очень люблю!
Я действительно любил товарища Сталина, о котором выкрикивал стихи на каждом праздничном утреннике, но сейчас рвал связки потому, что шестым… шестнадцатым чувством вдруг осознал: мать все проделывает не из любви к вождю, даже не в назидание мне или Зине, но для какого-то невидимого зрителя, какого-то незримо присутствующего зрителя, чье грозное – «Не верю!» – могло бы обернуться для нас на редкость плохо.
Надежда Тимофеевна, Гасаниха, почти не скрывала, что она – в доску своя в районном отделении МГБ. Стучать она начала до войны, заложила дворничиху Марусю, жившую на первом этаже нашего трехэтажного дома, до революции принадлежавшего купцу-персу. При нем на первом этаже были каморки складов, совершенно не приспособленные для жилья, но не было в стране таких нор, в которые советская власть постеснялась бы затолкать людей.
Зимой свет и воздух проникали в эти норы через крохотные оконца, выходившие на полутемный, заасфальтированный, без клочка зелени двор, туда же выходили и двери, которые измученные жарой жильцы летом держали открытыми днем и ночью – и вонь от туалетов, мусорных ящиков и нагретого асфальта пропитывала убогую мебель и латанное постельное белье.
Маруся была совсем одинока, занимала самую темную и вонючую комнатенку, болела, как и многие соседи, туберкулезом и целыми днями махала быстро стирающимися метлами на окрестных улицах и во дворах. Как-то раз в сердцах пожаловалась Гасанихе: «Метлы горят, а управдом-гнида новые не выписывает. Что ж это за власть такая жадная!» И все. И сгинула в лагерях. Не оппозиционер, не вредитель, не агент разведок – просто харкающая кровью дворничиха. Ни уму не постижимо, ни безумием не объяснимо.
А когда вдосталь напелись «Если завтра война…» и настало это накликанное «завтра», то к обычному перечню врагов народа добавились еще и паникеры. Тут Гасаниха развернулась: рыскала по Крепости, стояла в очередях, знакомилась с женщинами, без промаха выцеливая самых осунувшихся, с потухшими глазами, и заговаривала о том, что опять-де наши отступили, и карточную норму снова урезали… Провокатором она была от дьявола, удачливым была провокатором, хотя и загуляла вскоре молва, что стучит сука, стучит с извращенной фантазией, стучит вдохновенно, чтобы отмазать от военкомата и милиции своего приблатненного бугая сына. Муж, неведомый мне Гасанов, погиб на фронте, она нацепила черный траурный платок – и теперь на ее речи откликались чаще. Скольких она так погубила, не знаю. Но сына отмазала.
После войны из соседнего дома выселили две греческие семьи – Сталину в ту пору чем-то не угодила Греция; потом в немилость попал Тито, и с соседней улицы выслали красивую сербку, и Гасаниха громко жалела греков, сербов, заодно чеченцев и ингушей, но никто уже с ней в эти разговоры не вступал, отмалчивались. Дела стукаческие пошли хуже, сына со всех работ выгоняли, он сидел дома, пил и пел блатные песни, аккомпанируя себе на плохонькой гитаре двумя-тремя сбивающимися аккордами.
Вот такой женишок появился у Зины весной 52-го, после двух бесплодных лет. Как водится, пообещал бросить пить, начать работать, не покладая… но денег на принятые у азербайджанцев подарки суженой – как минимум на пару колец, зимнее и демисезонное пальто – у него не было. Гасаниха, хоть и бывшая некогда замужем за азербайджанцем, «чучмеков этих» презирала с истинно лакейским высокомерием, а потому идею таких подарков отмела напрочь. Однако ж при этом приданое, «какое у нас, русских, положено», с Зины истребовала.