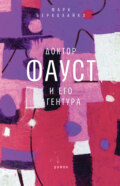Марк Берколайко
Любви неправильные дроби
© М. Берколайко, текст, 2023
© А. Кудрявцев, дизайн обложки, 2020
© ООО «Флобериум», 2023
© RUGRAM, 2024
© Т8 Издательские технологии, 2024
Седер[1] на Искровской
Когда ж придет дележки час, не нас калач ржаной поманит, и рай настанет не для нас.
Б. Окуджава
I
Я не ручаюсь за точность описаний событий, фактов, улиц, домов, игры цвета и смесей звуков и запахов; не ручаюсь за точность дат.
Ручаюсь лишь за то, что здесь нет ни одного выдуманного персонажа.
Я стал часто видеть их во сне…
На гульбе в честь своего семидесятилетия дед сдавил переднюю ножку тяжеленного стула и поднял его с пола на вытянутой руке. Плечо бывшего молотобойца сработало играючи, только крупная кисть, вцепившаяся в изогнутое основание ножки, побелела, выделив лиловый орнамент переполненных вен.
Повторить это смог только огромный, шумный дядя Коля, Коля Рябинкин, муж маминой сестры, тети Шевы. И то, пришлось ему покряхтеть, и очки соскользнули с крупного носа, и дышал он потом прерывисто и тяжело. А отдышавшись, завопил:
– Ну, Григорий Яковлевич, ну вы – мужчина! Уважаю!
А совсем немного лет спустя дед умер. Умирал тяжело, в бесчеловечной бакинской июльской жаре, и машины, проезжавшие мимо невысоко поднимавшихся над тротуаром окон, чмокали шинами, отлипавшими при каждом обороте от вязкого, жирного асфальта…
Впечатление, будто весь Баку пропах нефтью, возникало нечасто. Только осенью или ранней весной, когда ветры дули от Черного города, расстилались дымы нефтеперегонных заводов, и повсюду висел дух воистину тяжелой индустрии. Он въедался в плоть бакинского люда и заталкивал в его задыхающиеся легкие угар ударных темпов пятилеток.
Но когда летними вечерами, смягчая жару, от бухты дула благословенная «моряна», то к ароматам моря, к дымкам прибрежных шашлычных и чайхан едва примешивался запах мазутных пятен, напоминая, что и в основе духов, в основе томительной сладости «Красной Москвы» лежат высокие фракции все той же бакинской нефти.
Однако по зажатой между холмами улице Искровской, по этой узкой горловине, лишь последними своими метрами взбегавшей наверх, к Кемерчи-базару, «моряна» никогда не пролетала. И асфальт размякал, и прижимался в торопливых засосах к вечно спешащим шинам, и источал резкий запах неутоленного подросткового влечения.
Много позже, когда экраны наших телевизоров стало пучить от быстрой голливудской стряпни, услышал я в тишине ночной квартиры такие же торопливые чмоканья поцелуев, символизирующие волну страсти, накатившую на героев и героинь. И было это смешным и немного тошнотным, хотя тем летом схожие звуки будоражили воображение, отвлекая слух от частого поверхностного дыхания умирающего деда…
Иногда дыхание чуть успокаивалось, и дед звал в полузабытье бабушку – на древнееврейском, на идиш, на итальянском – но она не подходила. Коротко, мимолетно приходя в себя, он уже по-русски просил дочерей, мою мать или тетю Шеву, обтереть его губкой, пропитанной горячей водой, но пока воду согревали на электроплитке или керогазе, дед опять уходил в свой многоязычный полубред… а бабушка роняла спокойно и веско: «Нечего суетиться! Скончается – тогда обмоем!»
Она сполна мстила его распадающемуся телу за те часы, когда оно, еще горячее и сильное, щедро делилось своей витальностью с той, с другой, с гойкой, шиксой, парвеню, выскочкой, разлучницей. Впрочем, и разлучнице мстила, не разрешив проститься с дедом ни при последних всполохах его уходящей жизни, ни потом, когда он лежал настороженно-задумчивый, словно прислушиваясь к еще незнакомой речи инобытия, ничуть не схожей ни с одним из семи языков, с которыми был на «ты»…
Я никогда эту женщину не видел, не знаю даже, как ее звали, поэтому представляю такой, к какой тянулся бы сам, когда б мне стала совсем уже чужой библейская бабушкина красота: невысокой, курносенькой, с крепеньким крестьянским телом, суетящейся вокруг наконец-то пришедшего деда. А ждала еще с утра, с неуверенного предутреннего просветления. Крутилась на постели, сохранившей его запахи, их запахи, запахи вырванного у ежедневных хлопот часа, когда детей отправляли поиграть во дворе, но надо спешить – ведь того и гляди стукнут в дверь: то ли дети… пописать им, видите, срочно захотелось, то ли соседка за луковицей… завтра, мол, отдам. Да пропади ж ты пропадом со своим «завтра»! Возьмет он, да и не придет завтра… мало ли, вдруг разлюбит… или жена не отпустит, найдет, чем занять. И не будет никакого «завтра», и не придет он больше, и ничего больше не будет…
Но он приходил. Каждым будним вечером, сорок с лишним лет…
Наверняка сорок с лишним, ведь я отчетливо помню, как незадолго до выноса к гробу подошла женщина этого примерно возраста. Она держала за руку испуганно зыркавшего по сторонам мальчишку, потом притянула его, поставила перед собой так, чтобы он мог видеть мраморно-синеватое лицо, и сказала негромко: «Не вертись и попрощайся с дедушкой». Сказала негромко, но некоторые услышали. Она это поняла, прижала к себе сына и чуть угрожающе вскинула голову, по-славянски ладно круглую, но дедовой лепки – с невысоким лбом, тяжелым, нависающим над шеей и плечами затылком и невероятно густыми волосами, чуть по тогдашней моде тронутыми хной. Мальчишка, так и не уверовав в то, что это застывшее в гробу нечто – и есть дедушка, вскоре отвел глаза от лица и с почтительным интересом загляделся на поблескивающий на дальнем от него лацкане пиджака орден Ленина. А женщина стояла все так же напряженно, готовая отразить любое посягательство на их право прощания, но никто не посягал, готовились к выносу, оживленно перешептывались: открепить ли орден и понести его перед гробом или оставить так. Решили оставить, а открепить уже на кладбище…
Поразительно, сколько суеты всегда на похоронах и поминках – какое уж там, к черту, таинство смерти! Говорят, что это помогает близким пережить ужас потери… не знаю… Скорее помогает делать вид, что неутомимый косарь лишь ненароком забрел на наши луга, и не про нас, занятых столь важными заботами – что, например, делать с орденом или сколько пожарить котлет, – не про нас его то мерная, то разудалая косьба…
Заговорили, что пора отпевать. Коммунисты вышли во двор, вроде бы покурить, а кантор, неопределенного возраста худощавый человечек, запрокинул голову, вслушиваясь в затихающий звук камертона, потом сконцентрировал в кадыкастой шее вдохновенную скорбь и затянул, наконец, поминальный кадиш. Но недаром говорят, что нельзя выводить на сцену детей – их естественность губит любые режиссерские задумки.
Мальчишка, изо всех сил приподнимаясь на цыпочках, так заинтересованно тянулся к ордену, что и кантор стал невольно глядеть туда же, словно уже не Богу, а лобастому вождю адресовал экстаз и смирение тысячелетних слов.
Так это все и соединилось: поминальная молитва над атеистом дедом; орден, который он не раз брезгливо именовал бляшкой; коммунисты во дворе, своим отстраненным покуриванием подчеркивающие неучастие в отправлениях культа; служитель этого самого культа, вдруг вышедший из наработанного годами образа… а нещадное бакинское солнце выжигало и не могло никак выжечь этот абсурд, эту межеумочность, этот долгий помрак огромной страны.
А под окном плакала Курносенькая. Плакала так же горько, как и во все двенадцать дней дедова угасания. Двенадцать дней… в горячечном жару, на горячечной жаре… стоя у окна его спальни с восхода солнца и до глубокого вечера.
II
Мать никогда не говорила отцу: «Сегодня пойдем к родителям», но всегда: «Сегодня пойдем на Искровскую» – словно квартира, в которой прошли ее детство и юность, была не родным кровом, а лишь совокупностью квадратных метров в определенном месте города. Однако не только наша семья, не только мамины сестра и брат со своими семьями, но и вся прочая родня, дальняя и сверхдальняя, охотно собиралась именно «на Искровской». Потому ли, что дед и бабушка почти не появлялись вместе, и для того, чтобы повидать их, что называется, разом, требовалось отправиться к ним? Или потому, что бабушка отменно пекла и готовила, а дед, высокомерно презирая условности вроде новой одежды, в отношении этого был скуповат, но легко позволял тратить свою персональную пенсию на хлебосольство? А может, родня, восхищенная интеллектуальным дедовым могуществом, тянулась к нему, как когда-то их предки в тоскливых местечках тянулись к раввину, ребе, чтобы поделиться последними новостями, чаще плохими, и полюбопытствовать, что говорится в Торе, в поучениях светочей еврейства о еще большем озлоблении и без того изрядно злого мира. Но пока ребе любяще трепетными пальцами перелистывает страницы священных книг, можно успеть посудачить о том о сем… и что почем… и совсем уже шепотом – кто с кем…
Огромную комнату не делали тесной ни две кровати с массивными металлическими спинками; ни кушетка, каждый бугорок которой я так хорошо ощущал, изредка ночуя на Искровской; ни тяжелое немецкое пианино; ни широченные и высоченные книжные шкафы, до распора заполненные книгами на бог весть скольких языках. Все это комнату не загромождало. Настолько не загромождало, что когда деда не бывало дома, мы с двоюродным братом без помех носились вокруг огромного обеденного стола.
Черт-те какое количество гостей сбивалось за этим столом по праздникам! Но обычными воскресными вечерами собирались лишь ближайшие родственники, и дед восседал на своем обычном месте, в центре, лицом к прихожей, совсем крохотной, почти тамбуру. Входная дверь запиралась только на ночь – и стоило ее толкнуть после получасового путешествия от нашего дома в Крепости (Старом городе) до Искровской: сначала пешком, потом кружение на лязгающем, порывистом трамвае, потом опять пешком – стоило ее толкнуть, как появлялась привычная картина.
…Комната в полумраке… это оттого, что светит только одна вальяжно-пузатая лампочка под широким желтым абажуром… в центре комнаты световое пятно, а в нем середина необъятного стола… а за столом дед, оторвавшийся на секунду от чтения ради энергичного приветственного возгласа…
Глазам моим, привыкшим к темени плохо освещенных улиц, в первый миг больно видеть этот яркий центр комнаты, центр устойчивости бытия, в котором все навечно: сверкающий под лампой ежик густых седых волос, уверенно лежащие на столе крупные руки бывшего молотобойца, а между ними – книга, чаще всего какого-нибудь философа… чаще всего на языке оригинала…
Потом глаза приспосабливаются, и вот в полумрак прихожей вплывает бабушка – как капельдинерша навстречу припоздавшему зрителю, чтобы сказать негромко «Добрый вечер», и в полутьме комнаты, как полутьме зрительного зала, указать свободное место.
…Поставив на огонь керогаза чайник, бабушка выносит из кухоньки, отделенной от прихожей тонкой фанерной перегородкой, блюдо со свежеиспеченным чем-то… и зажигает в комнате все бра и торшеры – и появляются другие пятна света: пятно – пианино, пятно – кушетка, пятна – шкафы… Они сплетаются в дружном узоре, но на них глаза уже почти не реагируют, а вот та, первая картина, явившаяся в окружающей тьме, как «Да будет свет!», остается.
И, наверное, из-за нее меня будут впоследствии так завораживать мгновения, когда среди черноты сцены лишь актер освещен лучом прожектора, а его акцентированные жесты, повторенные пульсацией косо падающей тени, словно расставляют в страстном монологе знаки препинания. И о чем бы ни был монолог – он всегда об одном. О кратком миге света, в котором нам, случайно вырвавшимся из вечной тьмы, позволено побыть – и теснятся восклицательные знаки, жалобы на неизбежность ухода; лихорадочные запятые, отделяющие одно усилие вымолить отсрочку от другого; многоточия робкой надежды на то, что уход – не навсегда.
…Дед читал внимательно, но умудрялся при этом улавливать суть общего разговора. Его ничуть не раздражал контраст между очевидно сегодняшними темами воскресных пересудов и тем надмирным, вокруг которого плелись словеса в каком-нибудь толстенном томе Гегеля или Спинозы. Более того, изредка отрываясь от чтения, дед вопрошал у моего несловоохотливого отца, единственного из всей родни коммуниста, о чем, к примеру, толкуют решения очередного съезда партии или пленума ЦК. Выслушав краткий четкий ответ, скептически хмыкал и без малейшего напряжения нырял обратно в густой туман гегелевского текста.
Радио на Искровской не было. Газеты не выписывались. Правда, во второй комнате стоял телевизор, «КВН» (так называлась марка). Огромный ящик с непропорционально маленьким экраном, на котором разглядеть что-нибудь, особенно движущееся, было нелегко, и поэтому к ящику пристраивалась большая линза. Этот телевизор для нас, внуков: меня, двух почти взрослых кузин, двоюродного брата младше на год – был главным призом за покорность, с которой мы плелись на Искровскую. Линза давала правильное увеличение лишь для тех, кто смотрел в ее центр, поэтому мы сидели, тесно прижавшись друг к другу, и каюсь, удовольствие прислониться к упругим бокам и ножкам стремительно взрослеющих кузин много перевешивало впечатления от происходящего на экране.
Может, поэтому я и до сих пор не очень увлечен телевидением? Экраны стали невообразимо большими, а вот тесно прижавшихся ножек нет.
Дед, конечно же, мог бы знать все новости, если б смотрел телевизор, но его образу мудреца, лишь изредка снисходящего до суетности мира, это противоречило. Как бы то ни было, новости, обсуждавшиеся за его столом по воскресеньям, были окошком в реальность, которую, презирай, не презирай, но знать все же надо. Изредка мы приносили ему газеты, в которых, как считал отец, было что-то важное, дед проглядывал их (далеко не так внимательно, как Гегеля или Спинозу) и, на зависть будущим советологам, выуживал из междустрочья коммунистических газет точные прогнозы. По крайней мере, на ближайшее будущее.
Мать рассказывала, что на газетные истерики по поводу евреев – критиков и безродных космополитов, дед реагировал сравнительно спокойно. Заметно мрачнел во время вакханалий по поводу генетики, кибернетики и языкознания. Но это была не тревога патриарха за судьбу своего рода. Ему, вырвавшемуся из нищей юности, ставшему доктором химии Римского университета, магистром философии Сорбонны, полиглотом, было невмоготу противно, что судьбы страны и мира вершит плохо говорящий по-русски, стремительно маразмеющий старик, несомненная гениальность которого (по крайней мере, в части виртуозного манипулирования массами) уступила место самодовольному: «Нэ понимаю, значит, уничтожу!»
Но вот когда заголосили о еврейских врачах-убийцах, дед буквально помертвел. И сказал старшей дочери, моей матери: «Пора. Не больше двух чемоданов. Документы. Самое теплое. И самое ценное». И грозно – бабушке: «Все украшения раздай детям. Мы с тобой сдохнем здесь».
Может быть, не мыслил себя без живущей в нескольких кварталах Курносенькой. Или без своих любимых книг. Или просто мечтал умереть героически, с вызовом. Может, видел мысленно, как в незапертую входную дверь вваливаются гэбисты (как когда-то в одесскую квартиру вваливались чекисты), дают час на сборы, а он, оторвавшись от Гегеля или Спинозы, говорит им высокомерно: «Хватит меня гонять. Набегался. Никуда мы не поедем. Стреляйте, и будьте прокляты!» И они стреляют, и он уносится к Богу и задает ему давно мучающий вопрос: зачем, давая талант тем, кто вовсе не собирается зарывать его в землю, Он, Всевышний, словно нарочно устраивает так, что талант тонет в грязи, в болоте, в дерьме?
Но случись выселение, все было бы гораздо проще. Зачем, спрашивается, стрелять, а потом объясняться? Вломили бы в ответ на героические слова прикладом по башке, швырнули бы бездыханного, в грузовик, а вдогонку, из особой милости или из смеха, зашвырнули бы Гегеля. Или Спинозу. Потом в товарный вагон, строго по списку, чтобы ответственный за выселение евреев из Баку мог бы отчитаться наверх: «Город очищен на сто процентов. Эксцессов не было». А потом, недели через две, где-то на Дальнем Востоке, ответственный за прием эшелонов вычеркнул бы фамилию деда из списка живых прибывших и внес бы в список умерших по дороге. И доложил бы наверх: «Эксцессов не было».
И был бы абсолютно прав, поскольку труп старика – это не эксцесс, а естественная убыль. А чей там труп: доктора ли химии Римского университета или просто жидовской морды… да какая, на х…, разница?
III
В моей памяти дед и Искровская всегда вместе, но почему Искровская – это именно «Искровская», а не какая-нибудь «Предбазарная»? Не потому вовсе, что на ней располагались кузницы, в которых искрилась отбиваемая окалина, не потому, что в многочисленных чайханах близ Шемахинского (Кемерчи) рынка улетали в черное южное небо снопы искр от раздуваемых самоваров; нет, совсем не потому.
В честь большевистской газеты «Искра» была она так названа. И опять же не потому, что здесь жили самые преданные поклонники этого набата революции. Обитатели улицы и по-азербайджански читать толком не умели – где уж им было разбираться в постоянной сваре большевиков со всеми прочими знатоками марксизма.
Просто здесь, в начале теперь уже прошлого века, где-то между чайханами и хашными, между шашлычными и кебабными втерлась подпольная типография «Нина».
В ней, по версии Лаврентия Павловича Берии, изложившего в знаменитой своей книге историю большевистских организаций Закавказья, печаталась «Искра».
Когда я учился в четвертом классе, нас повезли туда на экскурсию. Небольшая комната с совсем уже небольшим подвалом, в котором едва помещались массивный печатный станок и Валентина Даниловна, наша учительница до пятого класса, нестарая еще, но высохшая в своем одиночестве жрица советского воспитания.
Она спустилась в подвал, заставив нас сгрудиться вокруг люка, который во времена подполья заслонялся от мерзкого ока царской охранки огромным сундуком. Сундук был воистину устрашающ! Теперь он стоял в углу комнаты, был огорожен багровым канатом и мог бы спрятать в своих недрах полкласса или половину Алмазного фонда страны.
Об Алмазном фонде я упомянул не из-за поклонения Мамоне, а потому, что мы с Вовкой, прочитавшие только что «Копи царя Соломона», едва взглянув на сундук, тут же заспорили шепотом, сколько самородков из этих самых копий могло бы в нем поместиться. Мы спорили яростно, с темпераментом толкователей Торы. Мы называли фантастические цифры размещаемых в сундуке каратов, мы упивались самим звучанием слова «карат», мы произносили его, вопреки правописанию, с двумя, тремя, десятью «р» – благо, возможная местечковая картавость была изничтожена у нас нашими родителями в самом раннем детстве.
И не беда, что ни Вовка, ни я ни одного алмаза в глаза не видели! Спор – это способ существования активного еврейского ребенка, и чем меньше понятен ему предмет спора, тем более он активен.
Нам с Вовкой мешала только Валентина Даниловна. Чутким своим ухом она иногда улавливала наш страстный шепот и вопрошала из подвала зовом, пронзительным, как неразделенная любовь: «Ученики Берколайко и Зауберман! Вы – опять?!» Этот экзистенциальный вопрос, звучавший – в прямом смысле слова – из большевистского подполья, заставлял нас временно отвлекаться от сундука и каратов. И слава богу, что заставлял! Ибо одно из отвлечений пришлось на очень интересное место из рассказа Валентины Даниловны: почему подпольная типография называлась «Нина».
– Это давало большевикам возможность, – горячилась Валентина Даниловна, – назначать друг другу конспиративные встречи словами: «Сегодня вечером собираемся у Нины». Вы понимаете, как это сбивало с толку царских жандармов?
Еще бы нам не понять! Слишком много книг «про шпионов» мы прочитали, чтобы не оценить гениальность такой конспиративной находки! В самом деле, если б большевики говорили друг другу: «Сегодня в семь собираемся в подпольной типографии у Шемахинского базара», то даже дурковатые царские жандармы сообразили бы в конце концов, что дело нечисто. А вот заглянуть на вечерок к веселой Нине, знамо для чего собирающей столько мужиков разом, – тут для дурковатых жандармов ничего странного не было…Для чего именно стоит собирать столько мужиков, нам было действительно знамо, ибо накануне летом нас пристроили в пионерлагерь «Азнефти», под Баку, и там ребята из старшего отряда, обуянные духом просветительства, открыли наши наивные глаза на то, откуда берутся дети. Открытие глаз сопровождалось показом скверно отпечатанных, затрепанных фотокарточек, на которых процесс детопроизводства демонстрировался в широчайшем диапазоне: от лишенных нежности прелюдий до лишенных изящества свальных сцен.
Почему же не штатный экскурсовод, а Валентина Даниловна вещала о типографии, да еще и в столь непривычном для советского педагога состоянии: не сверху вниз, а снизу вверх? Дело в том, что она четыре года назад возила на экскурсию свой предыдущий класс, и ей решительно не понравилось, что экскурсовод, пожилой, одышливый азербайджанец, рассказывая о печатании пламенной «Искры», сам не воспламенялся. Наша нервная жрица за четыре года прочитала кучу книг о типографском деле и так переполнилась информацией, что обойтись формальным: «Ученики и ученицы! Вот печатный станок, вот люк, а вот сундук…» – никак не могла. Повествовать из глубины было ее счастливым дидактическим открытием. Тем паче что оттуда, из подвала, особенно символично звучало и пушкинское: «Во глубине сибирских руд…», и ответ Одоевского, слова из которого: «Из искры возгорится пламя!», побудили Ленина назвать свою газету столь пожароопасно.
Бедная Валентина Даниловна! Воистину, она не предугадала, как странно отзовутся ее слова в наших с Вовкой чересчур пытливых умах! Но что оставалось делать, если сомнения мучили нас неотвязно? Только искать ответы и находить их!
Самый главный ответ: без реальной, живой и соблазнительной Нины никакой конспираций и не пахло!
В самом деле, рассуждали мы, такой сундучище не мог стоять на люке пустым или полупустым, ведь любой случайно зашедший жандарм, пнув его, сразу заподозрил бы неладное. Стало быть, сундук был набит под завязку. Перед началом набора «Искры» его следовало сдвинуть. Ну, навалились наборщики, верстальщики и печатники (про все эти профессии нам подробно рассказала жрица), покряхтели… сдвинули. Спустились в подвал, начали набор. А тут – натеньки! – неожиданный визит жандарма… стук в дверь… вопль: «Откройте, полиция!». Что делают большевики? Задувают лампы в подвале – это раз. Выскакивают наружу – два. Закрывают люк – три. Ставят (быстро, не кряхтя и, главное, бесшумно) сундук на место – четыре. Садятся за стол – пять. Открывают дверь – шесть. Входит жандарм и видит: сидят мужики, жрут водку, но руки-то от свинца черным-черны. «Ага, – думает жандарм. – Значит, наборщики, верстальщики и печатники. В одном месте собрались… И долго не открывали… не иначе, что-то печатали!»
Стало быть (и это первый наш с Вовкой вывод), кроме типографских рабочих должны были собираться еще и носильщики, которые переносят сундучище туда-сюда. И должно было их быть немало, человек шесть. Но ведь жандарм может и по-другому подумать: «Ого, сколько носильщиков! Что это они тут носят? Уж не бомбы ли?!» К тому же в подвале полно наборщиков, верстальщиков и печатников, которым душно, которые тяжело дышат…
Второй наш вывод: внимание жандарма должен кто-то отвлекать! Кто? Вот та самая Нина, скорее всего, пухлая блондинка. Как отвлекать?
Тут мы посмотрели друг на друга и покраснели. Потому что вспомнили одно и то же. Фотографические карточки.
Третий вывод произнесен не был, но рожден был. Наши длинные языки нашептали его остальным пацанам класса, и вот поздней осенью 55-го года, в помпезном, всегда пустом сквере, расположенном недалеко от школы, перед музеем истории большевистских организаций Азербайджана, ниже постамента высоченной статуи Сталина, состоялась премьера поставленного мною действа: «Большевичка Нина отвлекает внимание царского жандарма».
В качестве сценической площадки был выбран бассейн фонтана, естественно, бездействующего. На одной стороне его борта сгрудились зрители – пацаны из нашего и смежного классов. На диаметрально противоположной стороне, как на сундуке, сидели, болтая ногами, шестеро носильщиков. Под их болтающимися ногами лежали пузом на ранцах несколько наборщиков, верстальщиков и печатников. Они пыхтели, изображая тяжелое дыхание запертого в подвале трудового коллектива, и постукивали палочками по днищу фонтана – это был шум печатного станка.
Играющий жандарма Коля Холодов шел рыскающей розыскной походкой от непосредственно фонтана к видимым носильщикам, а также невидимым верстальщикам. Он зловеще поигрывал «эфесом» шашки – толстенной палки, заткнутой за ремень, и взволнованные зрители понимали, что эта-то сволочь непременно погубит типографию, а может быть, и все большевистское движение Закавказья. Но навстречу губителю порывисто кинулась Нина – то бишь Вовка, под ученическую куртку которого были впихнуты два детских резиновых мяча нехилого диаметра и почти первозданной упругости. Весь Вовкин вид выражал такую беззаветную готовность к прелюбодеянию, что жандарм, хоть и сволочь, но все же мужик, замедлил шаг.
– Кто такие? – проорал он, указывая на нахохлившихся обитателей насеста-сундука.
– Братаны! – громким фальцетом ответил Вовка.
– Что, все твои?! – не верил жандарм, сравнивая злые многонациональные лица носильщиков с мононациональным Вовкиным лицом.
– Все, как один! – пропищала «Нина», судорожно дергаясь мячами.
– А что там стучит и дышит?! – совсем уже не веря, вопросил Холодов, наполовину обнажая шашку.
В этот кульминационный момент «Нина» использовала извечную женскую уловку, почерпнутую мной из тайком прочитанных романов.
– Ах, это стучит мое сердце! – проверещал Вовка, силой наклонив голову тщедушного Холодова под левый мячик и силой же кладя оторванную от эфеса руку Холодова на тот же мячик. – Послушайте, как оно стучит, и как шумно я дышу!
– Вот сейчас проверю у всех паспорта! – просипел полузадушенный, но заметно помягчевший Холодов.
– Зачем же вам их паспорта? – добила «Нина» его служебное рвение. – Возьмите лучше мой паспорт!
И она втолкнула свободную правую «грудь» в кисть тоже свободной, но левой жандармской руки.
Так они и застыли. И то, что должно было случиться меж ними потом, я не решился бы поставить на сцене даже сейчас…
Но пауза не была томительной, ибо вскоре случился апофеоз. Я взобрался на широкое жерло фонтана и оттуда проорал статуе Сталина и осеннему небу: «Наш скорбный труд не пропадет! Из искры возгорится пламя! И просвещенный наш народ! Сберется под святое знамя!»
Знамени не было, зато заранее предупрежденная часть зрителей закричала «Ура!» и замахала сорванными с груди пионерскими галстуками, изобразив уже вполне просвещенный народ.
Получилось очень красиво. Но все ограничились премьерой, потому что взбунтовались молчаливые братаны-носильщики. Они предложили, дабы не отдавать пышные груди большевички в лапы царской охранки, жандарма застрелить, причем сразу, без всяких там фиглей-миглей.
– А куда мы денем труп? – возражал я.
– В подвал сбросим, – возражали мне. – А наборщики, верстальщики и печатники оттуда вылезут, и мы все вместе пойдем бить других жандармов. Их будут играть пацаны из «четыре-шесть».
Конечно, мне тоже хотелось хорошей кучи-малы, но! Но тогда бы получилось, что первое вооруженное восстание пролетариата состоялось не в 1905-м, в великой столице Москве, а гораздо раньше, в пропахшем нефтью Баку. И я отказался и, с точки зрения исторической правды, был совершенно прав.
Но как завидно стало мне много лет спустя, когда прочитал полную исторических неточностей пьесу Петера Вайса «Преследование и убийство Жана Поля Марата, разыгранное обитателями сумасшедшего дома в Шарантоне под руководством маркиза де Сада». Ведь как великолепно могла называться моя постановка: «Великая битва бакинских носильщиков, наборщиков, верстальщиков и печатников с царскими жандармами, сыгранная у подножья десятиметровой статуи товарища Сталина». Скорее всего, она не стала бы классикой, как пьеса Вайса, однако согласитесь, по крайней мере, что подножие статуи товарища Сталина куда величественнее какой-то там парижской психушки!
…Но шутки шутками, а счастье наше, что все эти кривляния не увидел никто из взрослых, а небитые пацаны из «4–6» помалкивали. Конечно, уже 55-й год, уже больше выпускали, чем сажали, но…
Это позже, это потом стали говорить почти в полный голос, что никакая «Искра» в Баку не печаталась, что весь тираж ввозили в Россию под своими широкими юбками дамы-большевички, что вообще никакой типографии не было, что все это напридумывал Берия, дабы возвеличить роль жившего в начале века на бакинских нефтепромыслах Сталина, а такое название для типографии батоно Лаврентий придумал в честь жены…
Однако детей на экскурсии возили до конца 80-х, а улица так и оставалась – Искровской.