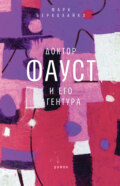Марк Берколайко
Любви неправильные дроби
IV
В своем родном местечке дед окончил без особых успехов хедер, начальную религиозную школу. Отец его, мой прадед, умер рано, семья нищенствовала, и даже бар-мицву деду справляли какие-то родственники. Бог знает, кому из них пришла в голову мысль отдать невысокого, щуплого мальчишку в подручные к сельскому кузнецу: бог знает, почему кузнец взялся учить этого доходягу нелегкому своему ремеслу. Наверное, и на кузнеца деньги с неба не сыпались, село было бедным и выбирать подмастерьев было почти не из кого. Брал, что подворачивалось; подвернулся тощий жиденок, ну и ладно – загнется, так Христос не заплачет.
Однако ж звезды на дедовом небосклоне располагались как надо. И то, что в хедере учился без блеска, тоже оказалось на руку: ну схватывал бы на лету куски из Танаха, ну восхитил бы с десяток сутулых талмудистов и воспитали бы они его таким, какими были сами – получахоточным, с отрешенным взглядом нежильца. А так физический труд, грубая пища в доме хохла-кузнеца (сало дед трескал за милую душу до самой смерти) сотворили чудо. И хоть росту прибавилось немного, но широченные плечи, но сильные руки! И это так выделяло его среди сверстников, местечковой затхлостью обреченных на физическую немощь, что жизнь представлялась ему не иначе как череда решений всему вопреки и действий всему наперекор. Из такого материала извечно близорукая российская власть пачками производила своих могильщиков, но бредни о всеобщем равенстве деда никогда не увлекали. Не чувствовал он, полуграмотный крепыш, себе равными ни соплеменников своих, задавленных двумя тысячелетиями гонений и погромов, ни крестьян-соседей, готовых удавить за копейку и удавиться за рубль.
Был он, Герш Аврутин, и был мир. Немилосердный, грубо, Богом ли, дьяволом ли сработанный, но мир, которому надо было доказать, что Герш Аврутин – есть! И извольте считаться!
Скопив немного денег, он в восемнадцать лет уехал в Херсон. Там, изредка подрабатывая грузчиком в гавани, изредка нанимая репетиторов, за четыре года сдал экстерном полный курс классической гимназии. И не просто сдал, а получил золотую медаль.
Непостижимо! Латынь, греческий, французский, немецкий; только языков – четыре! А ведь для него тогда и русский-то был почти иностранным!
…Есть два великих романа: «Красное и черное» и «Мартин Иден». Оба о людях, к которым мир был враждебен изначально. Жюльен Сорель ввинчивался, вкручивался в этот мир. Мартин Иден – вламывался. Оба закончили крахом. Но каким величественным крахом, какие изумительные страницы им посвящены! И когда читаю, как неграмотный моряк за считаные годы сделал себя ярким писателем и философом, вспоминаю деда.
Можно ли сказать, что его жизнь закончилась крахом? Внешне все так. Дважды был взбесившимся быдлом разорен и начинал с нуля. Над его аналитическими записками об использовании дикорастущего граната, покрывавшего невысокие склоны гор, в Госплане Азербайджана смеялись (подруга матери, работавшая в том самом Госплане, сказала ей как-то: «Попроси отца не посылать нам больше эти записки, над ними все смеются»). Умирая, мечтал, как о райском блаженстве, о возможности принять ванну. Ни в ком из детей своих не видел проблесков собственных громадных способностей, собственной бешеной витальности. Все это смотрится крахом. Но сам он вовсе не выглядел потерпевшим поражение…
После получения золотой гимназической медали дед недолго размышлял: а что дальше? Пробиваться в российские университеты с их процентной нормой для евреев значило вкручиваться в мир, а дед хотел вломиться. Потому уговорил дальнего богатого родственника одолжить ему немного денег, выправил заграничный паспорт и махнул в Рим. Почему в Рим? А потому, что Италия в начале прошлого века развивалась стремительнее и интереснее всех прочих в Европе. Те самые итальянцы, которых воспринимали не иначе как теноров, художников, карбонариев и романтических любовников, оказались вдруг прекрасными математиками, физиками, инженерами; людьми едкого, практичного ума и редкостного трудолюбия. Им не надо было, подобно французам, соответствовать своей блестящей истории или, подобно немцам, – соответствовать великому духовному наследию. Им просто нужен был успех.
Во всем.
Равно как и деду.
В Римском университете работала хорошая школа пищевой химии, и дед отправился именно туда. Видимо, после голодного детства и грубых харчей кузнеца само сочетание «пищевая химия» казалось пропуском в другую жизнь, тараном, который пробьет стены отгородившегося большого и кипучего мира, любящего вкусно поесть и увлекавшегося консервированием.
Герш Аврутин записался на первый курс Римского университета в 1906 году. Одолженные деньги быстро таяли, но ему ли было унывать! Через полгода он уже знал итальянский настолько, что начал давать уроки приезжающим из России и Германии студентам и стажерам. А еще подрабатывал гидом. А еще, сделавшись страстным меломаном, посещал оперные театры. Дневным поездом в Венецию или в Неаполь, или в Милан, три часа наслаждения любимыми Верди, Россини, Леонкавалло; потом ночным поездом обратно в Рим – и опять библиотека, лаборатории, репетиторство. Брешь в стене мира увеличивалась: полный курс университета – досрочно, магистерская диссертация, она же в Риме и докторская – досрочно. И вот через пять лет – красивый диплом в виде свитка плотной гербовой бумаги, а на бумаге затейливой каллиграфией, да на латыни: доктор химии Григорий Аврутин (долой Герша; Гершем он уехал из России – и не для того, чтобы Гершем оставаться!).
Зачем же он вернулся? Два университета Италии предлагали ему позиции на химических факультетах, в том числе и родной. Римский. А ведь он любил Рим! Как часто я заставал его листающим тяжелый альбом с видами Рима, и понятно было, что, вглядываясь в ему только приметные детали, он опять гулял по этой набережной Тибра, по этой площади, в этом проулке… И вернуться, чтобы закончить жизнь на Искровской, в нелепой, огромной, бивачного вида квартире, в которой не то что ванной или туалета – кухни толковой не было! А ведь в Италии лет через десять он наверняка бы стал постоянным профессором, европейски известным ученым. И что там пищевая химия! Он мог бы заняться органической и поучаствовать в воцарении полимерных материалов; он мог бы заняться радиоактивными веществами и – кто знает? – работать с легендарным Энрико Ферми, сначала в Италии, потом в Штатах…
Но что толку в этих «бы»! – он вернулся в Россию, и причиной тому были два человека.
Моя бабушка… Она была, бесспорно, красива чеканной, библейской красотой и появилась в жизни деда вполне закономерно, в соответствии с тем, что любое воспарение, любой полет, какими бы свободными они ни были, незаметно глазу, неподвластно анализу и не тревожно для интуиции порождают путы, сводящие всю эту свободу на нет. Счастье, когда есть ясный выбор «или – или»: молодость и Гретхен в обмен на сущий пустячок – в загробной жизни будешь рабом Сатаны… или не соглашайся, друг Фауст, дряхлей дальше и умри, понимая, что не жил…
А если никаких «или – или», а скажем, так: конечно, Гершеле, дорогой мой родственник, наслышан о твоих успехах, горжусь тобой; конечно, деньги в долг дам… а кстати, познакомься, моя дочь Голда. Как чувствовал, когда давал ей имя Голда – золотая, – посмотри, какая выросла красавица, золотце мое, услада моего сердца. И мимолетный вежливый кивок, мимолетный взгляд больших, чуть сонных глаз… а Герш чуть зубами не скрежещет от нетерпения, спасибо за деньги, но отпусти же поскорее, старый болтун, какое мне дело до услады твоего сердца, когда мое собственное шарахает в грудь, как сбивающий окалину молот: «В Италию, в Рим! В Италию, в Рим!» И невдомек, что в комнате есть еще одно, третье сердце, а оно так сжалось при виде этих широких плеч, этой тяжелой кисти, радостно и намертво вцепившейся в пачку сулящих через две-три недели Колизей, Тибр и свободу. И невдомек, что в самой глубине вроде бы едва скользнувших по нему чуть сонных глаз была мысль: «Мой!» И через год пришло письмецо: дорогой родственник, твой похвальный пример так увлек усладу моего сердца, что она тоже решила изучать химию и тоже в Римском университете. Ты уж встреть Голдочку, помоги ей с обустройством, а я тебе прощу треть долга.
И вот между лабораториями и репетиторством, библиотекой и бельканто урывается часок, а потом и другой – и красивые, чуть сонные глаза начинают странно волновать, внушая, что кроме сумасшедшего крещендо вечного штурма есть еще и тихая музыка покоя; и случайная фраза вдруг начинает значить больше мудрости толстенных томов, потому что завораживает то, как она сказана. Как дрогнул голос, взмахнули ресницы, завибрировал застывший воздух в маленькой комнатке… Завибрировал и опять застыл, тихонько посмеиваясь над суматохой Вечного города…
А еще был маленький вертлявый бесенок, то ли грек итальянского происхождения, то ли итальянец – греческого. Разбогатев на поставках в Россию лимонной кислоты, он задумал наладить ее производство где-нибудь на юге империи, на каком-нибудь местном сырье. Ну а где всего вольготнее такому вот предприимчивому греко-итальянцу? Разумеется, в Одессе. Он искал в Риме кого-нибудь, кто разработал бы технологию. Быстро нашел деда. Тот разработал. Это, собственно, и стало сердцевиной его докторской диссертации, а греко-итальянец купил оптом и технологию, и деда со всеми его грандиозными планами.
Григорий Аврутин радостно и свободно парил навстречу своей грядущей несвободе, но выговорил себе еще год. За этот год Голда, фактически уже жена, настойчиво убеждавшая, что жить надо в России, тоже станет с его помощью доктором химии, а сам он… Сам он, умудрившись во время работы еще и сдавать курсы на философском факультете, решил часть полученных за технологию денег потратить на изучение философии в Сорбонне.
Зачем ему нужна была философия, могу только гадать.
То ли он закрывал счета по своим прежним детским обидам – ведь в религиозной школе его считали посредственностью.
То ли почитаемый им Бенедикт Спиноза (а именно ему была посвящена магистерская диссертация в Сорбонне) своей судьбой прочерчивал пунктиры его собственной судьбы: мальчик Барух из небогатой еврейской семьи стал Бенедиктом и выдающимся философом.
То ли какими-то проблесками интуиции дед прозревал свое будущее «вавилонское пленение» и хотел напоследок насладиться свободой в самом свободолюбивом университете Европы…
Как бы то ни было, летом 1912 года доктор химии, магистр философии Григорий Яковлевич Аврутин с женой своей Голдой, ныне Ольгой Соломоновной, приехал в Одессу. Там через год родилась моя мать.
И был сделан первый шаг к тому, чтобы потом появились на свет моя сестра и я, наши дети, их будущие дети…
И был сделан Григорием Аврутиным тот последний шаг, после которого мир, уже почти его впустивший, с грохотом отгородился тяжелыми воротами.
И не помогли монетки, брошенные перед отъездом во все римские фонтаны, и замаячила впереди никакими волнами интуиции не прочувствованная Искровская…
V
В то же примерно время, когда Григорий Аврутин почти триумфально вернулся на землю Российской империи, в другом ее конце, в другой части необъятной черты оседлости, другой мой дед мерным шагом, без прорывов и перерывов, взбирался на вершину своей жизни.
Происходил он из семьи цадика – хасидского праведника, блаженного, человека «не от мира сего». Цадики не работали (община давала им скромное содержание), они молились, искали во всем следы Провидения и постоянно пребывали в некрикливой, радостной экзальтации. Радовались, что Всевышний, хоть и редко, но вспоминает о народе Своем, что птички радостно поют, что радостный снег искрится на солнце, а безрадостный дождь когда-нибудь прекратится. Только вот у многочисленных детей поводов для радости было сильно меньше. Надо было работать, не рассчитывая на милость общины и Провидения, и четырнадцати лет отроду дед устроился подростком на побегушках в местную контору петербургского купца первой гильдии Хаима Левина. Среди многих дел этого еврейского магната одним из самых крупных и прибыльных были лесоторговля и лесопереработка, а в Мозыре, маленьком белорусском городке, но с крупными по тем временам железнодорожной станцией и портом на реке Припять, располагался, как сейчас бы сказали, головной офис этого бизнес-дивизиона.
У другого моего деда не было никаких медалей, никаких мечтаний о сверкающих заморьях – только работа, только неукоснительное исполнение обязанностей, только тщание в соблюдении хозяйских интересов. Рассыльный, младший бухгалтер, бухгалтер, торговый агент, старший бухгалтер, товарищ управляющего, управляющий, – воистину, помикронное вкручивание в мир! И какая основательность, какая спокойная уверенность в том, что труд, много труда, еще больше труда – и придет успех, много успеха, еще больше успеха!
…Пора заводить семью? Нет, позже. А если вдруг любовь? Помилуйте, что значит «вдруг»? Жениться, заботиться о жене и детях – долг всякого порядочного человека. Это положено делать, значит, в свое время будет сделано. И в один из приездов Левина в Мозырь, году где-то в 1902–1903, бухгалтер Марк Залманович Берколайко, дельный работник, уже замеченный зорким хозяйским глазом, в ответ на шуточки о его затянувшемся безбрачии скромно сказал, что стоит на ногах уже достаточно крепко и ежели какой-нибудь уважаемый человек отрекомендует ему хорошую невесту, то… И вскоре деду шепнули, что в петербургских хоромах реб Хаима подросла его воспитанница, бедная родственница… и гимназию окончила… в общем, делайте выводы. Дед с достоинством «self-made man» ответил, что почтет за счастье, но при двух непременных условиях: приданое девушке должно быть очень скромным, как если бы ее выдавали небогатые родители, а ему самому в дальнейшем – никаких поблажек по службе.
Думаю, дед не лукавил, ему и вправду хотелось лишь трудом и умом заработанных благ, он и вправду хотел верить, что воздаяние – всегда по заслугам. Потому и не было никаких поспешных продвижений ни после женитьбы, ни в результате ее, хотя не исключено, что Хаим Левин запомнил и оценил столь необычные требования.
Все шло своим чередом: карьера, достаток, в 1905 году родился старший сын, Натан; в 1911-м – второй сын, мой отец. А в сентябре 1916-го дед получил генеральную доверенность на ведение всех дел Левина по лесоторговле и лесопереработке и на распоряжение связанным с этим имуществом.
То было воистину торжеством мировоззрения самоучки-бухгалтера! Год он управлял огромным хозяйством Левина в Белоруссии. Целый год. Всего только год.
А потом все рухнуло. Через Мозырь прокатывались то немцы, то поляки; то красные, то белые, а чаще просто бандиты без цвета, но со стойкой сивушной вонью из щербатых ртов. Забушевали погромы, и привыкшая к комфорту семья привыкла сутками отсиживаться в подвалах, а потом посылать на разведку младшего сына, беленького и круглоголового. Он бродил по улицам, прислушиваясь к пьяным выкрикам и определяя, пошла ли на убыль погромная ярость очередной банды или очередной дивизии дорвавшихся до свободы поляков, или очередной бригады Красной армии. С ним вступали в жалостные беседы («Наш хлопчик!»), поглаживали по голове, давали хлеба и сала.
Всю жизнь потом мой отец удивительно ладно беседовал с пьяными и терпеть не мог, когда его пытались погладить по голове.
…То, что погромами брезговали немцы, понятно: еще не были разработаны безотходные технологии Аушвица, а вспарывать жидовские перины и животы штыками отменной «золлингеновской» стали – ну что за свинство, право!
То, что погромами не гнушались поляки, тоже понятно: вырвавшемуся наружу шляхетскому гонору сладок был ужас «тварей дрожащих».
Но красные?! Ведь во многих частях Красной армии комиссарили евреи, и так увлеченно распинались они о пролетарском интернационализме! Что же, не слышны им были вопли гонимых соплеменников? Или слышны, но в расчет не принимались? Мол, побалуется трудовой народ напоследок, перед окончательной своей победой, но вот ужо засучит рукава и взметнет к небесам новую вавилонскую башню всемирного братства, а прорабами на этой стройке будут они…
И метался по фронтам неутомимый Лев, организуя разгром отборных белых дивизий, и проектировал контуры будущей Республики Земного Шара, но в самых горячечных своих снах, в самом жутком бреду, навеянном спиртом и кокаином, не видел он, что руководить строительством будет совсем другой прораб, предусмотрительно проломивший башку проектировщика.
И поделом же им всем, ибо нет среди них невиновных! И прорабу все поделом: и брезгливая нелюбовь собственной матери, и ненависть любимой жены, и исковерканные ничтожества-дети, и те часы, когда мычал он, обделавшийся и беспомощный, валяясь на полу своей тайной спальни!
Еще только раз дед, в честь которого я назван Марком, попытался подняться. Было это во времена НЭПа. Он тогда переехал в Ленинград и там сумел развернуть что-то связанное с деревообработкой. Но в конце 20-х НЭП прихлопнули, деда разорили, и он уехал с женой и младшим сыном сначала в Кисловодск, а потом и еще дальше – в Баку. Там и умер в середине тридцатых, надломленный крахами и ранним уходом старшего сына, Натана.
А тот удался в того самого цадика и в свою мать, мою бабушку: добрый, порывистый, радостный, чуть экзальтированный. И все надежды дед Марк перенес на наследника «титула и состояния», как смешливо именовал себя Натан в письмах из-за границы. Ему хватило таланта с блеском отучиться в Брюссельском университете и защитить там докторскую диссертацию опять же по химии (какие причудливые совпадения в жизни двух совсем разных семей, сошедшихся волею революций в пыльном Баку, где уже позже познакомились и поженились мои родители!). И обаяния Натану хватило, чтобы влюбить в себя внучку крупного бельгийского банкира, но вот банального житейского ума, чтобы остаться с нею в Брюсселе, не хватило. Мало того что сам вернулся в Ленинград, так вдобавок, вступив в бельгийскую компартию, умудрился обратить невесту в свою радостную коммунистическую веру. И она, хорошенькая «декабристочка», четыре года сидела на чемоданах, ожидая, когда наконец разрешат ей упорхнуть из буржуазной неволи к любимому, в его на диво свободную страну. Но ее, к счастью, судьба охранила, все свои молнии направив на Натана. Вернувшийся доктор химии отслужил рядовым красноармейцем – равенство, так равенство! – потом еще два года добивался разрешения на приезд в Ленинград невесты, внучки банкира… а потом имел обстоятельную беседу в Большом доме на Литейном, про который обычно не очень веселые ленинградцы сочинили очень веселый анекдот: «Товарищ, не знаете случайно, где находится Госстрах? – Нет, где Госстрах, не знаю, а вот Госужас – на Литейном».
После беседы Натан изготовил в своей лаборатории какой-то сильный яд… и ушел.
Дед Марк умер задолго до моего рождения, в той самой квартире, где я потом прожил все двадцать два года своего пребывания в Баку. Там же умерла и бабушка. Их портреты висели в большой комнате, и дед всегда смотрел на меня сурово, словно наставлял: «Делай хорошо уроки – и воздастся!» А бабушка смотрела ласково, с той печалью в больших добрых глазах, которая поселилась в них, наверное, когда прозвенел вокзальный колокол, и поезд повез ее из Петербурга в маленький, невидный Мозырь, в долгую жизнь с честным, немногословным и нелюбимым бухгалтером…
Квартира располагалась в Крепости, Внутреннем городе, Ичери Шехэр, неподалеку от знаменитого Дворца ширваншахов. Ни нормальной кухни, ни, разумеется, ванной, ни, конечно же, туалета (ох, умели ценить комфорт мои деды!), но зато из окон большой комнаты и насквозь продуваемой веранды была ясно – рукой подать! – видна великолепная бакинская бухта.
И улица называлась не какой-то там Искровской, а горделиво – Тверской.
Так что часто удивлял я в молодости знакомых москвичек, роняя небрежно: «А я вот вырос на Тверской!»
VI
Итак, Григорий Аврутин, дед мой по матери, прибыл в Одессу. Хочется думать, что прибыл морем. Триумфаторам пристало неспешно и торжественно спускаться по трапу, с борта так же торжественно вошедшего в порт белого парохода.
Прибыл, дабы вступить в совладение первым в империи заводом по производству лимонной кислоты. Официальная тогдашняя его должность, главный инженер, теперь более соответствовала бы названию «директор по производству», ибо отвечал он и за технологию, и за ритмичность работы, и бог еще весть за что. Греко-итальянец занимался поставками сырья и подсчетом выручки, которая росла так стремительно, что радостного потирания рук явно не хватало, да и восторженного хлопанья по собственным ляжкам – тоже. Адекватной реакцией на такое крещендо ежемесячного сальдо могла быть только жаркая помесь сиртаки с тарантеллой.
Хотя дед владел лишь малой долей этого вкусного пирога, она, доля, выливалась не только в фантастический для недавнего бедного ученого оклад, причем в золотых рублях, самой твердой в тогдашнем деловом мире валюте, но и в предоставленный заводом элегантный выезд, и в четырехкомнатную квартиру недалеко от морского вокзала, и (этой льготой дед особенно гордился) в абонируемую на весь сезон ложу-бельэтаж в оперном театре.
В феврале 1913-го родилась моя мать. Ее назвали нееврейским именем Матильда – дед тогда еще ощущал себя прежде всего европейцем, да и любил очень арию из «Иоланты»: «Кто мо-о-ожет сравниться с Матильдой моей?!» Но родившуюся в 1916-м вторую дочь назвали по настоянию более приземленной бабушки уже вполне традиционно: Шевой. А в лихом 1919-м родился и долгожданный мальчик, Соломон.
Одессу во время гражданской войны неоднократно брали то белые, то красные, но погромов в исторически многонациональном городе не было, к стенке ставили исключительно из классовой ненависти. Греко-итальянец сбежал, завод не работал, дед жил тем, что умудрялся прямо во дворе своего буржуазного дома варить из всякой всячины едкое хозяйственное мыло, всегдашний дефицит во времена войн и смуты. Варево разливалось по ящикам письменного стола; позже, наряду с книжными шкафами, звучным немецким пианино и необъятным обеденным столом, он перевезен был в Баку, но стоял в задней комнате, ибо был весьма, после трехлетнего участия в мыловарении, обшарпан.
Когда мыло застывало, дед нарезал его на бруски и обменивал на еду и одежду. Поскольку топливо для мыловаренных котлов он заготавливал сам, то руки его от этого «производства полного цикла» замозолились и задубели, что однажды спасло его во время нежданного визита чекистов. В квартирах престижного дома те набирали «буржуев» для очередной партии заложников, многих соседей взяли, но дед настаивал на своем пролетарском происхождении. Тогда старший группы, матрос, полупьяный от самогона и донельзя счастливый от ниспосланной ему роли высшего судии, велел: «Покажи руки!» Увидев мозолистые крупные кисти бывшего молотобойца, вынес вердикт: «Таких мозолей у буржуев не бывает!» С тем и удалились соратники аскетичного Феликса, прихватив, правда, все мыло и почти все съестное. Может, реквизировали для нужд революции, но расписку не оставили.
А когда НЭП стал набирать обороты, деда позвал в Баку бывший управляющий кавказским отделением знаменитой чайной фирмы Высоцкого Мирон Гинзбург, муж бабушкиной младшей сестры Этель, Эти. Неправдоподобно красивая была пара: дядя Миня – высокий, с портретно благородным, породистым лицом (недаром Гинзбурги издавна принадлежали к еврейской аристократии, вспомните, например, светского льва Галича), и тетя Этя, хрупкая, очень живая, улыбавшаяся так, что меня словно окутывало теплотой и любовью… На чайные плантации Высоцкого в Грузии и Азербайджане большевики наложили лапу тяжело и прочно, и оставшемуся не у дел, небедному дяде Мине хотелось заняться чем-нибудь неброским, невидным и нешумным. Он решил производить повидло; на паях с дедом купил какой-то полудохлый заводик на тогдашней окраине Баку, неподалеку от Искровской, и дело пошло. Рассказывали, что повидло было вкусным необыкновенно, что дед научился делать не только традиционно яблочное, но и айвовое, инжирное, терновое. Но душа его рвалась к тому, одесскому заводу. Тот, кстати, довольно быстро возродился, то ли встраиваясь в индустриализацию, то ли в руках какого-нибудь временно удачливого нэпмана. Но скорее все же первое, потому что в постоянно готовящейся к войне стране лимонная кислота стала почти стратегическим продуктом. Она была незаменимым консервантом, и ее требовалось все больше.
Дед разработал технологию выделения кислоты не из импортируемых цитрусовых, а из кожуры и косточек граната. В ход мог пойти даже дикорастущий азербайджанский гранат, который на склонах гор рос в изобилии. Но внедрить технологию не успел, в конце двадцатых завод у компаньонов отобрали. Слава 6oгy, что самих не шлепнули. Впрочем, интеллигенция и предприимчивые люди от репрессий в Баку страдали, в общем, не сильно, зато коммунистов, особенно тех, кто имел несчастье помнить пролетарскую среду начала века, но с трудом вспоминал, что Сталин был, оказывается, героем номер один в мировом революционном движении, – тех стреляли пачками. Мир-Джафар Багиров, первый секретарь ЦК компартии Азербайджана, давнишний друг Берии, гордился тем, что всегда перевыполнял планы по чистке, спускаемые из Москвы, а уж планы-то и сталинский карлик Ежов, и батоно Лаврентий спускали напряженные. Мир-Джафар прозван был в Баку «Четырехглазым», ибо носил всегда очки; до бериевского пенсне чином не дорос, но в очках, говорят, даже спал. В 1954-м году, на закрытом суде в Баку, как бы вдруг заговорили о том, что дружба Четырехглазого с Лаврентием началась с совместной честной службы агентами внедрения то ли царской охранки, то ли английской разведки. И поговаривали, будто были у этой парочки особые причины на то, чтобы пускать в расход именно старых большевиков, слишком памятливых и не могущих взять в толк, почему кристально чистые ленинцы на задворках, а сомнительные личности – на тронах.
Дед, после того, как завод отобрали, работал в каком-то скучном учреждении и писал аналитические записки в Госплан. О том, что потребность в лимонной кислоте будет только расти. Что лимонная кислота, выделенная из граната, много дешевле всякой иной. Что качество ее можно сделать лучшим в мире, и что он знает, как этого добиться. Но в Госплане заняты были пятилетками, нефтью, бензином, соляркой, в крайнем случае хлопком и спиртом. И на хрена ж им было думать о какой-то там лимонной кислоте, если Москва такой задачи не ставила?
Москва спохватилась в начале войны, когда была потеряна Одесса. Лично Багирову было поручено увеличить производство на бакинском заводе в три раза. Из чего производить, ведь сырья-то не стало? – да хоть из говна, хоть из золота. Срок – полгода. Четырехглазый пообещал лично расстрелять половину республиканского правительства, если за четыре месяца производство не возрастет в четыре раза, а когда Мир-Джафар обещал расстрелять, да еще лично, верили ему безоговорочно. Из говна, которое товарищ Багиров рекомендовал в качестве сырья, лимонную кислоту не выделить – министерские это хорошо понимали, однако любая рекомендация республиканского вождя побуждала к напряженному ассоциативному мышлению: говно – помойка – отходы – и тут они вспомнили об аналитических записках, над которыми, судя по словам подруги моей матери, так славно потешались.
Деда разыскали и привезли к Багирову.
– Из чего будешь делать? – рыкнул Четырехглазый.
– Из отходов садового и плодов дикорастущего граната.
– Во сколько раз увеличишь производство?
– В пять.
– Смотри, если что, пристрелю лично! Если сделаешь – не забуду!
Разговор происходил ранней осенью сорок первого. А весной сорок второго деда – в салон-вагоне Багирова! – отвезли в Москву, где вручили орден Ленина. Но что орден? Орден – ерунда, бляшка. Главное, он опять работал, опять занимался химией, он опять придумывал кучу рецептур!
В сорок шестом его отправили на пенсию, правда персональную. Под величайшим секретом сообщили, что о нем вспомнил лично товарищ Багиров. Еще раз похвалил, но потом заметил, что этому хорошему химику полностью доверять нельзя: ведь если он из какого-то говна смог выделить полезный продукт, то кто ему помешает из какого-нибудь другого говна выделить яд?!
Курносенькую дед встретил в начале двадцатых на своем заводе. Она была простой работницей, лет ей было не больше восемнадцати, сбежала она с матерью в Баку из вечно голодающего Поволжья, откуда-то, кажется, из окрестностей Саратова. И стала тайной женой моего деда, полюбив его сразу и безоговорочно; и молилась на него, как на Вседержителя; только Богу шептала она по утрам слова непонятные, заученные в детстве, а умному, зрелому, крепкому своему мужчине – слова простые, которые учить не надо. Не знаю, чем она так тронула дедово сердце, своей ли этой безоглядной, всегда почтительной любовью, а может, я к ней несправедлив, может, была она мила той особой русской милотой, которая нежданно-негаданно вдруг вспыхивает в любой глуши…
Связь их стала известна и бабушке, и всему бакинскому еврейскому бомонду лет через пять, когда Курносенькая с перерывом в два года родила деду двух детей, девочку и мальчика. Опять же не знаю, может, дед и отговаривал ее рожать, чадолюбив он, по-моему, не был; во всяком случае, с нами, официальными, так сказать, внуками и внучками, никогда не сюсюкал и сблизиться не стремился. Но как бы то ни было, детей Курносенькой дед признал, так что все его пять детей были Аврутины.
Бабушка все рассказала дочерям. Те отца осуждали. Втайне, конечно, – не из тех он был, кого можно осуждать явно. В глазах еврейских семей дед свой интеллектуальный авторитет не потерял. Напротив, пренебрегая условностями, утвердил его еще более, а вот бабушка выглядела страдалицей, и подозреваю, что находила в этом горькое удовлетворение. Это давало ей возможность поквитаться с дедом за те римские времена, когда она упорно, пуская в ход извечные женские хитрости, завоевывала его, а он не спешил пасть побежденным, исчезая то на несколько дней послушать в Милане что-нибудь великое в Ла Скала, то на несколько недель в Париж, дабы погрузиться там в изучение Спинозы. Он и теперь отгораживался от ее упреков либо заводскими заботами, либо, уже на пенсии, чтением Гегеля или все того же – будь он проклят! – Спинозы. Но все же, все же! Теперь можно было нападать, можно было наносить удары в любую минуту, например, неся ему из кухоньки чай с мелко наколотым рафинадом, можно было спрашивать: «А она тебе тоже чай каждый час заваривает?» На что он, не отрываясь от книги, отвечал из явно оборонительной позиции вынужденно нейтральным: «Ты мне мешаешь читать!» – «И развлекаться!» – со слезой в голосе подхватывала бабушка и удалялась на кухню, чтобы повсхлипывать достаточно громко.