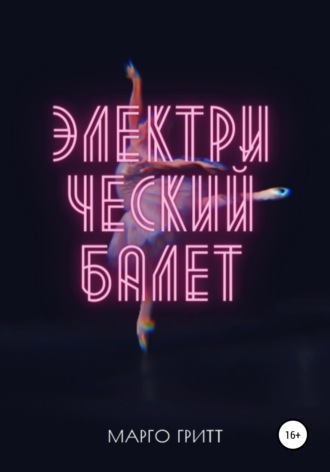
Марго Гритт
Электрический балет
Лия кричала и просыпалась, сдергивала простыню, и ноги казались залитыми черной густой смолою. Она касалась рукой колена, но рука проваливалась в пустоту.
Никто из корды – кордебалета – не навестил ее, только Мара. Устроившись на стуле, она нагло, ничуть не стесняясь, вскинула длинные сильные ноги на прикроватный столик и массировала икры. С тяжелого армейского ботинка сползала синяя бахила. От нее, как всегда, пахло потом и сигаретами.
– Зимой ставим феминистический зомби-апокалипсис.
– Что?
Мара отработанным движением подтянула гетры.
– Ну этот, с мертвыми невестами, которые мужиков по ночам убивают.
– Жизель! – Лия улыбнулась впервые за долгое время.
Они с Марой не были подругами. В день, когда ее близкую подругу выгнали из корды, Лия долго бродила по коридорам театра, пока не обнаружила бывший художественный цех, где хранили старые декорации. Она сбежала туда снова, когда ее поставили на последней линии, «у воды», и снова, когда перед выходом во второй акт Дон Кихота, ей позвонили и сказали, что бабушки больше нет. Мара тоже искала убежища. Телефоны отбирали на входе в театр. Подругу Лии застукали в туалете за перепиской. Мара пронесла второй и прятала в списанной бутафории. Между репетициями она валялась, уткнувшись в экран, на огромной кровати, притащенной на склад после Спящей красавицы, а Лия возвращалась туда каждый раз перед спектаклем, чтобы подышать запахом пыли, дерева и старости вместо успокоительного. Они почти не разговаривали.
Лия проговорила:
– Жизель была первым балетом, который я увидела.
– Когда я первый раз увидела балет, подумала, что артисты глухонемые.
Мара вытащила телефон из кармана шорт, мельком глянула на него, скорее, по привычке, чем по необходимости, и засунула обратно.
– Скажи мне вот что, – она откинулась на спинку стула. – Какого черта эта дура защищает Альберта? Перец неплохо так устроился: притворился простолюдином, соблазнил крестьянку, довел до сердечного приступа и спокойненько вернулся к… как ее там, Матильде…
– Батильде.
– Да без разницы. Эти, значит, вилисы затанцовывают до смерти мужика, который правду рассказал, а за Альберта Жизель вдруг вступается. То есть ей же теперь из-за него по ночам на кладбище плясать! Ну не верю я в такую любовь. Хоть убей. Все-про-ща-ю-щую.
Лия смотрела на черные вязаные гетры, обтягивающие ноги Мары. Они были похожи на застывшую смолу.
– Наверное, мы и приходим в этот мир, чтобы научиться прощать, – тихо сказала Лия. – В первую очередь, себя.
– Себя?
– Да, себя. За то, что мы люди, такие, какие есть. Не… Несовершенные. Если простим себя, научимся прощать и других за их несовершенства.
Мара закатила глаза.
– Ту мач.
Лия пожала плечами. Мара вытащила пачку сигарет.
– Черт, курить охота. Я пойду, ладно?
Остановилась в дверях, будто только сейчас вспомнила, зачем пришла. Зажала в зубах незажженную сигарету и кивнула на забинтованные култышки.
– Один плюс в твоем положении все-таки есть.
– Какой? – удивилась Лия.
– Теперь хотя бы ноги брить не надо.
Лия смеялась так долго, что на глаза выступили слезы.
V
– Вы чувствуете? Чувствуете запах?
Они ведут носом, видимо, пытаясь уловить запах дыма. Незаметно приподнимают руки и нюхают подмышки. Неужели от них так несет пóтом, что Варшавский останавливает репетицию, учуяв из кабинета этажом выше?
– Так пахнут квартиры стариков.
Варшавский вышагивает между рядами солдат в белых трико, которые стоят смирно в первой позиции. Прямая спина, очки, начищенные коричневые ботинки, хотя в ботинках сюда нельзя.
– Вы слышали, театр на Таганке снесли? – спрашивает он как бы между прочим, будто не отрепетировал речь заранее. – Вырвали кресла с мясом, растащили декорации и… Бам! – хлопок в ладоши, – Нет театра.
Солистка, та, которая в золотистых чунях, усмехается, но под взглядом Варшавского вытягивается по струнке.
– Театр на Никитской закрыли. Сатиру. Новую оперу. Никто больше не ходит на оперу. Никто больше не ходит в театр, – он останавливается в центре зала. – Как думаете, когда дойдет очередь до нашего?
На его лице отблеск рекламного щита, что заливает кровью зал для репетиций номер шесть даже при свете дня. Варшавский успевает заглянуть в глаза каждому, кроме меня. Меня он не замечает.
– Театр умирает.
Они переминаются с ноги на ногу, хотя команды «Вольно» вроде бы не было. Мара едва удерживается от того, чтобы закатить глаза. Варшавский вдруг широко улыбается и провозглашает:
– Мы – проститутки, обслуживающие стариков, – он дает фразе немного повисеть в воздухе, чтобы произвести должное впечатление, но почему-то при слове «проститутки» никто не визжит и не хватается за сердце. – Последних стариков, которые еще ходят на балет. Когда в последний раз вы видели молодое лицо в зрительном зале? Кроме тех, конечно, что привозят стариков в инвалидных креслах. Вы, – он медленно обводит пальцем труппу, еще один продуманный жест, – служители Старого мира. Что вы будете делать, когда последний старик издохнет прямо посреди второго акта?
На рекламном щите сияют красные туфли в человеческий рост. «Купите со скидкой 50%! И никто вас не остановит!».


