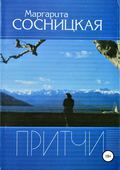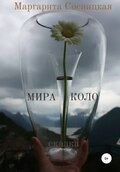Маргарита Станиславовна Сосницкая
Молоко Жаръ-птицы
Составление сборника за период длиннее жизни некоторых великих поэтов – Михаила Лермонтова или Павла Васильева – сложнейшая задача и головоломка: хронология спорит с темами, темы перебегают дорогу хронологии. Но в первом случае образуется хаос тем, а во втором – дат. Хронология отображает процесс развития поэта, темы; и процесс развития самих тем, то, как они возвращаются, подчиняясь собственным законам.
Все поэтическое собрание – это единый сжатый эпос. Оно и следует законам эпоса с его повторами тем, образов, настроений, созданием своих героев, вступающих во взаимодействие.
Оптимальное решение составления – золотая середина. Оптимальное, но не идеальное. Невозможна чистая классификация, границы ее нередко размыты, одно стихотворение может полноправно относиться к двум разным циклам, а, порой, составные одного цикла разделяются десятилетием. Оптимальное решение составления – спиральное. Но как его технически воплотить в книге? Только визуально, печатая каждую тему либо особым цветом, либо особым шрифтом. Например,
1. гражданскую лирику – черноземным,
2. любовную – алой розы,
3. пантеистическую – зеленой рощи,
4. мистическую-фиолетовым, с аметистовой крошкой,
5. божественную – золотом с лазурью и белоснежностью.
Возможно, сопровождая каждый виток тематической спирали графическим символом, представляющим, допустим:
1. сеятеля и воина,
2. розу,
3. еловую ветку с шишками,
4. бумеранг, посох Гермеса,
5. цитату из партитуры симфонии, оперы -
и так далее в соответствии с воображением и образным рядом поэта. Да и темы на этом не исчерпываются; остается сказка, миф; а плодородие, может входить в любой из этих пяти пунктов и во все вместе взятые.
Но поэт обычно безсеребренник (не писать же согласно пореформенной орфографии «бес серебренник»; это же кто бес? поэт?!) и ему не за что издавать такие идеальные книги, а царей или графов Румянцевых, выполняющих одно из своихсвященных назначений – покровительствовать искусствам, что есть равноценно разработкам золотых копей, совсем не осталось.
По этой причине поэт мог бы отделaться простой нумерацией витков, исходя из того, что поэзия – это высшая математика. Но это математика образов, красок, цветов, музыкальности, благоухания. Между тем как цифры – немые факты. И поэту нумерации может быть мало. К тому же, есть стихотворения, которые стоят особняком, не подчиняясь никакой классификации, сами по себе являясь законченным миром и образом. Что поэту делать с ними? Он не отказывается ни от одного своего стихотворения, даже самого неудачного и слабого; ведь стихи – это дети души. И даже если он сожжет их, как Гоголь, они остаются с ним. Он-то их помнит, знает, они приходят на ум. Чтоб избавиться от них, возможно, остается только, как Гоголю, умереть. Но рукописи рождаются на небесах, и, возможно, там и ждут тех, кто их должен был донести людям, но не донес, вернул на небо. Вопреки его небесной воле передать их на землю.
На определенном этапе начинается прострация формы, отрешенность от нее. Поэт входит в некую шамбалу постформы, после формы. Там все поэтические жанры пребывают в состоянии сырья, первичной материи. Покоятся такими гигантскими световыми кристаллами разных полутонов, окутанные роящимся туманом. У кого-то из поэтов там, на этой стадии вырабатывается даже не белый стих и не ритмическая проза, а некое легкое дыханье.