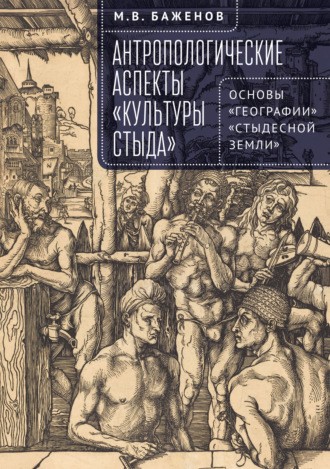
М. В. Баженов
Антропологические аспекты «культуры стыда». Основы «географии» «стыдесной земли»
В. Г. Николаев, отмечая особенности теоретических взглядов Дж. М. Барбалет, пишет: «Барбалет исходит из того, что социологическое объяснение социальной структуры, социального действия и социальных процессов, пренебрегающее эмоциями действующих лиц, не может быть адекватным (выделено мною. – М. Б.). Эмоция… является столь же важной движущей силой индивидуального и коллективного поведения, как когнитивные состояния и рациональный расчет. Поэтому социология эмоций, так или иначе, имеет важные последствия для общей социологической теории и частных социологических теорий, объясняющих отдельные аспекты социальной структуры и социального действия…» [304].
Из-за того, что «существующая социология эмоций сконцентрирована на „микросфере“ социальной жизни», – замечает В. Г. Николаев, – создается «ошибочное впечатление, что категории эмоций не могут быть применены для анализа макросоциологических проблем»[305]. По мнению Дж. М. Барбалет «структурные свойства взаимодействий определяют эмоциональные переживания (социальных акторов. – М. Б.)…, а конкретные эмоциональные переживания предрасполагают к определенным курсам действия». Таким образом, эмоция есть «необходимое связующее звено между социальной структурой и социальным актором (выделено мною. – М. Б.), и без нее описание действия будет фрагментарным и неполным»[306].
Следует еще отметить, что в современном социологическом дискурсе все чаще появляются работы, в которых представлен не анализ эмоциональной сферы человека в целом, а исследование каких-то конкретных видов эмоций в связи с их основополагающим вкладом в развитие социальных отношений. Например, согласно указаниям уже упоминавшегося австралийского социолога Дж. М. Барбалет, как отмечает В. Г. Николаев, при изучении социальных процессов «внимание должно быть сосредоточено не на „эмоции вообще“, которая есть всего лишь абстрактная категория, а на конкретных эмоциях, обладающих „реальностью непосредственного переживания“; именно они играют важную роль в реальных социальных процессах. Автор (Дж. Барбалет – М. Б.) не ставит перед собой задачи создания „общей теории эмоций“, а видит смысл социологии эмоций на нынешнем этапе ее развития в анализе вклада конкретных эмоций в производство, воспроизводство и изменение тех или иных аспектов социальной структуры»[307].
Вот и классик американской социологии Т. Шефф, указывают М. Ю. Горбунова и Л. А. Фиглин, анализирует не весь спектр эмоциональных проявлений, а только интересующие нас эмоции стыда и гордости в качестве опор социального контроля[308]. Т. Шефф предполагает, что в процессе филогенеза люди участвовали в длящемся тысячелетия процессе контроля над чувствами и их одобрении или неодобрении со стороны других членов социума. В результате люди не только знают реакции других, но и умеют эмоционально реагировать на эти реакции, проявляя гордость в ситуации одобрения или стыд – в случае неодобрения. Эти эмоции направляют человека по социально предписанной дорожке. В результате кумулятивного эффекта общий образец соответствия начинает преобладать в обществе, и возникает макроэффект. Общественный строй, таким образом, конструируется, соединяя общее количество индивидуальных случаев опыта гордости и стыда[309].
О. А. Симонова замечает, что не только Т. Шефф высоко оценивает стыд в качестве социальной эмоции и понимает его как «эмоциональный аспект нарушения контакта между людьми»[310]: «Социологи классического периода, а также психологи всегда интересовались этой эмоцией. Чувство стыда сигнализирует о состоянии социальных связей, о чем единодушно заявляли Г. Зиммель, Ч. Кули, Н. Элиас, X. Линд, Э. Гофман, Р. Сеннет; эта эмоция перекидывает мостик между социологией и психологией и создает основу для междисциплинарного сотрудничества. Т. Шефф отмечает, что многие социологи и психологи подразумевали в своих работах данное эмоциональное состояние, не упоминая о нем напрямую [Scheff, 2003, р. 239[311]]»[312].
Многие психологи поначалу в своих исследованиях психики человека замыкались на индивидуальных особенностях человека и игнорировали социальные аспекты его бытия, а Т. Шефф как бы переворачивает перспективу и ищет причины появления индивидуальных особенностей человека в социальных связях с его окружением. Если конкретизировать эту мысль, то следует указать на то, что Т. Шефф развивает социологическую теорию психического заболевания. «Обобщенно представляя свои идеи, – пишет О. А. Власова, – Шефф отмечает, что его теория „заключается в том, что симптомы психического заболевания рассматриваются как нарушение остаточных социальных норм, и что карьеру девиантов с остаточным отклонением адекватнее трактовать как связанную с социальной реакцией и процессом исполнения ролей, где исполнение ролей рассматривается не как отдельная система, а как часть социальной“[313]. Такой подход позволяет сместить ракурс исследования с медицинского и индивидуального на социологический и межличностный…»[314]. Т. Шефф пытается анализировать психическое заболевание сквозь призму социологии эмоций.
Вот – описание основных элементов анализа Т. Шеффром психического заболевания, предложенное О. А. Власовой: «Шефф переосмысляет фрейдовскую идею исходного для личностного развития конфликта между желанием ребенка и родительскими запретами и говорит, что первой ситуацией, которая может его спровоцировать, является крик и плач младенца. Посредством крика и плача младенец непосредственно выражает свои чувства, сообщает их родителям и одновременно может ими управлять: привлечь их внимание и лишить сна, а также вызвать чувство вины. Родители как-то реагируют на плач младенца, и, по Шеффу, тип этого реагирования закладывает не только платформу будущих детско-родительских отношений, но и формирует базис индивидуальности ребенка. <…> Принципы социализации младенческого плача, по Шеффу, тесным образом связаны с принципами социальной организации общества, поэтому преодоление репрессии эмоций как на социальном, так и на индивидуальном уровне может привести к социальной спонтанности, развитию солидарности и изменению параметров социальной стратификации общества, т. е. к смягчению жестких социальных структур. Во взрослом возрасте принятие и отвержение, которые первоначально являются ответом на младенческий плач, выражаются как эмоции гордости и стыда, и эти эмоции Шефф называет центральными в цикле развития остаточного отклонения. На его взгляд, именно нераспознаваемый стыд может стать причиной как основного, так и вторичного отклонения. Внутри самой семейной системы он приводит к основному отклонению, при взаимодействии семьи и общества индуцируется вторичное отклонение[315]. В качестве парной к стыду Шефф называет эмоцию гордости. Гордость – это признак сохранных социальных связей, а стыд, чувство позора – признак связей нарушенных… Эмоции гордости и стыда и механизмы их дифференциации включаются в сложную систему социальных санкций. Функционируя практически непрерывно, эта система опирается в основном не на официальные и вербальные награды и наказания, но на повседневные невербальные поощрения и запреты»[316].
Не нужно думать, что представления Т. Шеффа о значении стыда как для социума, так и для индивида уникальны. Идеи Т. Шеффа появились не на пустом месте – например, А. Ф. Васильев указывает на существование целой традиции в социологии, «идущей от Зиммеля и Куличе через Элиаса к Ричарду Сеннетту, Ирвингу Гофману и Томасу Шеффу. Для всех них гордость, вместе со стыдом, оказывается не просто социальной эмоцией, а центральной эмоцией»[317].
Стыд с позиций микросоциологии
М. Ю. Горбунова и Л. А. Фиглин указывают нам на что, что эмоциям присущи две основные социальные функции: «Во-первых, эмоции структурируют социальные ситуации, определяя позицию индивида в социальной среде…, закрепляя границу между внутригрупповым и внегрупповым, между другом и врагом и т. д. Во-вторых, сами эмоции являются внутренними ресурсами индивида, которыми можно обмениваться»[318]. Обмен эмоциями индивидов друг с другом – один из типов повседневных социальных событий. И если общество рассматривать под углом зрения микросоциологии, а именно как множество, состоящее из огромного числа социальных событий, которыми наполнена наша повседневная жизнь, то общество перестает быть для исследователя статичной жесткой структурой, где накрепко спаяны между собой социальные институты и группы, превращаясь из готового результата в процесс постоянного созидания социальной реальности благодаря повседневным актам жизнедеятельности людей[319].
Развитию современных теоретических исследований эмоций с позиций микросоциологии способствовали идеи Дж. Мида. Вот что об этих идеях пишет Н. Смелзер: «Мид считал, что мы реагируем не только на поступки других людей, но и на их намерения… Мы „разгадываем“ намерения других людей, анализируя их поступки и опираясь на свой прошлый опыт в подобных ситуациях»[320]. М. Ю. Горбунова в связи с этим пишет: «Теория Дж. Мида продемонстрировала, что социальное действие не может быть объяснимо лишь ссылкой на социальные нормы, так как оно всегда содержит их интерпретацию, которая предполагает эмоциональное отношение. Объясняя свое поведение или поведение другого, человек чаще всего использует эмоциональные ярлыки: „меня разозлили“…. „это вызвало в нем смущение“»[321]. Таким образом, развивая идеи Дж. Г. Мида, можно построить теорию объяснения социального действия на основе социальных эмоций, в том числе, и стыда.
О. А. Симонова, характеризуя теории эмоций с позиций символического интеракционизма, основанные на работах Дж. Мида и Ч. Кули, пишет: «Здесь рассматриваются ситуации, когда идентичность индивидов не поддерживается окружением, а индивиды в свою очередь пытаются нормализовать положение посредством управления своим окружением и собственными эмоциональными переживаниями. Когда идентичность подтверждена другими и положительно оценена на основании культурных стандартов, возникают позитивные эмоции, в противном случае – негативные. Если индивиды переживают нарушение идентичности, то вероятно появление таких негативных эмоций, как гнев, страх и страдание, что обусловливает индивидуальную мотивацию к устранению несоответствия. Например, в концепции С. Шот рассматриваются специфические эмоции: когда люди понимают, что они нарушили культурные нормы и ценности, они переживают чувство вины; когда они ведут себя некомпетентно, они чувствуют стыд (выделено мною. – М. Б.); и когда они получают поддерживающие реакции от других, они испытывают гордость[322]»[323].
Еще один важный элемент теории Дж. Мида – его представления о структуре человеческой личности. Вот как описывает эти представления Н. Смелзер: «По мнению Мида, человеческое „Я“ состоит из двух частей – „Я-сам“ (Z) и „Я-меня“ (Me). „Я-сам“ – это реакция личности на воздействие других людей и общества в целом. „Я-меня“ – это осознание человеком себя с точки зрения других значимых для него людей (родственников, друзей). „Я-сам“ реагирует на воздействие „Я-меня“ так же, как и на воздействие других людей. Например, „Я-сам“ реагирую на критику, старательно обдумываю ее суть; иногда под влиянием критики мое поведение меняется, иногда нет; это зависит от того, считаю ли я критику обоснованной»[324].
Л. Ю. Мещерякова отмечает, что «А. Шюц был сторонником идеи Мида о разделении личности на «I» и «Ме», в котором первое обозначает индивидуальную, а второе – социальную составляющую структуры личности. Именно в разделяемой феноменологом мидовской концепции он и находит решение поставленной Дюркгеймом проблемы соотношения индивидуального и коллективного сознания. Конструируя другого, я конструирую и самого себе – происходит „самотипизация“… Это предполагает с моей стороны общественно одобряемое поведение, многие типизированные аспекты которого институализируются „в качестве стандартов поведения, поддерживаемых обычаем и традицией, а иногда и особыми средствами так называемого социального контроля, например, законом“[325]»[326].
Если стыд понимать как «суд» стыдящегося над самим собой, то нужно предположить и наличие «судебного процесса» как спора, как полилога трех сторон – «судьи», «обвиняемого» и «обвинителя», причем все они должны являться разными структурными элементами бытия самого стыдящегося. Идея Дж. Мида и его сторонника
А. Шюца о разделении личности на «I» и «Ме» подходит, чтобы реализовать метафору стыда как суда, опираясь на структуру личности. «Судья» не должен стоять на чьих-то позициях, не должен отдавать предпочтения какой-либо из сторон, он обращен одновременно и к «обвинителю», и к «обвиняемому» и находится между ними. На эту роль подходит „Я-сам“ (Z). В качестве «обвиняемого» в стыде выступает так называемое «ситуативное Я» (воспользуюсь термином, предложенным В. А. Малаховым[327]) – вожделения и потребности индивида, его тяга к удовольствиям разного рода, его нежелание «напрягаться». «Ситуативному Я» в качестве «обвиняемого» в стыде, противостоит та часть своей личности стыдящегося, которая выражена понятием «Я-меня» (Ме) в качестве «обвинителя». Социализированный индивид конструирует себя по отношению к другим людям в соответствии с тем местом в обществе, которое он занимает – это и будет его «Я-меня» (Ме).
Учеником Дж. Мида является И. Гофман. «Гофман, – замечает М. Ю. Горбунова, – непосредственно затрагивает проблематику эмоций, когда фокусируется на управлении впечатлениями, считая, что люди в процессе интеракции стремятся к созданию положительного впечатления и предпринимают попытки избежать позора или противоречия (выделено мною. – М. Б.). <…> Значимость теории Гофмана в том, что она поднимает проблему контроля эмоциональных проявлений и манипуляции ими, которые большинство исследователей относили к неуправляемым, иррациональным аспектам поведения»[328].
Анализ стыда как результата взаимодействия людей «лицом-к-лицу» – это описание внутреннего плана ситуации стыжения/стыдимости, это исследование социального порядка на микроуровне, визуализированного в мимике, позах, жестах, действиях индивидов. Подобное описание можно сделать, например, опираясь на «драматургический» подход в изучении межличностных отношений. Данный подход удобен для описания стыда (ситуации стыжения/стыдимости), в том числе, и потому, что для него понятие «социальный порядок на микроуровне» является одним из центральных[329]. Хотя возможны и другие способы описания стыда на микроуровне[330]. Но в любом из этих случаев мы в результате получим анализ того, что происходит непосредственно между стыдящим и стыдящимся.
Основной целью социологии является «анализ структуры социальных отношений в том виде, в каком она складывается в ходе социального взаимодействия»[331]. И хотя в фокусе интереса социологии находится макроструктура общества (социальные институты, структура общественных отношений), но нужно всегда иметь в виду, что реализация законов общественного развития осуществляется только через деятельность людей. Следовательно, носителями этих общественных отношений являются конкретные люди, личности[332]. Для изучения общества на макроуровне, замечает Г. М. Андреева «принципиально важным является положение о том, что для понимания исторического процесса необходимо рассмотрение личности как представителя определенной социальной группы», но «безличный характер общественных отношений как отношений между социальными группами не отрицает их определенной „личностной“ окраски… Следовательно, конкретные люди, личности являются носителями этих общественных отношений. Понять содержание и механизм действия законов общественного развития нельзя вне анализа действий личности»[333].
Критика поиска сущности стыда в социальности человека
«Владимир Соловьев принципиально, – подчеркивает А. Буллер, – отрицает биологический подход к человеческой нравственности. Не находит подтверждения в его философской концепции попытка искать первопричину (без)нравственных действий человека в области социальных или общественных отношений (выделено мною. – М. Б.), потому что и эта попытка лишает человека нравственной автономии, перекладывая ответственность за его индивидуальные действия на общество. Человек является существом социальным, т. е. существом, которое мыслит и действует в общественном контексте. На этот момент особо указывает в своих „Тезисах о Фейербахе“ Карл Маркс, который видит в человеке не что иное, как „ансамбль общественных отношений“. У нас нет никаких оснований сомневаться в правильности этого вывода Маркса, но есть все основания сомневаться в правомочности его попытки вывести причины человеческой морали исключительно из социально-экономических отношений (выделено мною. – М. Б.). <…> Марксизм освобождал человека от ответственности как перед Богом, так и перед нравственным законом, таким образом превращая его в существо безнравственное, лишенное чувств стыда, совести и жалости»[334].
А. Буллер продолжает находить доводы против утверждения основания стыда в социальности человека: «Испытывая стыд перед другим, я в то же время стыжусь „чего-то“, т. е. „мне стыдно за себя перед другим, но другой не является объектом стыда: это мое действие или ситуация в мире являются здесь объектами“[335]. Центральным элементом акта стыда является, таким образом, все-таки тот момент, что человек стыдится „чего-то“, а не „перед кем-то“ (выделено мною. – М. Б.). Хильге Ландвер (Hilge Landweer) утверждает по этому поводу: „Если мы стыдимся, то мы стыдимся перед кем-то за что-то“[336] (курсив наш. – А. Б.). По этой причине человек испытывает стыд и тогда, когда он совершает свои действия в одиночку. А это означает, что в основе чувства стыда лежат нравственные, а не социальные факторы. Это также означает, что человек, делая добро, делает его исходя из самого принципа добра, а не из общественных или социальных условий, которые принуждают его делать добро. <…> Для понимания акта стыда этот момент является очень важным, потому что он позволяет нам четко расставить акценты между внутренними и внешними причинами стыда. Если человек стыдится, прежде всего, чего-то, а не перед кем-то, то тогда его стыд имеет внутреннюю причину и его чувство стыда обусловлено внутренними, а не внешними факторами (выделено мною. – М. Б.). Но если мы причины нравственных поступков человека будем искать исключительно в „общественных условиях“, а не во внутренней природе человека, то таким образом мы переместим мотивы человеческих действий в область внешних условий, социальных факторов или даже биологических законов. Именно таким образом и поступают виновники массовых преступлений… Однако в этом случае преступники просто-напросто перекладывают свою личную ответственность за совершенные ими безнравственные действия на внешние „условия“, забывая о том, что, кроме „внешних условий“, человеку даны еще и такие чувства, как стыд, совесть и жалость, которые в состоянии противодействовать любым внешним условиям (выделено мною. – М. Б.)»[337].
Основателем новой традиции осмысления стыда, которую А. В. Прокофьев противопоставляет аристотелевской традиции социализированного и экстернализованного понимания стыда, – традиции десоциализированного и интернализованного понимания стыда – можно считать Демокрита. «Десоциализированное понимание стыда исторически возникает в виде редких озарений или коротких замечаний. В Античности оно было предвосхищено в знаменитом афоризме Демокрита: „Делающий постыдное должен, прежде всего, стыдиться самого себя“ [338]»[339].
Демокрит учит: «Не говори и не делай ничего дурного, даже если ты наедине с собой. Учись гораздо более стыдиться самого себя, чем других… Должно стыдиться самого себя столько же, как и других людей, и одинаково не делать дурного, останется ли оно никому неизвестным, или о нем узнают все. Но наиболее должно стыдиться самого себя, и в каждой душе должен быть начертан закон: не делай ничего непристойного»[340]. Таким образом, у Демокрита, стыд приобретает внутреннее измерение, что потом разовьется в феномен «совести». Возможно, поэтому А. С. Богомолов пишет: «Демокрит ввел в этику первоначальные разработки таких понятий, как совесть, т. е. требование стыдиться своих собственных постыдных поступков (не перед другими стыдиться, а перед самим собой. – М. Б.), долг и справедливость»[341].
Относительно социальной регуляции поведения индивида Демокрит выдвигает следующий тезис: «Лучшим с точки зрения добродетели будет тот, кто побуждается к ней внутренним влечением и словесным убеждением, чем тот, кто [побуждается к ней] законом и силою (и страхом перед ними – М. Б.)». Демокрит так обосновывает свой тезис: «Ибо тот, кого удерживает от несправедливого [поступка] закон, способен тайно грешить (недостаток перевода: древним грекам не было известно понятие «грех». – М. Б.), а тому, кто приводится к исполнению долга силою убеждения, не свойственно ни тайно, ни явно совершать что-нибудь преступное. Поэтому-то всякий, кто поступает правильно, с разумением и с сознанием, тот вместе с тем бывает мужественным и прямолинейным»[342].
А. В. Прокофьев в работе «Социализированная и десоциализи-рованная концепции стыда…» кратко обозначает дальнейшую (после Демокрита) историю традиции десоциализированного и интернализованного понимания стыда: «В патристике – в оспариваемом Фомой Аквинским определении стыда Иоанна Дамаскина и Григория Нисского[343]. В схоластике – у Ришара Сен-Викторского в трактате „Двенадцать патриархов“[344]. В новоевропейской традиции оно выражено в некоторых рассуждениях Гуго Гроция[345]. Но, несмотря на такую пунктирную и отрывистую родословную, в современной психологии морали и этической мысли это понимание оказывается если не преобладающим, то вполне конкурентоспособным»[346].
Мне кажется, помимо упомянутых А. В. Прокофьевым мыслителей, нужно еще в качестве представителей традиции десоциализированного и интернализованного понимания стыда назвать киников. Киники приложили немало усилий для того, чтобы доказать, что все условности и запреты не имеют ни малейшего отношения к добродетели, а их нарушения не являются злом. Такое отношение к обычаям и запретам квалифицировалось их современниками как бесстыдство[347]. Киники считали, что справедливое и прекрасное – не в разгуле страстей, не в максимизации человеческих потребностей, а, наоборот, в их минимизации. Среди ненужных потребностей у киников оказалось и стремление жить в гармонии с другими людьми – человек должен пренебрегать условностями и ничего не стесняться. «Жить, никого не боясь, никого не стыдясь» – таков девиз киника, выраженный Диогеном Синопским[348]. «Не стыжусь, потому что живу в соответствии с природой» – вот идеал киника.
Киники всё же признают значение переживания стыда для индивида: если человек не живет в соответствии с природой, то ему должно быть стыдно. Но правильный стыд, по мнению киника, – это несоответствие поведения человека требованиям жизни, природы (стыдно душу не приводить в гармонию с жизнью[349]), это неестественность в удовлетворении человеческих потребностей, т. е. потребление сверх необходимого «по природе». Таким образом, стыд не отменяется, и кинизм – не призыв к бесстыдству: «Происходит не столько «перечеканка» традиционных ценностей, сколько их «переворачивание»[350]. Эпатирующее бесстыдство киников неразрывно связано с идеалом автаркии, т. е. внутренней свободы, независимости от других людей. Опыт достижения автаркии приводит к пониманию личного достоинства индивида, к пониманию того, что индивид представляет не одну какую-то локальную группу, а все человечество (на вопрос, откуда Диоген Синопский явился, тот ответил: «Я – гражданин мира»[351]). Отсюда и иные – не локальные – представления о постыдном, провозглашенные, правда, не от имени человечества, а от имени «природы». Пример единственно совершейного государственного устройства Диоген Синопский находил только во Вселенной[352]. Поэтому голос «природы» в этом случае можно интерпретировать как голос человеческой совести, но еще в отсутствии понимания самого феномена совести. Таким образом, у киников природной оказывается совесть как стыд перед природой, а стыд перед людьми они рассматривают как искусственное образование, без которого можно обойтись.
Но самая подготовленная атака на социализированное понимание стыда, по мнению А. В. Прокофьева, была осуществлена в XX в.: «Заданное психоаналитической традицией и исследованиями Б. Льюис и Дж. Тэнгни направление интерпретации стыда привело к появлению философских концепций, в которых социализированное понимание стыда ставится под вопрос. Так, находясь под влиянием неофрейдистов 1950-х гг., Дж. Ролз в своей фундаментальной „Теории справедливости“ определяет моральный стыд как осознание человеком собственного несовершенства (отсутствия добродетелей), которое ведет к потере самоуважения и чувства собственного достоинства („умалению личности“ и „разочарованию в себе“). Ключевой добродетелью, отсутствие которой вызывает стыд, Ролз считал самообладание, способность реализовывать центральные нравственные цели. Вина же ассоциируется у Ролза с нарушением требования или попранием чьего-то права [353]»[354].
Кульминационным пунктом философской атаки на социализированное понимание стыда, как считает А. В. Прокофьев, «стала вышедшая несколько лет назад работа швейцарских исследователей Ж. Деонны, Р. Родоньо и Ф. Терони „В защиту стыда: два лика эмоции“. В ней обоснование необходимости разорвать дефинитивную связь стыда и „Ока других“ выступает в качестве основной задачи. Осмысление результатов, полученных психологами, и сугубо феноменологический анализ стыда приводят Деонну, Родоньо и Терони к мысли о том, что эту эмоцию следует интерпретировать через отношение деятеля к собственной способности воплощать центральные для его идентичности ценности. <…> Стыдящийся человек оказывается не просто далек от идеального образа самого себя, а опасно близок к противоположности своего идеала[355]» [356].
О близких вещах пишет и Д. А. Ольшанский: «Те психотики, у которых нет коллективного фантазма и образа собственного Я, никакого стыда не испытывают и могут, например, совершенно спокойно говорить на публику о самых интимных вещах. <…> Фройд отмечает, что при меланхолии человек теряет стыд, поскольку вообще лишается собственного Я. <…> Жак Лакан говорит нам, что „Причина стыда – внезапная потеря поддержки идеала Я“. То есть, речь идет не о нарциссическом промахе, который выставляет меня не в лучшем свете, а о кризисе моего идеального представления о самом себе. Страдает не мой имидж, а тот образ, каким я хотел бы быть в идеале. При стыде Я как раз выпадает из идеала. Лакан связывает стыд с обесцениванием образа собственного Я…»[357].
Ж. Деонна, Р. Родоньо и Ф. Терони, конечно, понимают, что «стыд нередко бывает связан с такими частными ценностями, как хорошая репутация и сохранение приватности. Обе эти ценности структурно предполагают учет того, что видит или знает другой человек. И пока речь идет именно о них, стыд остается социализированной эмоцией. Однако Деонна, Родоньо и Терони уверены, что мы можем испытывать стыд и на основе иных ценностей, не имеющих структурной связи с „Оком других“»[358]. Но А. В. Прокофьев обращает наше внимание на то, что «освобождение» стыда из-под власти «Ока других» и восприятие его в «позитивном ключе» в качестве несомненного морального (нравственного) чувства для стыда «чревато неприятностями»: «в качестве негативного переживания, нацеленного на саму личность деятеля, он начинает вызывать сомнения в другом отношении. У стыда в этом случае обнаруживаются мощнейший депрессогенный потенциал и способность подавлять эмпатические переживания. То есть он содействует разрушению способной к совершению поступков личности и притупляет чувствительность к тому, что происходит с другими людьми. Стыд попадает под подозрение не как внеморальное, а как контрморальное явление, маскирующееся под моральную эмоцию»[359].
Так что и сторонникам традиции социализированного понимания стыда есть что противопоставить доводам сторонников интернализованного понимания стыда. Если утверждать, что стыд всегда порожден реальной оценкой со стороны окружающих, – рассуждает А. В. Прокофьев, – то «описание стыда как реакции на „взгляд других“ действительно оказывается радикально недостаточным, психологически и феноменологически неверным. Однако стыд представляет собой заметно более сложный феномен. Наряду с реальным осуждением реального другого его может провоцировать воображаемое осуждение со стороны воображаемых других. <…> Кроме того, стыд предполагает существенную избирательность в отношении тех, чья внешняя оценка вызывает негативную самооценку. Данное обстоятельство обсуждается теоретиками, начиная с Аристотеля, и играет существенную роль в большинстве социализированных концепций стыда. Пересечение избирательности стыда и роли воображения в его генезисе ведет к тому, что социализированный подход к стыду оказывается способным ассимилировать те явления, на которые указывают его критики. То, что воображаемый, избранный другой мог бы как-то отнестись к действиям стыдящегося человека, подчас является причиной стыда независимо от оценки вероятности такого развития событий»[360].
А правильно ли вообще относить вопрос о природе (сущности) стыда к предмету социологии?
Стыд традиционно понимается как социальный опыт, а значит, рассматривается как социальное действие и результат сложных социальных взаимодействий между людьми. Но как может термин «социальное действие» характеризовать стыдящегося, если стыдящийся никак не действует в то время, когда он переживает стыд?! Острый приступ стыда вызывает в человеке паралич воли и желание скрыться от людей («провалиться сквозь землю», «сгореть от стыда»). Да и термин «социальное взаимодействие» не подходит для оценки происходящего со стыдящимся, ибо возникая, стыд разрушает или сильно затрудняет социальное общение и межличностные контакты того, кто переживает стыд. Вместо того, чтобы взаимодействовать с окружением, человек погружается в размышления о самом себе. Стыд – это регулятор нашей самооценки.
Наличие субъективного смысла, согласно теории структурного функционализма, – еще один необходимый признак социального действия. Но и с ним – проблемы в стыде. Вот что пишет об этом К. Изард: «Человек кажется себе маленьким, беспомощным, скованным, эмоционально расстроенным, глупым, никуда не годным и т. д. Стыд сопровождается временной неспособностью мыслить логично и эффективно, а нередко и ощущением неудачи, поражения. Пристыженный человек не в состоянии выразить словами свои переживания»[361]. Стыд – это полная потеря самоконтроля, это чувство собственной общей несостоятельности. А значит, в стыде нет субъекта, нет актора. М. Мелкая пишет, что «в стыде единственным содержанием субъекта является его десубъективация, он становится свидетелем собственного распада, потери себя как субъекта»[362].



