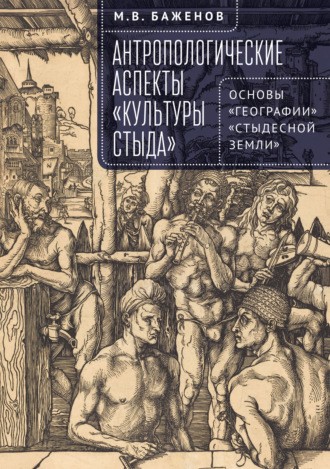
М. В. Баженов
Антропологические аспекты «культуры стыда». Основы «географии» «стыдесной земли»
Путь имеет свое завершение. Завершение истории человечества с точки зрения христианской традиции – Судный день. Архимандрит Платон (Игумнов) отмечает связь Страшного суда со стыдом: «Последний аспект в библейском понимании стыда – эсхатологический. Понятие стыда связывается здесь с темой суда. Суд – это такой момент в конце человеческой жизни, или в конце времен, когда перед лицом Божиим и перед всеми откроется несостоятельность ложной надежды. Все нечестивые будут постыжены перед праведным Судом Божиим. В иконографии Страшного Суда святые праведники изображаются в славе – в одеждах, соответствующих их иерархическому служению на земле. Наоборот, грешники, как и злобные демоны, изображаются в безобразной наготе, лишенными всех атрибутов славы и достоинства»[250].
Выводы
Таким образом, библейская традиция позволяет нам объяснить возникновение стыда – как на ранних этапах формирования человечества, так и у каждого индивида в детстве. Эта традиция позволяет объяснить, как стыд «работает» на охране устоев уже сформировавшегося общества и в жизни зрелого человека. Она поясняет роль стыда в истории человечества и отдельного человека, объясняет все формы стыда и его влияние на основные стороны жизни человека, объясняет функционирование всех факторов, могущих стать причиной возникновения стыда, – индивидуально-психологических, культурных и социальных факторов. Большего и не пожелаешь от теории!
И теологи не только предложили системное теоретическое объяснение стыду, но и включили его в религиозную систему ценностей, а также определили его место в жизни человека – в поведении и поступках верующего.
Но!
Как вы уже могли заметить, религиозные мыслители, богословы при обосновании своих идей относительно стыда постоянно апеллируют к Библии. Р. Поупкин и А. Стролл, авторы американского учебника по философии, замечают: «На наши вопросы, касающиеся исторических событий, научных объяснений и т. д., мы можем получить ответы, пусть и открытые для серьезных возражений, но, тем не менее, предоставляющие основу для прихода к общему соглашению. Похоже, что с религиозным знанием дело обстоит не так. <…> Для религиозной информации соглашения подобного типа невозможны. <…> Если спросить, содержится ли в Библии религиозная информация, – это уже не будет ни научным, ни историческим вопросом. <…> Некоторым людям этот вопрос может показаться абсурдным, поскольку Библия ясно говорит, что она является не просто собранием сведений о давно минувших веках, но также, что намного более важно, выражением Слова Господня. Поэтому все, что следует делать человеку, желающему получить ответ на свои вопрос, – это читать Библию. Действительно, каждый может прочитать ее и найти в тексте утверждения о том, что в ней содержится религиозное знание. Но весь вопрос в том, являются ли эти утверждения истинными. А только путем чтения текста этого не установить. Может быть доказан факт, что в книге содержится предложение, утверждающее, что эта книга заключает в себе религиозное знание, однако значение истинности этого предложения – сущность самого вопроса – от этого не прояснится. Ни одно историческое исследование не в состоянии доказать, что тот или иной человек обладал каким-либо религиозным знанием, как и то, что оно содержится в какой-либо книге»[251].
Каковы из этих фактов и рассуждений следствия? Вот ответ на этот вопрос Р. Поупкина и А. Стролла: «Хотя многие из мыслителей верят в возможность доказательства существования Бога при помощи рациональных и естественных средств, столь же многие философы считают, что ни одна из таких попыток не может оказаться удовлетворительной. Некоторые представители последних утверждают, что такое доказательство невозможно, поскольку рассматриваемый объект просто не существует. Другие настаивают на том, что все трудности подобного рода доказательств связаны с природой этого объекта, который, возможно, находится за пределами постижения при помощи рациональных средств»[252].
Какое значение имеют эти выводы для философии? Р. Поупкин и А. Стролл, анализируя учение Р. Декарта (а оно в значительной мере повлияло на формирование мировоззрения человека эпохи модерна), пишут, что «картезианское понимание той сверхзначимой роли, которая в этой картине отводилась Богу, скорее вело к мистицизму, чем обеспечивало базу для развития науки. Если вся сила сосредоточена исключительно у Бога, то ни один из аспектов созданного мира – ни материя, ни душа – не может иметь никакого казуального значения. Всякое объяснение природных явлений, в конечном итоге, будет сведено к утверждению: „Это произошло, потому что так было угодно Богу“. Следовательно, вместо духовного или физического истолкования, все проблемы превратятся в божественные таинства, внутренний смысл которых для обыкновенного смертного непознаваем»[253]. Так что, если философ настаивает на том, что вся сила – у Бога, и Бог – единственная субстанция, то все проблемы познания превращаются для этого философа в божественные таинства, что приводит к превращению учения этого философа даже не в естественную, а в сокровенную религию, т. е. в знание, доступное не для всех. А это – тупик для философии, ибо философия – это теория, т. е. доказательное знание – знание, в истинности которого может убедиться каждый.
Ну, что же… Будем искать! Если с обоснованием «божественной формы движения» в качестве такого фактора, который формирует «рельеф стыдесной земли», возникли серьезные проблемы, то теперь проверим обоснованность идеи о том, что социальная форма движения определяет «рельеф стыдесной земли», что социальные связи являются «материнской породой» нашей («стыдесной») земли.
.
1.2. «Человек стыдящийся» как социальный продукт
Первый шаг в утверждении в качестве сущности «человека стыдящегося» социальных качеств человека, в утверждении приоритета в объяснении возникновения стыда за социальными детерминантами – отделение этих социальных (и культурных) качеств, социальных (и культурных) детерминант от природных.
Осознание своеобразия социальной жизни и культуры человека можно обнаружить уже в учениях софистов. Софисты (а именно Протагор) впервые выделили область бытия, которая (в отличие от природы) созидается как бы самими индивидами – это область общественного поведения. При этом Протагор ставит самосозидаемое начало бытия людей в связь со всей системой их социальных отношений и испытываемых ими воспитательных воздействий[254]. Но именно это обнаружение созидаемого самими людьми начала их бытия позволяет античным мыслителям (софистам – первыми) сделать очередной шаг в понимании жизни «человека стыдящегося» – обнаружение полного разобщения людей в вопросах относительно того, чего стыдиться.
Софисты удивляются тому, что природа объединяет людей (природные потребности у всех одинаковы, варвар в этом отношении ничем не отличается от эллина: например, все дышат воздухом через рот и едят руками), а законы и обычаи, принятые людьми, наоборот, разъединяют их. Автор «Двояких речей» (исследователи полагают, что автор этого сочинения – один из софистов, находившийся под влиянием Протагора) пишет: «Я думаю, что если бы всем людям было предложено собрать воедино то, что те или иные считают постыдным, и затем из всей этой совокупности выкинуть опять-таки то, что те или иные считают приличным, то не осталось бы ни единого (обычая), но все было бы разделено между всеми. Ибо у всех не одни и те же обычаи»[255].
Младшие софисты еще в большей степени, чем старшие софисты, подчеркивают момент произвольности в определении причин возникновения стыда. Так, по мнению Фрасимаха, «справедливое есть не что иное, как полезное более сильному». Другой софист младшего поколения – Калликл – полагал, что мораль выдумана представителями власти для своей выгоды[256], т. е. именно власть устанавливает – чего стыдиться, а чего нет.
«Отметим еще одно соображение, – пишут А. А. Гусейнов и Г. Иррлитц, – приводимое софистами в обоснование тезиса о принципиальном отличии человеческих законов от природных процессов. Нарушение законов (норм, обычаев) сопряжено с позором и наказанием в том только случае, если это нарушение замечено другими участниками соглашения. Если же нарушение осталось незамеченным, то ничто не грозит нарушителю, а потому ему не стыдно. Что же касается требований природы, то всякое отступление от них сопряжено с ущербом для индивида независимо от того, было ли это отступление явным для окружающих или скрытым, „ибо (в этом случае) вред причиняется не вследствие мнения (людей), но поистине“[257]. Здесь выявляется специфика социального действия, которое не сводится к физической операции, а есть выражение определенного отношения между людьми»[258]. Значит, следующий шаг – обнаружение того, что при всей своей произвольности причины возникновения стыда обязательно социально детерминированы.
Современником и соперником софистов был Сократ. Отношение Сократа к страху и стыду выражено Платоном в «Апологии Сократа»: по мнению Сократа человеку нужно находиться на своем месте, поступать справедливо и творить добро, «не принимая в расчет ничего, кроме позора, – ни смерти, ни еще чего-нибудь»[259]. Для «классического» грека – и платоновский Сократ здесь не исключение – общественная жизнь и отдельная личность мыслятся в идеале в полном внутреннем и внешнем единении, поэтому общественные отношения рассматриваются по типу родственных. А в среде родственников в качестве регулятора взаимоотношений наиболее значим именно стыд, и позор перед родственниками – та реальность, перед которой не может устоять даже страх смерти. От смерти легко уйти даже на войне[260], но лишь за счет нравственной порчи, за счет позора, на что Сократ никогда бы не пошел. Таким образом, очередной шаг в утверждении в качестве сущности «человека стыдящегося» социальных качеств человека – установление зависимости стыда от жизни стыдящегося постоянно на виду значимых для него людей.
Начало истории собственно теоретического, т. е. систематизированного исследования зависимости переживания стыда от отношения индивида к мнениям окружающих его людей, А. В. Прокофьев связывает с работами Аристотеля и обозначает это направление исследования как «аристотелевская традиция социализированного и экстернализованного понимания стыда»: «В центре этой традиции находится исходная формулировка Аристотеля „стыд есть огорчение по поводу бесчестья“ (или „страх бесчестья“)… Он подчеркивал…, что стыд порожден самим по себе бесчестьем, а не его социально-прагматическими последствиями, а также указывал на избирательную чувствительность стыдящегося человека к мнению разных людей (выделено мною. – М. Б.)[261]»[262].
Традиция отрицания независимости стыда от социальных условий жизни людей, основанная на понимании «природы» человека как социально обусловленной, прослеживается также в учениях киренаиков и киников (но не в форме систематизированного исследования, как у Аристотеля, а преимущественно в форме морализаторства, поучений). С точки зрения киренаика Аристиппа и его последователей качество удовольствия, получаемого каким-либо человеком, не зависит от способа его удовлетворения: «наслаждение является благом, даже если оно порождается безобразнейшими (в смысле «постыднейшими». – М. Б.) вещами…»[263]. Киренаики утверждали, что «справедливое и прекрасное по природе – давать полнейшую волю своим желаниям, а не подавлять их. <…> «По природе» нет ничего похвального или постыдного»[264]. По мнению киренаиков, «мудрец чужд зависти, любви и суеверия, ибо эти чувства порождаются пустою мнительностью, но ему знакомы горе и страх, которые порождаются естественно»[265]. Значит, киренаики признавали значимость для жизни индивида чувство страха, ибо он природный, естественный, но отрицали переживание стыда, которое, по их мнению, является «искусственным» переживанием, переживанием, не присущим человеку «по природе».
В духе традиции социализированного и экстернализованного понимания стыда, считает А. В. Прокофьев, описывает функционирование стыда и Фома Аквинский, ибо все концептуальные элементы учения Аристотеля о стыде «присутствуют у Фомы Аквинского и сопровождаются отчетливым утверждением, что стыд не может быть вызван одной лишь „безобразностью“ поступка, а требует для своего возникновения фигуры другого человека[266]. Соединение стыда с внешним осуждением можно обнаружить почти во всех описаниях этой эмоции (страсти), предложенных в новоевропейской моральной философии. Различия состоят лишь в том, что они предоставляют моральному субъекту разное количество степеней свободы в вопросе о том, чье осуждение должно вызывать его стыд»[267].
А. В. Прокофьев упоминает в качестве представителей традиции социализированного и экстернализованного понимания стыда таких мыслителей Нового времени, как Р. Декарт, Б. Спиноза, Дж. Локк: «Для новоевропейских социализированных концепций стыда характерно движение от сомнения в разумной обоснованности этого чувства к его частичной реабилитации. При этом Р. Декарт, Б. Спиноза и Дж. Локк, в отличие от Аристотеля и Фомы, одобряют стыд не только потому, что он является несовершенным двойником добродетели, но и в связи с его положительной общественной ролью (как средство дисциплинирования и выражение социабельности). Хотя новоевропейские мыслители обсуждают моральные эмоции самооценки, не опосредованные «оком других» (раскаяние, угрызения совести), они не противопоставляют их стыду»[268].
Можно предположить, что к представителям указанной традиции можно причислить К. Маркса и его последователей. Например, А. Буллер обращает наше внимание на то, что «ни Маркс, ни большевики не отрицали интерсубъективного характера человеческих чувств. Более того, для них было очень важно, чтобы, например, революционные чувства охватили массы людей, т. е. проявили себя интерсубъективно, стали по-настоящему коллективными чувствами. Чувства стыда и совести также имеют интерсубъективный характер. Человек, переживая чувство стыда, испытывает стыд прежде всего перед другим (человеком), даже если этот другой не присутствует здесь физически…»[269].
По определению К. Маркса «стыд – это своего рода гнев, только обращенный вовнутрь»[270]. Данное определение подобно гегелевскому определению стыда[271], но за ним стоит иная онтология человека, переживающего стыд. Стыд с точки зрения Маркса не «снимается» (как это должно происходить в соответствии с учением Гегеля) на более высокой ступени развития духа, превращаясь во что-то иное. Стыд в процессе развития общества не исчезает, но при этом он претерпевает исторические метаморфозы, определяемые изменяющимися общественными отношениями.
Марксизм выступает против морализаторского подхода к истории: то, что постыдно сейчас, например, неупорядоченные половые отношения, не было позорным в прошлом, выступало как необходимый элемент жизни людей, являлось на самых ранних стадиях развития человечества естественным[272]. Следовательно, не может быть какой-то надысторической точки зрения, с которой можно было бы судить одинаково поступок человека любой исторической эпохи. С позиций марксизма, стыд, не имеет оснований и причин в трансцендентных общественному индивиду сущностях – природе, боге, духе: «Общераспространенному чувству, что люди сами виновны во всеобщей испорченности, христианство дало ясное выражение в сознании греховности каждого отдельного человека»[273].
Уже не социально-философский, как ранее, а собственно социологический «взгляд на мир», а значит, и на стыд, стал формироваться во 2-й половине XIX в. – в том числе, и благодаря работам Э. Дюркгейма. Э. Дюркгейм считал, что общество (даже отдельная социальная группа) богаче, сильнее отдельного индивида: «Чувства, рождающиеся и развивающиеся в группах, обладают энергией, которой не достигают чисто индивидуальные чувства»[274]. Сущность социального процесса – подчинение индивида обществу путем принуждения. Дюркгейм следующим образом характеризует принуждение в обществе: «Общественная совесть удерживает от всякого действия, оскорбляющего их (нравственные правила. – М. Б.), посредством надзора за поведением граждан и особых наказаний, которыми она располагает. В других случаях принуждение менее сильно, но все-таки существует. Если я не подчиняюсь условиям света, то смех, мною вызываемый, и то отдаление, в котором меня держат, производят, хотя в более слабой степени, то же действие, что и наказание в собственном смысле слова (выделено мною. – М. Б.)»[275]. В данном отрывке в неявном виде присутствует указание на действие, во-первых, страха перед угрозой наказания, а, во-вторых, стыда, рождающегося под действием смеха окружающих и вызывающего чувство отчуждения от окружающих. Постоянное действие принуждения (хотя бы и в форме воспитания, в форме запретов на те или иные действия) приводит к рождению привычек, внутренних склонностей, заменяющих принуждение[276]. Таким образом, запрет есть то средство, при помощи которого социальное принуждение производит свои психические действия[277], а стыд, следовательно, является одним из тех средств, с помощью которых действует запрет.
Внешний признак нравственности – по Дюркгейму – имеет или нет какое-то конкретное предписание репрессивную функцию, то есть осуждается ли общественным мнением нарушение этого предписания[278]. Значит, коллективное сознание («коллективная совесть», как назвает его Э. Дюркгейм) – совокупность убеждений и мнений, разделяемых всеми членами коллектива – играет решающую роль в деле социальной интеграции. Коллективное сознание представлено в индивиде в виде «социального существа» – того, что (кто?) выражает в нас не нашу личность (личность выражается другим «существом» в структуре индивида – «индивидуальным»), «а группу или различные группы, часть которых мы составляем»[279]. По силе этого «социального существа» Дюркгейм классифицировал самоубийства.
Альтруистическое самоубийство – недостаточная развитость «индивидуального существа», и потому в этом случае самоубийство происходит не по желанию, а по необходимости, иначе индивида ждет бесчестье, позор[280] («бытие в стыде»). Смерть для такого человека легче стыда.
Эгоистическое самоубийство – «индивидуальное существо» доминирует над социальным, и индивида не волнует мнение группы по поводу его действий[281], а если он и руководствуется какими-то нравственными побуждениями, то в этом случае руководствуется своим «голосом совести», а не представлениями о позорном поведении и постыдных поступках. Поступки такого человека – вне стыда перед другими.
Аномическое самоубийство – когда индивид теряет привычные ориентиры в результате социальной дезорганизации и не может приспособиться к новым социальным условиям[282]. Данный индивид – вне стыда, но лишь потому, что он просто не знает, что стыдно, позорно, а что – нет.
М. Маффесоли предлагает свой вариант интерпретации идей Э. Дюркгейма: «Стремление „держаться вместе“ является своего рода способом приспособиться, „одомашнить“ окружающий мир, который в противном случае представлял бы собой угрозу… Идеалы могут устареть, коллективные ценности вызвать чувство пресыщения; религиозное же чувство постоянно вновь и вновь порождает эту „имманентную трансцендентность“, которая позволяет объяснить устойчивость обществ в ходе исторического развития человечества. Именно в этом смысле оно является элементом той таинственной силы, которая нас интересует. Я упомянул экстатическое состояние, которое следует понимать в прямом смысле: как выход за пределы своего „я“. В самом деле, устойчивость, о которой шла речь, связана в основном с существованием массы, народа. Г. Лебон прямо говорит о „поучающем воздействии толпы на личность“ и приводит несколько примеров такого рода[283]. <…> Выражаясь более близким мне языком, на котором я уже рассуждал в связи с „этическим имморализмом“, можно сказать: какой бы ни была житейская ситуация и ее моральная оценка, имеющая, как известно, ограниченный и эфемерный характер, общность чувства есть то, что цементирует общество… (выделено мною. – М. Б.). В развитии нашей гипотезы и исходя из сказанного выше, можно слегка изменить классическую поговорку и вместо слова »Deus“ (бог) поставить »populus“ (народ). Таким образом, для социолога, пытающегося постичь жизнеспособность социальности, магическим словом „сезам“ могло бы стать: „Omnispotestas a populo“[284] (выделено мною. – М. Б.)»[285].
Э. Дюркгейм «полагал, что анализ зависимости социального явления от социальной среды есть цель социологического анализа. Структура общества, по его мнению, служит причиной появления феноменов, которые социология стремится объяснить. <…> Э. Дюркгейм дал примеры социологического анализа, полагая, что социальные факты должны объясняться исключительно в причинной связи с другими социальными фактами. <…> Предложенный Дюркгеймом способ объяснения широко используется в социологических исследованиях. Изучая уровень проявления какого-либо социального феномена…, социолог ищет социальные объяснения, т. е. причины, которые связаны с различными сторонами жизни данного общества… Тем самым социолог объясняет социальные факты, исходя из других социальных явлений (или фактов) (выделено мною. – М. Б.)»[286]. Именно так социолог только и может объяснить происхождение стыда.
Вот подобранные Б. В. Марковым доводы в пользу социологического, а не, например, психологического, исследования причин возникновения стыда и его сущности: «Внутренний опыт не является уникальным достоянием субъекта, существуют социальные нормы и коды, регулирующие как переживание, так и выражение страстей. Поскольку переживания, настроения, эмоции и ценностные предпочтения формируются в соответствии с общественными кодами, постольку их аналитика открывает возможность науки об эмоционально-ценностном чувственном опыте, которая не сводится к бихевиоризму или дециссионизму. Помимо материальных факторов предпосылками человеческого поведения становятся сложившиеся в процессе коммуникации убеждения, нормы и ценности, мотивирующие поступки и действия людей. Они отличаются в разных культурах, но это не дает оснований считать их „заблуждениями“ или „предрассудками“, так как люди искренне верят в их безусловность и действуют в соответствии с ними. Это не исключает учета физических, биологических, физиологических, экономических и иных материальных факторов поведения. Речь должна идти, используя выражение Н. Лумана, о „подсоединении внешней и внутренней подсистем общества“[287]»[288].
Аргументы в защиту поисков именно социальной сущности стыда обнаруживаются и А. В. Прокофьевым: «Если придерживаться исторического принципа изложения, то наиболее ранние теоретические описания стыда связывали природу данного переживания со специфическим контекстом его возникновения. Этот контекст задан реальной или воображаемой осведомленностью другого человека о предосудительном поступке стыдящегося индивида или об унизительной ситуации, в которой тот оказался (выделено мною. – М. Б.). Стыд порождают нарушение нормы или отклонение от нормальности, попавшие под взгляд негодующего, насмешливого или презрительного другого (под „Око других“, используя термин Агнеш Хеллер[289]). Антиподом стыда в этом отношении принято считать чувство вины… Переживание вины не зависит от социального контекста, оно не требует реального или воображаемого присутствия другого человека и инициировано непосредственно уважением к норме и признанием ценности. Концепции стыда, определяющие его через контекст негативной самооценки и противопоставляющие стыд вине по принципу „внешнее/внутреннее“, часто называют социальными или социализированными»[290].
Историко-культурный подход к исследованию стыда возник позже, чем социологический, и в полной мере был реализован во 2-й половине XX в. «Исследованию культурных влияний на причины возникновения чувства стыда, – замечает Гергилов, – до сих пор уделялось крайне мало внимания. Наиболее известный анализ этого феномена принадлежит Н. Элиасу»[291]. Оппонентом Н. Элиасу стал Г.-П. Дюрр. Относительно исследований этих ученых Гергилов пишет: «И Элиас, и Дюрр свою аналитику стремятся подтверждать на примере различных вариантов телесного стыда с опорой на массив историко-культурного материала. <…> Насколько возможен перенос результатов таких исследований на иные разновидности стыда, остается открытым вопросом. Возможно, они находятся в связи с совершенно иными факторами культурного влияния. Но трудность такого переноса характеризует общую проблематику анализа культурных влияний на ощущения стыда. Как представляется, эта трудность является основной причиной неразработанности этого научного направления. Действительно, межкультурные различия в поведении, обусловленном чувством стыда, можно рассматривать и как качественные различия (выделено мною. – М. Б.). С помощью такого подхода можно пренебречь спецификой лишь одной разновидности стыда и рассматривать всю гамму ощущений стыда в целом. На этом основании межкультурные различия можно описывать как сдвиги отдельных форм и разновидностей этого чувства. Таким образом, культуры различаются не посредством наличия или отсутствия – или большей или меньшей степенью проявления чувства стыда; они отличаются тем, какие формы и разновидности стыда в той или иной культуре являются доминирующими (выделено мною. – М. Б.). Такого подхода в описании межкультурных различий придерживается Ж.-К. Болонь»[292].
По мнению Ж.-К. Болоня, «стыд – это универсальный феномен, формы проявления которого, при сравнении культур, всё же разнятся. При этом культуры различаются по тому, какие формы стыда являются для них характерными. В историческом процессе такие отличия проявляются как следующие друг за другом доминанты различных форм стыда. При этом соответственно доминантные формы стыда не исчезают вовсе, а переходят, так сказать, на второй план, то есть утрачивают свое первостепенное значение. „Каждый индивид, в рамках той же культуры, несет в себе всю систему ценностей, но, в соответствии со своим характером, может вычеркнуть тот или иной ценностный аспект. Каждая цивилизация опять-таки производит синтез этих форм проявления чувства стыда, причем она делает акцент на одной части поля, оставляя без внимания другие“[293]… Описанные наблюдения причин стыда в межкультурном сравнении создают видимость того, будто определенные причины стыда в одних культурах совершенно неизвестны, в то время как в других они вызывают сильный стыд. Многие причины стыда и поводы для его проявления как таковые известны во всех культурах или, по крайней мере, вполне представимы, хотя и выражены они с разной интенсивностью (выделено мною. – М. Б.)»[294].
Таким образом, несмотря на многообразие исторических и современных вариантов человеческой культуры, можно сказать, что стыд присущ самой социальности, т. е. наличию многообразных социальных связей, которые и порождают многообразие культур, а потому его можно назвать социальным инвариантом.
Стыд – как элемент макросоциологической теории
Если стыд рассматривать как элемент макроуровня социального взаимодействия, то мы в результате получим описание внешнего плана ситуации стыжения/стыдимости, и это описание должно подчеркнуть качественную неповторимость стыда как социального явления, т. е. невозможности сведения представлений о стыде только к психологическому «портрету» стыда, к уровню взаимодействия стыдящего и стыдящегося как взаимодействия «Я – Ты». «Макроанализ важен, – считает Э. Гидденс, – для понимания институционального фона обыденной жизни. Те способы, которыми люди строят свою повседневную жизнь, чрезвычайно зависят от обширных институциональных оснований, с которыми люди существуют. <…> В свою очередь, микроисследования помогают объяснить широкие институционные формы. <…> Многие представляющиеся тривиальными аспекты обыденного поведения при тщательном изучении оказываются сложными и одновременно важными аспектами социального взаимодействия»[295].
Непосредственным участникам межличностных отношений, по мнению Г. М. Андреевой, именно «эти отношения могут представляться единственной реальностью вообще каких бы то ни было отношений. Хотя в действительности содержанием межличностных отношений, в конечном счете, является тот или иной вид общественных отношений, т. е. определенная социальная деятельность, но содержание и тем более их сущность остаются в большой мере скрытыми»[296]. По причине скрытности, невидимости сущности таких общественных (социальных[297]) отношений, инаковости их по сравнению с отношениями, характерными для социального порядка на микроуровне социального взаимодействия, для описания внешней стороны ситуации стыда нужно использовать понятия, входящие в структуру иных теорий, чем тех, которые позволяют описать внутреннюю сторону ситуации стыда.
Какое же место занимают эмоции на макроуровне социального взаимодействия? Вот как отвечает на этот вопрос, например, О. А. Симонова: «Эмоции обладают макросоциологическим измерением, локализуются одновременно в индивидах и социальных структурах и формируют основу для действий людей и групп»[298].
Этот автор указывает на важность разработанного в рамках теории эмоций инструментария изучения общества: «В социологии эмоций созданы все предпосылки для того, чтобы адекватно решать проблему связи между микроуровневыми социально-эмоциональными явлениями и явлениями макроуровня, и именно эмоции часто служат основой концептуализации такой связи. Представители социально-структурной теории в социологии эмоций настаивают на макросоциологическом подходе к эмоциям… В качестве примера можно привести проблематику коллективного поведения, и в частности социальных движений[299]»[300].
«Тем не менее, – О. А. Симонова продолжает рассуждать на тему изучения влияния эмоций на разные уровни социального взаимодействия, – оправдан и микросоциологический подход. Например, широко известные исследования эмоциональной работы и эмоционального труда, которые свойственны непосредственным взаимодействиям между индивидами, между работниками и их клиентами[301]. В современных теориях эмоций уже существуют различные теоретические варианты интеграции микро- и макроанализа эмоций, например, в теориях Т. Шеффа, Т. Кемпера, Р. Коллинза[302]. Для Кемпера эмоции, особенно страх и гнев, являются следствием власти/ статуса, Коллинз пишет о циркуляции „эмоциональной энергии“, рождающейся в интеракционных ритуалах и поддерживающей социальное расслоение и властные структуры или, напротив, разрушающей их. У Шеффа стыд и гордость, которые возникают и аккумулируются на микроуровне, могут проявляться на национальном и межнациональном уровне. Таким образом, эмоции, прежде всего страх, гнев, стыд, гордость, имеют значение не только для индивидуальной жизни, но играют фундаментальную роль в социальной структуре и социальных процессах»[303].



