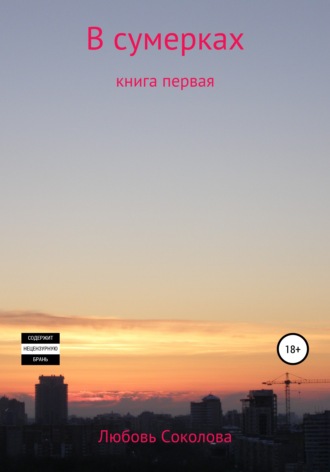
Любовь Соколова
В сумерках. Книга первая
Кирилл привез листовки, думал, расклеивать будут вместе. Делать нечего, сидит запертый – дай, думает, хоть листовки сожгу. Запалил. А бумаги много. Дым коромыслом. Сигнализация сработала, приехала пожарная команда, квартиру вскрыли, Кирилл и смылся. Удачно вышло. Метнулся на вокзал. Думал, выкрутился. Нет, сняли его с ленинградского поезда.
Глава девятая. Провал
Первая телеграмма от Кирилла пришла: «Добрался. Встретили». А второй не было. Михаил понял, что неладно там вышло, в Прибалтике. И что делать? Мать еще с Пасхи с ним разговаривать перестала, замкнулась. Веника за испорченную куртку тряпкой отхлестала. Не бывало с ней такого прежде. Грустная ходит или озабоченная, не поймешь. По телефону только спросишь ее, как дела, отвечает:
– Нормально, сам-то как себя чувствуешь? Не болеешь? Как там маленький? Растет?
В гости не зовет. Вениамин экзамены сдал в школе хорошо. Справки о здоровье собирал, характеристики: поступать ведь надо. С ним тоже редко виделись. И вот как-то день хороший выдался. Лето. Тепло. Настроение славное с самого утра, будто последний день на свете живешь, и каждая мелочь радует, проступает, как под увеличительным стеклом… Пух тополиный… Да! Как раз полетел тополиный пух. Мастер говорит, надо съездить на объект, вроде в заводское общежитие, посмотреть, какой там объем работы. Летом всегда систему отопления ремонтируют, сварка нужна. Михаил даже обрадовался сначала, что за проходную поедут. Мастер велел переодеться, потому что объект серьезный, до конца смены не обернуться. А варить трубы там завтра уж будут. Крайнов переоделся в чистое, не заподозрил еще подвоха. А когда из ворот выехали, там по обе стороны две «волги» стояли, и в каждой по три человека. Поехали тихонько, у мастера руки на руле дрожат. «Волги» следом едут. Тут Михаил понял, что нет никакого объекта, сам он объект.
– У тебя отец-мать живы? – спрашивает мастер.
– Живы.
– Это хорошо.
Помолчал и опять про мать-отца. Какое ему дело? Будто если бы Михаил сиротой был, так он бы его умчал от погони? Передачи в кутузку носить бы стал? Пустой разговор. Выехали на задворки городского парка. Остановились, мастер опять спрашивает:
– Жене передать что-то?
– Передайте привет.
А дальше уж никакого разговора. «Волги» фабричную «буханку» взяли в коробочку, мужик в пиджаке дверцу открыл снаружи и спрашивает:
– Крайнов Михаил Филиппович?
– Я.
– Пройдемте.
«Надо же, как в кино», – подумал Михаил и прошел в автомобиль, на заднее сиденье между двух бойцов в штатском. Уселся. Он и после, спустя годы, вспоминал свой арест – как кино смотрел, будто видел всё и самого себя сверху и чуть сбоку. Значит, видел глазами ангела, парившего за правым плечом. Вообще-то в ангелов он никогда не верил. Кирилл ему говорил, что ангел за правым плечом, а за левым – черт.
Дальше неловко было, когда привезли в «контору глубокого бурения». Ведут в наручниках, а вокруг знакомых полно: с кем на турбазу вместе ездили, с кем за столом у родителей на праздниках сиживали. Неловко перед ними под конвоем. Завели в кабинет. Обстановка скромная. Стульчик дали хлипкий. Сел на краешек. Руки за спиной в наручниках. И как пошли один за другим в этот махонький кабинетик большие чины, как давай ругать, матерью попрекать. Рожи красные, глаза пучат, кулаками трясут. Тут Михаилу легче стало – озлобился в ответ. Молчит, но внутри не стыд, как поначалу, а злоба клокочет. Мать ругаться не пришла.
Жалко ее, конечно. Уволили за утрату доверия. По сути, за избыток доверия. Двух сыновей-антисоветчиков воспитала. Отец с должности сам ушел, простым врачом остался в госпитале работать, врачи нужны. А мать совсем уволили, всех льгот лишили. Орущие на него чины как обещали, так и сделали.
Потом уж следователь протиснулся к нему. Молодой совсем, лейтенантик в штатском, достал Уголовный кодекс. Дал статью прочитать. Агитация и пропаганда, направленная на подрыв и ослабление советского строя, тянула на семь лет лишения свободы. Михаил думал, ему пятнашка светит, а выходит, семь лет всего. Обрадовался: «Может, еще скостят малость, дак выйду в тридцать или раньше. Ерунда, беру!». Не обратил сначала внимания на отягчающие. Они хороший довесок дали – за группу всегда накидывают срок.
Следствие тянулось до зимы. Хотя, казалось бы, что там расследовать? Никто не отпирался. Это вор говорит: нет, не я украл. А за политику взяли – западло отпираться. Всё свое на себя взяли. Машинку только не сдали. Венамин ее закопал в сосновом бору. Узнал, что Мишку арестовали, и закопал. Потом, когда вышел на волю, не нашел. Может, выкопал кто-то, взял себе или он место плохо запомнил.
Глава десятая. Этапом до Теми и дальше
Первые семнадцать месяцев братья Крайновы провели в мордовском лагере. Летом 1972 года политических оттуда перевели. Собрали, повезли куда-то, а куда – не сообщали. Два вагона загрузили под завязку. Везли тайно, по ночам прицепляя к пассажирским поездам. Жара стояла жуткая. В вагоне духота, зэки в три яруса лежат – ни встать, ни сесть, – окна открывать нельзя, да и окна-то в «шубе», в специальных жалюзи, чтобы не видно было, как там, снаружи на воле, жизнь происходит. Жалюзи эти днем от солнца раскалялись. Заключенные, как на сковородке под крышкой, жарились. Кто без сознания лежал, кого прямо тут выворачивало. Стали от жары умирать старики. Конвоиры трупы до ночи не выносят, чтобы секретность не нарушать. Так и лежат умершие в блевотине, в моче рядом с живыми. Ну, тогда зэки отчаялись и устроили бунт. Взялись раскачивать вагон. Охрана, сообразив, что добром дело не кончится, договорилась с депо, подогнали пожарный поезд, облили вагоны снаружи водой. Полегчало несильно, но хоть что-то, хоть как-то температуру сбили.
Прибыли на конечную станцию неизвестно какого числа – счет дням потеряли, пока ехали. Впервые за долгое время вдохнул Михаил наружного воздуха полной грудью, когда из тамбура голову высунул, прикидывая, куда шагнуть. И потом дышал жадно, пусть и не раздышишься на корточках. Правило такое при этапировании: зэк из вагона прыг на перрон – и на корточки. Внизу, на перроне, всегда креозотом пахнет, шпалами. Уборной наносит из-под вагона. Но тут в воздухе угадывалась еще гарь какая-то, привкус металлургический, заводской. Трубы не видны, судил Михаил по хвостам, расчертившим небо. Дым из невидимых труб валил рыжий, белый и черный. Понять бы, куда и откуда ветер дует, а конвой велит голову вниз держать, не глазеть по сторонам. Вперед тоже смотреть нельзя: на уровне лица этапируемых – овчарки, взгляд в упор для них – как вызов, угроза. Михаилу глазеть особо не требовалось. Длинная тень от столба, заметил он, лежит ровно вдоль перрона, а ведь утро, часов шесть, наверное. Вот так, значит, со сторонами света определились.
В зону повезли далеко за город. И повезли-то, вот какая везуха, в открытом кузове. Кто говорил, век воли не видать? Видать волю, не наглядишься! Местные тюремщики нашли всего пару автозаков, а заключенных прибыло два вагона, битком набитых. На чем их развозить по тюрьмам? Стариков, а это в основном бандеровцы, полицаи, «за войну» сидевшие, повезли по-взрослому, автозаками. Уважили. Молодежь диссидентскую – в открытых грузовиках, на низких скамеечках, почти на полу, зато ветерком обдувает, и пейзаж перед глазами.
Москвичи, украинцы, прибалты не могли понять, что за местность. Всё, что восточнее Волги, для них Сибирь. А Крайновы, хоть и не бывали прежде ни разу в этих местах, сообразили, что находятся недалеко от дома. Севернее, но не очень далеко. Родину ведь, как мать, узнаешь даже переодетую. Узнаешь по линии горизонта, по цветам на обочине, по вкусу дождя, по звуку ветра. Каково возвращаться на родину тюремным этапом? Это другой вопрос. А все равно рад был Михаил родине. Шел ему тогда двадцать седьмой год.
Часть вторая
Глава первая. Полковник Федотов и свобода слова
Февраль 1992 года сковал Темь и Таму долгими, как зимняя ночь, морозами. После обманной январской оттепели в воздухе повисли кристаллы изморози. Сталкиваясь друг с другом, они дробились в пыль и продолжали хаотическое движение, удерживаемые на весу восходящими потоками воздуха. Мерцание морозной пыли днем в лучах слабого солнца и ночью в жестком свете уличных фонарей придало городу вид болезненно-фантастический. Явление комментировали метеорологи сначала местные, затем московские. Суть комментариев сводилась к одному: такое бывает, хотя старожилы и не упомнят.
Под прикрытием тумана промышленные предприятия сделали несанкционированные выбросы в атмосферу. Легкие фракции улетели, а тяжелые понемногу оседали, смешиваясь с алмазной пылью. Темчане десятками отправлялись на больничные койки с аллергическими бронхитами. На третьи сутки в стационарах не осталось свободных коек, пациентов укладывали в коридорах. Эпидемиологический порог, однако, не был превышен.
Наконец, морок рассеялся, и напасть обернулась неземной красотой. Всё недавно мерцавшее на весу, осело на стены домов, на фонари, придав Теми вид декорации к спектаклю «Снежная королева». Особенно хороши стали голубые ели у парадного входа здания Темского областного УВД. Изморозь покрыла каждую иголочку на растопыренных лапах. Полковник Федотов, пораженный зрелищем, замер у дверцы служебной «волги». Дежурный офицер проследил взгляд начальника, улыбнулся, давая понять, что разделяет восхищение явлением природы, и впервые заметил, как смахивает тот на Мороза из оперы «Снегурочка». Вчера с женой ходил лейтенант в театр – и вот навеяло. Широкое румяное лицо полковника, глаза в лохматых ресницах под густыми бровями, лихой чуб, выбившийся из-под каракулевой папахи. Ему только бороду приклеить и – добро пожаловать в Берендеево царство.
– Доброе утро, Валерий Федорович! – прощебетала пробегавшая мимо девушка-секретарь из его приемной.
– Доброе, – ответил Федотов и помедлил, давая возможность подчиненной пройти вахту и занять рабочее место раньше руководства.
Спуcтя час он подошел к окну в своем кабинете еще немного полюбоваться морозной красотой, однако поднявшийся с рассветом ветер разрушил праздничный наряд домов и деревьев. Фонари уже погасли. Солнце скрытно передвигалось где-то вверху, за облаками. Цветной полиэтиленовый пакет рывками летел через площадь. Полковник, коротко вздохнув, моментально забыл, какое волшебное выдалось утро.
Федотов который день ломал голову, как быть с корреспондентами, осаждавшими областное УВД. Средства массовой информации требовали разрешений на посещение исправительного учреждения, где совсем еще недавно содержались последние заключенные, осужденные по так называемым политическим статьям Уголовного кодекса СССР. Поздно спохватились газетчики, говорить и показывать нечего. Последних пятерых политзэка выпустили из больнички пятой зоны на прошлой неделе. Содержались там никак не матерые интеллектуалы-диссиденты, готовые дать пространные интервью про жизнь, судьбу и борьбу. Это были в основном незначительные в мировом масштабе люди, пострадавшие от своей неспособности жить в системе. Они оставались в неволе дольше других из-за бюрократической волокиты, разного рода формальностей. Журналистам же хотелось разобраться, посмотреть своими глазами и своими руками потрогать, чтобы рассказать, как было на самом деле. Да ведь ничего настоящего там, куда они рвутся, уже не осталось.
Полковник с уважением относился к прессе. Очень хотел помочь и даже придумал как. Своей несколько экстравагантной идеей он решил поделиться с журналистом Владимиром Ванченко. Тот специализировался на расследованиях и криминальной хронике, а в былое время сам ходил под 190-й статьей. Дело ему шили не в милиции, в другом ведомстве – и так тщательно вышивали, что не уложились в срок: верховные власти статью отменили. Ни суда, ни ареста не случилось, и, тем не менее, милиционер считал журналиста человеком заинтересованным и хорошо информированным, причем именно по нужной теме. Как раз сегодня попросил зайти. Федотов посмотрел на часы, и в ту же минту раздался голос секретаря:
– Ванченко ожидает. Примете?
– Пусть заходит. Жду.
Журналист, высокий, плечистый, с подвижным выразительным лицом, прошел широким шагом в кабинет и после рукопожатия занял место в устье длинного стола для совещаний, примыкающего к рабочему столу полковника. Достал блокнот.
– Записывать пока ничего не надо, – осадил его Федотов. – Клянусь, Владимир Иванович, если дело выгорит, ты первым получишь всю информацию. А пока хочу посоветоваться. Я задумал создать музей политзаключенных или что-то вроде этого.
Крупные черты лица посетителя отразили удивление, сменившееся любопытством. Он выпрямился на стуле, затем наклонился вперед и положил локти на стол:
– А в чем дело-то?! Где музей, что там показывать?
– Я тебе сначала объясню зачем. Пресса рвется в пятую зону. Потому что туда в свое время свезли всех последних сидельцев по политическим статьям и оттуда, по мере готовности документов, их выпускали. Поселок режимный, сам знаешь, без пропуска туда не проехать. Я до недавних пор был против допуска прессы, потому что у вашего брата деликатности маловато. Представь, человек отбыл срок, намаялся по этапам – а их туда со всей страны собирали, – и только вышел, его на части рвут корреспонденты, сенсации хотят, вопросы задают провокационные. Надергают отдельных фраз, да нарочно извратят, да сфотографируют. Опубликуют, конечно. А человеку потом с этим жить.
Ванченко вскинулся, хотел возразить. Полковник предостерегающе поднял руку:
– Знаю, не все такие, но прецеденты имеются. Вон мы провели в СИЗО день открытых дверей. Ты сам там был. Получили в итоге два иска о защите чести и достоинства. Не знаю пока, как расхлебаем. Свобода слова – инструмент новый, острый на обе стороны. Того и гляди, как бы чего не вышло…
Ванченко замотал головой, готовый возражать. Федотов жестом остановил его, а сам продолжил:
– Сейчас пресса хочет хотя бы посмотреть, как там все было. А содержали их, последних, вовсе не в зоне, а в больничке. Временно. Допустим, приедут журналисты посмотреть – и что увидят? Непосредственно в зону нельзя, там теперь рецидивисты с тяжкими статьями. Знаешь сам, перепрофилировали «пятерку» еще в девяностом. А больничка пока стоит как была, разве что полы помыли. Но там нет никакого антуража, отражающего реальные условия содержания политических. Вот я и думаю договориться со службой исполнения наказаний, чтобы они больничку переделали в музей, собрали там артефакты какие-то, архивные дела, решения по реабилитации. Конечно, специалистов надо привлечь, историков. Это же такой пласт нашей советской жизни – политические преследования! Сколько десятилетий людей мордовали за убеждения! А преодолели. Надо сохранить для потомков память, чтобы не повторилось, как говорится.
Ванченко молчал.
– Что, удивил тебя мент?
– Удивил.
– Прошу, там, у себя в «Мемориале», посоветуйся, каким образом станете поддерживать. Ваша тема. Только не тяни, железо горячо, как бы не остыло. Чай будешь?
– С мармеладом?
– Как водится. Мармелад у меня нынче в шоколаде, из кремлевского буфета. Привез на прошлой неделе из командировки. Шикую.
И они выпили чаю, рассуждая о свободе слова и неучтенных последствиях. Оба сетовали на юридическую необразованность работников пера и телекамеры.
– Да и законы у нас, прости господи, – сетовал главный областной милиционер, а с недавнего времени депутат Верховного Совета. – Доработки требуют.
Журналист с ним соглашался, мотая на ус: тема, достойная «подвала» на второй полосе. Пожалуй, стоит взять в разработку. Обещал посоветоваться со специалистами в музейном деле.
Лучшим он считал своего университетского приятеля Александрова, ныне декана исторического факультета. К нему и пошел вечером, договорившись о встрече по телефону.
В их биографиях было много общего. Оба гуманитарии, сразу после школы поступили в университет. Окончив, оба распределились в глухомань – каждый в свою. Отработав срок, вернулись в Темь. Мужчины не уступали друг другу ростом и дородством, только один в последние годы быстро седел, другой лысел. Владимир Иванович вечно не находил времени на парикмахера, обрастал кудрями и двух-трехдневной щетиной. Виктор Михайлович, не желая маскировать свою лысину кокетливыми зачесами, регулярно брил голову под ноль и лицо тоже держал идеально выбритым.
Явившись вечером в университет, Ванченко прошагал пустыми коридорами до приемной Александрова, столкнувшись в дверях, попрощался с его секретарем и без вступлений про как жизнь и все ли здоровы, с ходу начал излагать суть затеи полковника, будто продолжая телефонный разговор.
– …Прямо скажи, достаточно ли безумно браться нам за такое дело?
Расстегнул, наконец, куртку с заедавшей молнией, уселся на стул и, навалившись грудью на просторный письменный стол, захватил шариковую ручку хозяина. Стал рисовать треугольник. Сначала оторвал листок из пачки модных самоклеящихся стикеров. Сообразив, что там негде развернуться, вытащил из-под пресс-папье лист формата А4.
– Чистый. А черновиков нет? – окинул хищным взором тщательно прибранный стол декана.
– Да ладно, бери чистый, пользуйся, – Виктор Михайлович знал: без иллюстраций разговор у товарища никогда не клеится – хоть ботинком на песке, да начертит что-нибудь.
С Ванченко они приятельствовали давно, а теперь появилось общее дело – движение «Мемориал». Работа сблизила их, сотрудничество переросло в дружбу.
– Рассказывай! Подробности выкладывай.
– Вот такой треугольник, – Ванченко у каждой вершины довольно кривого треугольника нарисовал по квадрату, пронумеровал их: № 5, № 6, № 7. – Три зоны были для политических. Когда эти две закрыли, – он перечеркнул квадраты номер шесть и семь, – всех оставшихся свезли в пятую зону, – Ванченко нарисовал стрелки. – Но ее тоже закрыли и перепрофилировали. А этих политических, кого по разным причинам не выпустили, собрали в помещении тюремной больницы. Она за периметром. Там, по сведениям Федотова, даже не диссиденты досиживали, а разная незначительная, случайная публика. Но это надо уточнять.
– Что значит «случайная»? – вскинул брови Александров. – Давно уже не тридцатые годы, чтобы случайно за политику сажали.
Журналист, корябая закорючки в непропорциональном прямоугольнике, символизирующем, очевидно, тюремную больницу, постарался объяснить:
– Он в том смысле говорит, что не идейные борцы с режимом или за права человека, а локально не вписавшиеся в правила советского общежития. Кто Библиями торговал, кого с порнографией на таможне взяли. Кто-то в турпоездке в побег пошел, да не дошел, кто-то из Группы советских войск перед дембелем решил перебежать на Запад. Среди таких были случаи с отягчающими, оружие прихватил из части или кое-какое имущество: измена Родине, вполне политическое дело, и в то же время как бы и кража. С этими делами тоже интересно познакомиться будет. У некоторых, как я знаю, с гражданством беда. Литовцы, например, вдруг оказались иностранными гражданами. Просто так их не выпустишь на улицу с билетом на электричку, им как-то еще границу надо перейти. Украинцы, армяне – тоже теперь иностранцы. Там нюансов полно. Потому и разбирались долго.
– Сейчас никого нет, уже все уехали, так?
– Так. Пресса, телевидение, радио, причем многие зарубежные, теперь сильно интересуются условиями содержания, бытом политзаключенных. «Держать и не пущать» Федотов не хочет, он ведь у нас демократ. Беда в том, что если прессе показать больницу, получится неправда. Больница для политзэка – все равно что курорт.
Ванченко нарисовал символическую пальму, а поверх нее – окошко с решеткой.
–
Так говоришь, настоящего лагеря не осталось? – Александров откинулся в кресле, наклонив голову, слегка набычившись.
–
Нет, не осталось. Вот эту, – Ванченко опять взялся за рисунок, – шестую зону разрушили, она ветхая была. – Он перечеркнул цифру шесть. – А в седьмой и в пятой все занято рецидивистами, убийцами и насильниками. В одной мужчины, в другой – женщины. Похищение людей, пытки, мошенничество, вымогательство. Жуткие персонажи. –
Для убедительности поставил буквы М и Ж в соответствующих углах треугольника и подвел черту.
Александров взял рисунок в руки, повертел так и сяк.
– Больница – место сакральное, потому что отсюда последние вышли. И Федотов предлагает тут сделать музей политических заключенных СССР. Я правильно понял?
– Правильно.
– Я бы посетил такое место. Можешь устроить? Я, видишь ли, когда по распределению на Вишере работал, повидал много мест заключения разных эпох. Там дядя Петра Первого сидел в яме триста лет назад. Кстати, тоже за политику. Якобы на престол Бориса Годунова претендовал. Ты не поверишь, просто в яме сидел целую зиму! И тоже что-то вроде музея потом сделали. Кандалы его в церкви хранятся, яма … не понимаю, как яму сохранить удалось за столько лет. Видимо, благодаря паломничеству. Ошибся, не триста, а почти четыреста лет той яме. С 1601 года. Вот как!
Ванченко ямой не заинтересовался, хотя выслушал терпеливо. Гнул свою линию:
– Придется съездить, если возьмемся делать там музей. Увидишь своими глазами.
– Ох, музеев в последнее время развелось немерено, особенно музеев крестьянского быта. Повернулся народ к исконному от разочарования в настоящем. Сам-то бывал там?
– Ну, ты спрашиваешь! Серия статей по линии «Мемориала» вышла. Не из пальца же…
– Видишь ли, музеефикация объектов исторического наследия – это не такое простое дело, не очевидное. Это отдельная профессия. А музей тюрьмы – это вообще особая специфика. Где ж такое?.. В нашей стране такого опыта нет. Если учитывать целевую аудиторию… Для кого музей? Я думаю, интерес репортеров-то со временем угаснет.
– Музей тюрьмы при тюрьме – это очень необычно, – Ванченко, сильно разочарованный отсутствием энтузиазма у Александрова, искал аргументы. – Возможность локализовать историю! Там ведь рядом, за забором, на самом деле содержали диссидентов. Тот же Буковский, знаешь о нем, он там отбывал! Пока не поменяли на Луиса Корвалана. Достойная история, она одна тянет на музей.
– А давай поедем посмотрим. И возьмем c cобой еще одного товарища, то есть гражданина, или как теперь принято говорить, господина… Даже не знаю, как назвать его. Коллегой, наверное.
– Тогда давай свои паспортные данные. И «коллеги» тоже. Будем заказывать пропуск.
– С коллегой на днях пересекусь, – Александров встал, достал из кармана пиджака, повешенного на спинку кресла, паспорт. Пролистал, положил его перед Ванченко. – Пиши. А насчет того позвони через пару дней, если я сам не позвоню. Тебя в редакции застать проблема.
– Скоро домашний поставлю. Очередь вот-вот подойдет, будем созваниваться в любое время суток.
– Скоро?
– Обещали в этом году, – Ванченко вздохнул. – Мать еще жива была, встала на очередь сразу, как квартиру дали. Я в пятом классе учился. Не дождалась. Теперь уже точно обещают к концу года.
Ванченко покинул кабинет декана так же стремительно, как и появился. Александров подошел к окну и долго сквозь свое отражение смотрел вслед длинноногому сутуловатому человеку, который – он еще не знал, и предположить не мог – круто развернет его жизнь. Музей. Почему бы нет? Собственное отражение Александрова двоилось в зимних рамах, тщательно заклеенных разрезанными на полоски листочками студенческих рефератов.
Глава вторая. Почем тюрьма в розницу, или Торг по-чемодановски
В последних числах марта на двух «волгах» с милицейскими номерами декан истфака Александров, журналист Ванченко и некто по фамилии Чемоданов в сопровождении двух милицейских чинов отправились в колонию, служившую градообразующим предприятием для поселка, будто нарочно забившегося в складку гористой тайги в тридцати километрах от ближайшей железнодорожной станции.
Выезжали из Теми по расквашенной весенней распутице, а проехав километров сто, оказались в самой настоящей зиме с нетронутыми сугробами, разлапистыми елями и синими тенями штакетника поперек узких, в одну стежку, тропинок от избы к избе. В село, известное бывалым водителям, нарочно свернули с большой дороги перекусить в колхозной, ныне кооперативной, столовой. Наелись до пота щами на бульоне с мозговой косточкой. Мясная котлета приятно поразила размерами. На третье взяли морс из брусники с домашним печеньем-хворостом.
– Ну вот, уже и не зря съездили, – разулыбался Александров, возвращаясь к машине.
– В Европе такого меню не встретишь, – отозвался Чемоданов, куривший коричневую сигарету, пахнущую шоколадом. – Но там тоже неплохо кормят.
Никто из компании не имел достоверного представления о Европе. Поддержать разговор могли бы только вопросами. Вопросов не последовало. Чемоданов тем не менее продолжил:
– Александр Исаич очень неприхотлив в еде. Можно понять его – с такой-то судьбой. А я, наоборот, так сказать, гурман. Все же удалось избежать того опыта, что выпал многим из наших, очень многим.
Для гурмана этот человек выглядел, пожалуй, слишком субтильным. Впрочем, как говорится, лошади едят, а леди пробуют: вероятно, гурманы аппетитом схожи с леди. Попутчики на «Александра Исаича» так же, как на Европу, не повелись, реплика опять повисла. Чемоданов докурил, постреливая во все стороны глубоко посаженными серыми глазками, отряхнул несуществующий пепел с холеной бородки и первым залез в машину.
Владислав Алексеевич Чемоданов, уроженец Темской области, – личность, безусловно выдающаяся. В юности уехал в столицу, поступил на иняз в МГУ, но закончил в итоге МГИМО, куда, как считалось, невозможно пробиться без очень хороших связей. Во всяком случае с аттестатом школы провинциального городка попасть туда помогло бы только чудо. Природа свершившегося чуда осталась за кадром напряженной, как шпионский сериал, биографии господина Чемоданова. Сначала он работал на радио, вещая соцпропаганду на Швецию и Норвегию. В 1976 году по линии МИДа выехал за рубеж как синхронный переводчик, специализирующийся на скандинавских языках. И всё! Сбежал. Убежище получил в Дании, затем перебрался в Штаты, пытался легализовать советский диплом, что-то не срослось, получил второе образование и работал преподавателем в университете, далеко не самом престижном. Писал мемуары и как-то сумел сам себя убедить, будто его преследует КГБ, будто бы он внесен в «список смертников». И хотя на самом деле никаких списков так никогда не обнаружилось, а если были, то попасть в них у Чемоданова не имелось никаких оснований, он умел оставаться интересным. Теперь ему пришлось поехать по каким-то делам на родину, и он застрял в Теми.
В местных либерально-демократических тусовках Владислав Алексеевич прослыл человеком, вхожим в ближний круг Солженицына. Удалось это ему, благодаря тонкой игре в подробности. Вот как сейчас, небрежным замечанием о пищевых пристрастиях писателя Чемоданов утвердился в понятии о себе как о человеке, который, видимо, столуется у Солженицыных.
Чемоданов играл диссидента. Игра имела успех вследствие бытовавшего в то время представления о некоем монолитном «Западе». На том «Западе», который сидел в головах советских людей, живущие за рубежом соотечественники составляли когорту если не героев, то мучеников и буквально держались за руки, изо дня в день печалясь о судьбах родины. Владислав Алексеевич, подкупавший простотой и доступностью, охотно соглашался принять письма для передачи Солженицыну лично в руки, обещал навести какие-то справки и сколь угодно «кланяться» от имени малознакомых людей Александру Исаевичу с выражением бесконечного уважения. Кто знает, может, и кланялся?
Участие Чемоданова в поездке повлекло за собой досадные последствия, о которых речь пойдет дальше. А пока делегация из журналиста, историка и диссидента в сопровождении сотрудников ГУВД двигалась на северо-восток Темской области. Они миновали город, дымивший белым, рыжим и черным и покрытый густым слоем сажи. Хвосты дыма из заводских труб висели горизонтально, шлейф сажи тянулся далеко и смыкался со шлейфом промышленных выбросов другого цвета в другом городке, так что выбраться из зоны экологического неблагополучия путешественникам удалось только в непосредственной близости от колонии. Там снова радовали искристый снег, пронзительно голубое небо и кристально чистый воздух, морозный вкус которого оттенял дымок котельной пенитенциарного учреждения.
Гостей встречали по высшему разряду, только без оркестра. Группу местных офицеров – понятие «офицер» применительно к роду их деятельности было невозможно сто лет назад, однако в современной России это мало кого коробило – возглавлял полковник Терентьев. Доброжелательный розовощекий блондин-коротышка широкими крестьянскими ладонями пожимал руки приехавшим, заглядывал в глаза. Ванченко, сделавший попытку уклониться от персонального приветствия, был извлечен из-за спин спутников и от всей души рукопожат. В столовой обнаружился фуршетный стол, покрытый новой клеенкой. Угостившись настойками на красной смородине и на кедровых орешках, лосятиной и солеными грибами, гости прошли на объект.
Под будущий музей предполагалось отвести две смежные комнаты общей площадью чуть больше двадцати квадратных метров. Заметив скепсис Александрова, неопределенно качавшего головой, Чемоданов спросил, какое нужно помещение, чтоб сделать достойный музей.
– Ну, вот хотя бы все это здание, – ответил историк, еще не отдавая себе отчета, какой смысл и масштаб может иметь затея, в которую он начинает ввязываться.
– Все двухэтажное здание больнички?
– Ну да, тут можно было бы разместить постоянную экспозицию, а там делать тематические выставки, – Виктор Михайлович поводил руками, охватывая сразу и второй этаж, еще не осмотренный делегацией.
Чемоданов сложил руки так, будто собирался танцевать зайчика под елочкой, потоптался, обернувшись вокруг своей оси. Пригладил каштановые усики, прикрывающие верхнюю губу, и вздохнул:
– Наверное, недорого стоит это здание, как вы полагаете? – Владислав Алексеевич, в отличие от склонного к широким жестам Виктора Михайловича, очертил «это здание» оборотом указательного пальца. Александров не нашелся, чем ответить, поскольку он вообще не связывал создание музея со стоимостью помещений.
–Хм?! Сколько «недорого»?
Вопрос поставил его в тупик. Зато оказавшийся рядом офицер отреагировал адекватно:
– Сейчас уточню, – и, метнувшись куда-то недалеко, назвал остаточную стоимость здания.
– Долларов? – уточнил Чемоданов.
– Нет, что вы, рублей! – отозвался офицер.
Чемоданов запрокинув голову и, прикрыв глаза, произвел в уме вычисления.
– Полторы тысячи долларов! – объявил он радостно и ударил по плечу Александрова: – Берем?


