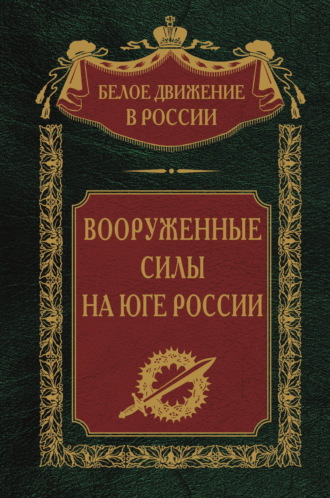
Вооруженные силы на Юге России
В Белгороде
Белгород был первым городом на пути Добрармии уже вне пределов бывшей Украины, где с первых дней советской власти царствовали ее произвол и «строительство новой жизни». Поэтому понятна радость, с которой жители встретили армию. Конечно, у части населения было сомнение в полноте благ, которые приносили с собой освободители; тут сказывалось и влияние пропаганды большевиков.
Но всякие сомнения быстро исчезали под влиянием самой жизни. Большевики трубили о дарованных ими свободе, равенстве и пр., которые якобы хотят отнять белые, а жизнь при них замирала. Пришли белые, принесли освобождение от большевиков, от их «свободы», и жизнь воскресла. На второй-третий день это стало всем совершенно очевидно. Базары, лавки полны продуктами первой необходимости. Скверный хлеб, который при красных стоил 27 рублей фунт, исчез, и появился белый по цене 3 рубля. Появилось мясо, дичь, яйца, овощи. На базарах жаровни с дешевыми жареными гусями, курами. Вопроса о продовольствии больше не было: крестьяне спокойно и свободно везли в город продавать свои продукты. Жители занялись своими делами без всякого с чьей бы то ни было стороны вмешательства. Свобода и безопасность передвижения полная. В город стали возвращаться жители, которые его покинули по причинам недостатка продуктов, страха за жизнь и здоровье детей, боязни репрессий и насилий со стороны большевиков.
– Как ты доехала? – задают вопрос своей дочери с внуком родители, обрадованные неожиданным ее приездом.
– Как? Свободно и просто. Мне помогли добровольцы. Теперь всюду порядок. Пойдите посмотрите хотя бы на вокзал: чистота и даже буфет. Мы соблазнились и съели по пирожному.
Этот разговор слышали марковцы, стоявшие на квартире. Они были рады радости приехавшей с ребенком женщины, не имевшей от родителей вестей и не могшей дать знать о себе в течение многих недель. Марковцы были рады и похвале порядкам, которые они принесли с собой. Однако восторги этих людей были так велики, что сейчас же пошли лично убедиться во всем, и прежде всего на вокзал. Вокзалы и станции вообще всегда привлекали к себе: на них как будто бы бился пульс жизни не только данного района, но чуть ли не всей страны. Особенно это сказывалось в военное время. По ряду признаков можно было определить, как идут дела на фронте, и побывавшие на вокзале уходили оттуда или с чувством душевного покоя, или с беспокойством.
На вокзале образцовая чистота и порядок. Национальные флаги; полное спокойствие; публика спокойно пьет чай и закусывает; по перрону прохаживается марковский часовой; эшелон штаба дивизии; в стороне бронепоезд еле дышит… Чисто на вокзале, чисто и в городе. Спокойно на вокзале, спокойно и в городе. Следов пребывания здесь красных, запущенности и грязи на улицах и в зданиях как не бывало. Вот разнесся по городу звон колокола монастыря, в котором почиют мощи святого Иосафа Белгородского, и как-то еще светлее становится на сердце.
Крестился проходивший народ. Многие спешили в монастырь. Пошли туда и марковцы. А ведь всего лишь несколько дней назад, идя в церковь или перекрестясь, можно было нарваться на злое слово коммуниста-безбожника.
На следующий день после занятия города у вокзала остановился состав штаба 1-й дивизии. Генерал Тимановский сразу же пошел на городскую площадь, где выстроились части дивизии – полк генерала Маркова, почти в полном составе, часть корниловцев, батареи. Начальник дивизии обошел фронт, поздравил с боевыми успехами и распустил части по квартирам.
12 июня марковцы снова построились на площади, но на этот раз на панихиду по своему шефу, генералу Маркову, годовщина смерти которого исполнялась в этот день. Как ни тяжело было у них на сердце, но они, памятуя слова генерала Маркова: «Ис малыми силами можно делать великие дела», переживали радостное сознание, что оправдывают эти слова.
Через день полк стал размещаться по квартирам более широко. Конечно, это стесняло хозяев, но они мирились, а через день-два, убедившись, что их постояльцы спокойны, вежливы, аккуратны, уважают чужую собственность и ничего не позволяют себе трогать, не получив их разрешения, сживались с ними и сами шли им на помощь. Были и исключения, «ложки дегтя».
Командир роты обходит отведенный для нее район и распределяет своих людей.
– У вас будут помещаться шесть офицеров, – сказал он хозяевам одной богатой квартиры.
Последовало возражение:
– Это много. Мы можем принять одного-двух.
– В таком случае приготовьте место для десятерых.
Поздно спохватились хозяева, но, поняв свою ошибку, в дальнейшем делали все, чтобы загладить ее.
Огромное оживление вызвало известие о приезде генерала Деникина. Его ожидали не только части 1-й дивизии, но и население. Ореол главнокомандующего В. С. Ю. России стоял очень высоко, и он поднялся к тому времени еще в связи с тем, что генерал Деникин признал адмирала Колчака как Верховного правителя освобожденных от большевиков земель России и как верховного главнокомандующего всех борющихся с ними сил.
25 июня полк без 5-й роты, бывшей в командировке, выстроился на городской площади. Одетый, хотя и не полностью, в английское обмундирование, он производил хорошее впечатление. В пешем строю по взводу от каждой батареи Марковской бригады, развернувшейся уже в восемь батарей. На правом фланге офицерская рота Корниловского полка и полковой оркестр марковцев. Громкое «Ура!» многочисленной толпы неслось по улицам, когда генерал Деникин подъезжал к площади. Войска взяли «на караул». Оркестр заиграл полковой марш офицерского полка – марш 13-го Белозерского, он же 7-го гренадерского Самогитского полка.
Генерал Деникин с большой свитой, в которой были генералы Май-Маевский, Кутепов, Тимановский, прошел перед фронтом частей, здороваясь с ними. Ответив на приветствие, части кричали «Ура!». Затем молебен, который служило все духовенство города во главе с епископом. После него генерал Деникин сказал слово о борьбе Добрармии, об «открытой широкой Московской дороге», о задачах и долге не только армии, но и всего народа и закончил выражением полной уверенности в успехе дела освобождения Родины. Его речь покрыло могучее «Ура» войск и народа. Короткие речи произнесли и другие генералы.
Церемониальный марш. После него генерал Деникин со свитой направился на поклонение чтимым народом мощам и святыням в Белгородский монастырь, находившийся тут же на площади. Войска ждали его выхода, и снова неслось «Ура!». Приезд Вождя был для марковцев большим праздником, поднявшим их настроение с беспредельным желанием: «Скорей вперед! В Москву!»
Со взятием Белгорода Марковский полк числился в резерве 1-го корпуса, называвшегося «Добровольческим», так как его части были сформированы из добровольцев до того, как была объявлена мобилизация; и «цветным» из-за красочности форм, установленных в его частях. Полк находился в резерве два месяца, в течение которых наступление на фронте корпуса было приостановлено. Главная причина – чрезмерно увеличившееся протяжение фронта, как его, так и всей армии, требовало формирования новых частей и, конечно, увеличения численности состава частей самого корпуса.
Но боевые действия продолжались, и инициатива их была у красных, имевших резервы уже сформированных частей. Бросая их в бой, чтобы не дать Добрармии спокойно усилиться, они вынуждали к выводу в бой из резерва частей Марковского полка. За два месяца полк только 4–5 дней целиком стоял в Белгороде и 25 дней все его батальоны были в бою. На полный отдых каждого батальона оставалось немного дней. И эти дни они старались провести не только для занятий с прибывающими пополнениями, отметить праздники, но так или иначе развлечься в городе.
Справляла свой праздник 3-я рота. После официальной части рота со всем батальоном (2-й и 3-й батальоны были в бою) обедала в великолепном саду железнодорожного клуба. Среди почетных гостей были генерал Кутепов, бывший первым командиром 3-й роты, генерал Тимановский, полковник Блейш. Пили за Родину, армию, полк, роту и всех ее чинов. Неслось «ура», гремел туш полкового оркестра. Генерал Кутепов поднял тост за командира роты, капитана Большакова, и оба командира, бывший и настоящий, горячо пожимали друг другу руки под несмолкаемое «Ура!». Оба они добровольцы в борьбе за Россию, и их не разъединили их политические убеждения: один был монархист, другой республиканец, социал-революционер. Оба Русские Солдаты, и обоим им суждено отдать свои жизни за Родину – генералу Кутепову через 12 лет, капитану Большакову через два месяца.
Но что такое? Прибывший из штаба дивизии адъютант докладывает что-то генералу Тимановскому, тот генералу Кутепову; затем генерал Тимановский что-то говорит полковнику Блейшу, а последний капитану Большакову.
– Третья рота. Построиться! – приказал капитан Большаков и под марш оркестра и крики «Ура!» увел роту. Рота получила боевое задание.
Так же торжественно справляла свой праздник и 9-я офицерская рота. На обеде присутствовали офицеры 2-го и 3-го батальонов (1-й батальон в бою) и те же почетные гости. Генерал Тимановский говорил об исключительной доблести роты и напомнил о спасении ею положения в бою у станицы Екатериновской 6 июня 1918 года. За обедом играл полковой оркестр. В первый раз он исполнял фанфарный марш, приведший всех в неописуемый восторг. Четыре фанфариста, по два с каждой стороны оркестра, четко ввысь поднимали свои фанфары, с которых свешивались, черного бархата с серебряной оторочкой и кистями, полотнища с серебряными вензелями полка «Г. М.» (генерал Марков). Поразительно красив был оркестр. Великолепна была его игра. Общий восторг вызвало исполнение им попурри из кавказских мелодий, ставших близкими душе и сердцу марковцев за время походов по Кубани. А когда в мотив «Наурской» влились четкие выстрелы, тут уж марковская душа не выдержала: раздались бешеные аплодисменты, крики «Ура!» и пение кубанского гимна:
«Эх, Кубань, ты наша Родина, Вековой наш богатырь…»
На следующий день в здании женской гимназии марковцы устроили бал. Классные комнаты были распределены между ротами, и каждая убирала их по своему вкусу. Национальные флаги, добровольческий нарукавный угол, значки полка, батальонов, рот, вензеля полка «М.» и «Г. М.», изображения орденов и знака 1-го Кубанского похода. На столах были фотографии, снятые в походах, картины, рисунки. Гимназию посетила не только молодежь, но и ее родные. Все с глубоким интересом и расспросами рассматривали все, знакомясь с боевой службой офицерского полка. Молодежь веселилась, танцевала… Давно, с конца 1917 года, местная молодежь не веселилась так беззаботно и искренне, в чем она признавалась и благодарила.
А. Леонтьев98
Марковцы-артиллеристы в боях в Донбассе99
Прибытие наших батарей и полков 1-й пехотной дивизии и наступательные операции в конце января 1919 года
К 15 января передовые части 1-й пехотной дивизии генерала Станкевича начали прибывать в Каменноугольный район и вместе с 3-й пехотной дивизией образовали отряд, переименованный затем во 2-й армейский корпус генерала Май-Маевского. Красные, подтянув свои регулярные части со стороны Харькова через Изюм и со стороны Купянска на Камышеваху, начали продвигаться к линии ст. Никитовка – ст. Дебальцево. Дивизии приказано было остановить наступление противника перед ст. Дебальцево и, перейдя в наступление из района ст. Никитовка – север и северо-восток, выйти на линию Северо-Донецкой железной дороги между ст. Яма и ст. Родаково.
1-й легкий артиллерийский дивизион (полковник Машин100) в составе: генерала Маркова (вр. команд, шт. – капитан Князев101), 2-й (полковника Михайлова102), 3-й (полковника Аепилина103) батарей и отд. конного орудия (полковник Айвазов[1]) сосредоточился в городе Енакиево Екатеринославской губернии между 17 и 19 января.
Стояла зима с морозами, сильными туманами и периодическими оттепелями. Местность сильно пересеченная, с многочисленными глубокими оврагами, полное отсутствие лесов, изредка небольшие рощицы, отдельные деревья и мелкий кустарник по долинам маленьких речонок и в оврагах. Многочисленные железнодорожные линии, подъездные пути с частыми станциями и шахты с вышками и конусообразными холмами угольных отбросов. Среди населения преобладающим элементом были рабочие многочисленных рудников и промышленных предприятий, в большинстве давно уже прекративших всякие работы.
18 января прибывшая 1-м эшелоном генерала Маркова батарея получила приказание погрузить и отправить одно орудие на ст. Дебальцево в распоряжение полковника Жукова (дивизион л. – гв. Атаманского полка и взвод генерала Дроздовского батареи), где противник к вечеру заставил отойти наши части к ст. Хацепетовка. Позднее остальные три орудия генерала Маркова батареи получили приказание погрузиться и следовать на ст. Хацепетовка в распоряжение командира 3-й батареи корниловцев, который должен был сменить атаманцев. Но так как ст. Дебальцево была взята обратно 20 января к 14 часам корниловцами, 1 орудием генерала Маркова батареи и бронепоездом «Ермак», то эшелон с тремя орудиями генерала Маркова батареи проследовал на ст. Дебальцево, где разгрузился, и вся батарея расположилась по квартирам.
3-я батарея, прибывшая в город Енакиево 19-го и ставшая по квартирам 20-го, вновь погрузилась в составе трех орудий (четвертое было оставлено при обозе за отсутствием конского состава) и того же числа прибыла на ст. Никитовка, где поступила в распоряжение начальника войск Никитовского района полковника Сальникова. 21-го эшелон батареи отбыл в направлении на ст. Попасная, но версты за полторы до разъезда Доломит, который обстреливался бронепоездом красных, батарея разгрузилась с высокой насыпи и поступила в распоряжение полковника Булаткина. Его отряд в составе 3-й батареи, 2-й батареи офицерского генерала Маркова полка и 1-го батальона корниловцев, не встречая сильного сопротивления, к ночи занял ст. Роты.
В течение дня 3-я батарея, следуя вдоль железнодорожной линии, по обе стороны ее, вела бои с бронепоездами и обстреливала эшелоны красных, которые подвозили подкрепления. Один эшелон был разбит и принужден был бросить часть своего состава. Красные, не успевшие погрузиться в уходящий эшелон, были брошены и разошлись по окрестным рудникам и деревенькам.
22-го отряд, продолжая наступление, занял ст. Логвинова, деревню Натальевку и, позднее вечером, ст. Попасная, после артиллерийского боя с бронепоездом и легкой батареей красных. На станции небольшой группой корниловцев и артиллеристов 3-й батареи был захвачен готовый к отходу эшелон. Были взяты два орудия образца 1902 года с запряжками, 32 пулемета и около 1000 пленных, главным образом татар из центральных губерний.
Сопротивления не было. После нескольких ружейных выстрелов с нашей стороны красноармейцы начали выпрыгивать из вагонов и сдаваться. Взятые орудия пошли на переформирование и укомплектование 3-й батареи. Утром 23-го батарея имела четыре орудия, пятое за отсутствием личного состава было оставлено при обозе, а шестое находилось в городе Енакиево.
23-го наступление продолжалось, и для усиления артиллерии отряду была придана 3-я отдельная легкая гаубичная батарея полковника Медведева. После незначительного боя, главным образом с бронепоездами, отряд занял ст. и село Камышеваха, а одна рота корниловцев (около 40 штыков, из них 40 % захваченных накануне в плен татар) и одно орудие 3-й батареи вышли на линию Северной Донецкой железной дороги и заняли разъезд 454-й версты.
24 января 1-й взвод 3-й батареи погрузился на ст. Камышеваха вместе со 2-м батальоном офицерского генерала Маркова полка для следования на ст. Бахмут, но был выгружен на ст. Попасная и 25-го с ротой корниловцев двинулся походным порядком вдоль железнодорожной линии на Бахмут с целью ударить во фланг группе красных, сосредоточенной к северу от ст. Бахмут. После тяжелого перехода отряд заночевал на ст. Деконская, утром 26-го занял ст. Соль на железнодорожной линии Бахмут – Яма и, повернув на юг, после небольшого боя взял ст. Ступки и к вечеру вместе с прибывшим 2-м батальоном офицерского генерала Маркова полка вошел в город Бахмут.
Находившийся на правом фланге расположения 1-й пехотный дивизии отряд капитана Федорова в составе генерала Маркова батареи и 3-й батальон Корниловского ударного полка с 20-го активно оборонял Дебальцевский железнодорожный узел. Батарея повзводно занимала позиции в направлении железнодорожных линий Дебальцево – Алмазная и Дебальцево – Родаково, ведя каждодневные бои с противником. Все передвижения пехоты производились в эшелонах, а артиллерии походным порядком, что сильно выматывало конский состав батареи. Имея некоторый опыт ведения борьбы по железнодорожным линиям еще со времени партизанского отряда есаула Чернецова104, шт. – капитан Шперлинг предложил установить два орудия на угольные платформы с обыкновенными паровозами и, быстро передвигаясь, поддерживать действия пехоты.
22 января в связи с действиями отряда полковника Булаткина 1-му орудию генерала Маркова батареи и роте Корниловского ударного полка было приказано занять ст. Алмазная, дабы отрезать бронепоездам красных путь отступления со ст. Попасная, по рудничным линиям, на ст. Родаково. Отдельные роты батальона с 4-м орудием генерала Маркова батареи весь день вели бой с наступающим противником вдоль железнодорожной линии Родаково – Дебальцево и к вечеру заняли ст. Баронская.
23-го утром два орудия закончили установку на платформы и выехали: 3-е орудие на ст. Алмазная, а 2-е на ст. Баронская, 1-е орудие возвратилось походным порядком на ст. Дебальцево. Для облегчения путевых маневров, производимых железнодорожными служащими, временно дали название каждой орудийной платформе: 2-е орудие «Генерал Марков» и 3-е орудие «Полковник Миончинский».
24 января платформа «Полковник Миончинский» имела удачный бой с двумя бронепоездами красных, после которого оба они, получив повреждения, отошли на ст. Мануйловка, но платформа «Генерал Марков» и рота корниловцев, в связи с общей обстановкой, оставили ст. Алмазная и вернулись обратно. В этот же день 2-я батарея с конным орудием погрузилась на ст. Енакиево и через ст. Никитовка, где было выгружено конное орудие, проследовала на ст. Бахмут. Батарея, выгрузившись, присоединилась к 3-м батальону офицерского генерала Маркова полка.
25 января утром отряд выступил на север для занятия станций Ступки и Соль. К вечеру в районе ст. Соль отряд был обойден с обоих флангов и начал отход к ст. Бахмут, где под ружейным огнем противника спешно погрузились в эшелон и отошли на ст. Курдюмовка.
На рассвете 26-го отряд в составе 1-го орудия и 1-й роты занял ст. Часов Яр, но после контратак красных снова вернулся на ст. Курдюмовка, где батарея оставалась в эшелоне до 28-го, когда через ст. Никитовка прибыла на ст. Енакиево, где разгрузились и стали по квартирам в городе.
Конное орудие вместе с 1-й батареей офицерского генерала Маркова полка 24-го было направлено на ст. Попасная и, войдя в подчинение полковника Булаткина, заняло ст. Нырково Сев. Донецкой железной дороги, откуда две роты и орудие 25-го сделали налет на ст. Яма и, взяв пленных, отошли в село Николаевка, расположенное к северу от линии железной дороги. К ночи 25-го весь батальон с орудием собрались на ст. Нырково, где оставались до 26 января.
25 января к полудню красные перешли в наступление вдоль железнодорожной линии Купянск – Камышеваха. Стоял сильный туман.
1-я батарея Корниловского ударного полка и 3-е орудие 3-й батареи занимали позицию по насыпи Сев. Донецкой железной дороги, которая в этом месте проходит почти перпендикулярно над линией Камышеваха – Купянск. Но обойденные с флангов принуждены были спешно отходить. К отходящим цепям подошел паровоз с двумя вагонами для погрузки раненых. Орудие, стрелявшее с линии наших цепей, взялось на задки и начало отходить по полотну железной дороги. В это время красные бросились в атаку; паровоз полным ходом рванул назад, зацепив проходящее орудие, сорвал его со шкворня и отбросил в сторону. Поднять орудие не представлялось никакой возможности, часть лошадей была перебита, остатки орудийной прислуги и ездовых отошли на ст. Камышеваха и дальше на ст. Попасная. При орудии была лишь полурота корниловцев, понесшая большие потери.
Правее оставленные на разъезде 454 версты одно орудие 3-й батареи и рота корниловцев в ночь с 25-го на 26-е были внезапно атакованы в густом тумане противником. Часть роты (главным образом татары, взятые в плен на ст. Попасная) разбежалась, а остатки вместе с артиллеристами, сняв замок с орудия, кружным путем, избегая населенных мест, прибыли на ст. Попасная к полудню 26-го.
В ночь на 26-е находившееся при обозе одно орудие 3-й батареи было пополнено людьми и лошадьми и на рассвете 26-го заняло позицию на участке 1-й батареи Корниловского ударного полка, к северу от ст. Попасная, вдоль железнодорожной линии на ст. Камышеваха. Вследствие глубокого обхода с востока весь отряд оставил после полудня ст. Попасная и, присоединив к себе 1-ю батарею офицерского генерала Маркова полка и конное орудие, отошедшие с боем со ст. Нырково, перешел на ст. Логвиново.
День 27-го прошел спокойно. Лишь только вдали виднелись дымки красных бронепоездов, за которыми наблюдала наша артиллерия с приданной отряду гаубицей.
28 января поздно утром противник большими силами при поддержке нескольких бронепоездов начал наступление на ст. Логвиново, пытаясь охватить наше расположение то своим правым флангом, то левым. Отряд полковника Булаткина в составе орудия 3-й батареи, конного орудия, гаубицы 3-й отд. батареи, 1-го батальона Корниловского ударного полка, 1-го батальона офицерского генерала Маркова полка и подошедшего с боевыми припасами бронепоезда «Генерал Корнилов» блестящими маневрами своего начальника отбрасывал противника с большими для него потерями. Станция несколько раз переходила из рук в руки, красные пытались даже атаковать наш бронепоезд, но были отбиты орудийным и пулеметным огнем последнего. До темноты орудия отряда перебрасывались через полотно железной дороги с одного фланга на другой и из пехотных цепей в упор расстреливали густые цепи противника. Особенно эффектны были разрывы 48″ бомб нашей гаубицы, подбившей еще в начале боя головной бронепоезд красных, который заблокировал железнодорожный путь и не дал возможности остальным принять участие в бою с близкой дистанции.
Полковник Булаткин лично руководил боем с открытой орудийной площадки бронепоезда «Генерал Корнилов», который все время находился на линии наших цепей. Командир 1-го батальона марковцев полковник Блейш, в офицерском пальто мирного времени и белой марковской фуражке, с револьвером в руке, стоял на единственном переезде через железнодорожную линию, находившемся в сфере действительного ружейного огня, по которому происходила переброска с одного фланга на другой; подбадривал замешкавшихся и заставлял быстро опомниться слишком нервных. Силы отряда не превышали 300–350 человек, к концу боя, для усиления отряда, со ст. Роты подвезли снаряды и в двух вагонах батальон бывшей Южной армии, около 100 штыков. С наступлением темноты противник с тяжелыми потерями отошел на ст. Попасная. Вечером отряд полковника Булаткина был сменен частями офицерского генерала Дроздовского полка.
29-го утром орудие 3-й батареи и конное орудие погрузились на ст. Роты и отбыли на ст. Никитовка, где орудие 3-й батареи соединилось с 1-м взводом, который с 27-го оборонял подступы к городу Бахмут, и вся 3-я батарея (4-е орудие прибыло из города Енакиево) через ст. Зацепетовка прибыла на ст. Дебальцево, где 1-й взвод разгрузился и стал по квартирам в поселке Дебальцево, а 2-й взвод остался в эшелоне и совместно со 2-м батальоном корниловцев перешел на ст. Хацепетовка, составив подвижной резерв корпуса.
Сильно развитая железнодорожная сеть Каменноугольного района позволяла делать быстрые переброски резервов к угрожаемым участкам фронта в эшелонах. Вместо долгих переходов, требовавших больших усилий, особенно со стороны слабого конского состава батарей, пребывание в эшелоне являлось отдыхом, и перевезенные часто за ночь за десятки верст батареи или взводы могли сейчас же принять участие в выполнении новых оборонительных или наступательных задач.
Конное орудие проследовало на ст. Енакиево, где было расформировано 1 февраля.
В связи с активными операциями отряда полковника Булаткина правый фланг дивизии, усиленный штабом Корниловского ударного полка и командами конных и пеших разведчиков, 25 января вновь начал наступление на ст. Алмазная, которая и была занята 1-м орудием генерала Маркова батареи и 3-м батальоном Корниловского ударного полка после продолжительного боя с бронепоездами красных.
26, 27 и 28 января противник безуспешно атаковал ст. Алмазная при поддержке бронепоездов, которая в связи с общей обстановкой была оставлена нами в ночь на 29-е, и 29-го, уже окруженный красными, отряд подошел к ст. Дебальцево в критический момент боя, так как противник, заняв ст. Баронская и ст. Депрерадовка, перешел в наступление на ст. Дебальцево-сортировочная. Неожиданное появление в тылу противника отходившего отряда от ст. Алмазная вызвало панику, и красные в беспорядке бежали на северо-восток.
30 января на ст. Дебальцево прибыл бронепоезд «Генерал Корнилов» и установленные на платформы 2-е и 3-е орудия генерала Маркова батареи были разгружены. К этому дню закончились все наступательные операции 1-й пехотной дивизии и началась активная оборона Каменноугольного района.


