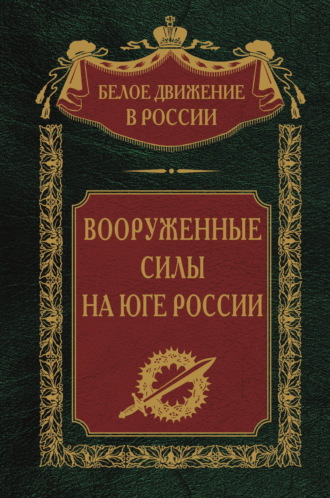
Вооруженные силы на Юге России
Вперед к Москве!
13 мая в 3 часа утра полк поднят. Мгновенно все на ногах, бодры, оживлены; съедают приготовленный горячий обед с «запасом» для поддержания сил на целый день, а то и более.
Полк выступил двумя колоннами с шестью орудиями, но не было ни танков, ни бронеавтомобилей. Красные оказали упорное сопротивление, и только на третий день они были отброшены за большую лощину и на пятый была взята ст. Баронская. Здесь красные провели чрезвычайно сильное контрнаступление, но, благодаря смелым и удачным действиям батарей, были отброшены. На шестой день один из батальонов полка дошел до ст. Алчевская, не встретив сопротивления.
Из штаба передали: красные отходят по всему фронту. Всеобщее ликование. «Где-то сделали свое дело танки и кавалерия». Свою долю в общем успехе марковцы могли лишь измерить 40-верстным продвижением и… потерями в 150 человек – четверть состава полка.
19 мая погрузка в вагоны. «Очевидно, походным порядком не догнать!» – весело шутили в ротах. На Чернухино один батальон и команда разведчиков перед погрузкой выстроены для представления генералу Май-Маевскому. Его, командующего армией, считали заслужившим славу и в обороне Донбасса, и в успехе начавшегося наступления. Генерал говорил слабым, вялым, волнующимся голосом. Воздав должное, он заявил, что с такими частями нельзя не победить врага и что враг уже сломлен и быстро отступает, что он считает себя недостойным командовать такими частями. Говорил, и слезы лились из его глаз. Речь была покрыта громким «Ура!». Марковцы верили искренности генерала, но все ощутили какой-то недостаток, какую-то слабость в нем. Генерал Марков и генерал Врангель не так и не то сказали бы своим бойцам. Они зажгли бы сердца.
20–21 мая эшелоны марковцев минуют Дебальцево, Никитовку, Попасную. На ст. Никитовка на платформе несколько черных гробов, покрытых зеленью и национальными флагами. В них убитые танкисты. У полотна железной дороги два подбитых танка. На Попасной эшелон марковцев перегнал эшелон с корниловцами. Неслось «Ура!» и крики: «Догоняйте красных!»
22 мая полк пересек Северо-Донецкую железную дорогу и высадился на ст. Лоскутовка. В течение четырех дней он, уже с боями, взял Лисичанск, ст. Несветовичи и очистил от красных значительный район на южном берегу Северного Донца. Его задача – подготовиться к переходу на северный берег реки и не дать красным взорвать железнодорожный мост.
Стояла теплая погода. Все в веселом настроении пользуются и теплом, и рекой; купаются и стирают белье, несмотря на риск быть подстреленным. Переговариваются с красными, предлагая им «кончать войну» и переходить на нашу сторону. В ответ днем ругань, а ночью переход к марковцам одиночками и группами, даже с желанием немедленно вступить в их ряды. С радостью удовлетворялось такое желание. Как изменилась обстановка! Армия уже вышла, действительно, на широкую Московскую дорогу. Кругом простор, поля, леса и не ручейки в балках, а широкая река. Появился и «подножный корм» и для лошадей, и для людей. Походные кухни стали привозить густые супы и борщи. И вдруг ночью сильный взрыв на железнодорожном мосту. Недосмотрели посты. К счастью, подорвано лишь полотно, а не самый мост.
27 мая полк, после короткой, но сильной артиллерийской подготовки, в ряде мест перешел неглубокий Донец и стал развивать наступление вдоль железной дороги. За три дня он продвинулся на 30 верст к ст. Хрипково, рассеивая пытавшегося сопротивляться противника, забирая пленных, пулеметы. На ст. Хрипково узнали, что красные подвезли свежие силы.
30 мая. Чудесное солнечное утро. 1-й и 2-й батальоны выступили и вскоре вошли в большой лес, «прочесывая» его редкой цепью. 5–6 верст шли по лесу. Пьянил густой сосновый запах. А в это время на Хрипково прибыл с четырьмя товарными вагонами бронепоезд «Офицер».
«3-й батальон. По вагонам!» В батальоне около 150 человек. «Офицер» сразу же взял полный ход, гремя своей сталью по сосновому лесу. Он обогнал цепи 1-го и 2-го батальонов, когда те выходили из лесу, и продолжал несколько замедленным ходом идти вперед. Из своих вагонов марковцы увидели впереди станцию, село и бронепоезд красных, а затем по обе стороны движущуюся им навстречу густую цепь пехоты. Еще немного, и вокруг их бронепоезда стали рваться снаряды; загремел своими орудиями и «Офицер».
И вдруг скрылось солнце и стало темно. Небо застлала безграничная черная туча, из которой сверкали молнии. Раскаты грома слились с грохотом артиллерийской стрельбы и разрывами снарядов. До станции оставалось с версту; уже затрещали пулеметы «Офицера», когда разразился огромной силы ливень. «Офицер» остановился. Марковцы выскочили из вагонов, рассыпались в цепь по обе стороны пути и устремились вперед. Ливень заливал им глаза. Сквозь пелену дождя только на мгновение показались фигуры красных. Батальон продолжал идти вперед, никого не встречая.
Туча прошла, дождь перестал, засветило снова солнце. Вот ст. Сватово и село Ново-Екатеринославль, но и в них уже не было красных. Через час подошли 1-й и 2-й батальоны.
Поразительный бой. В сущности, «громами и молниями» его провела природа. Бой без потерь. Правда, все вымокли до нитки, но и это неудобство было быстро устранено жарким солнцем. Возбужденное настроение марковцев улеглось не скоро. Здесь им впервые попали в руки прокламации-листовки, разбросанные повсюду и розданные жителям. В них был призыв к населению «дать отпор зарвавшимся белогвардейцам, несущим на своих штыках рабство, нищету, голод», и заканчивались они утверждением о несомненной в ближайшем будущем победе рабоче-крестьянской власти и Красной армии.
Из разговоров с жителями становилось многое ясным. Население радо уходу красных, но не уверено, что они не вернутся. На митингах ему говорили: «Мы, может быть, и отступим, но мы вернемся, и тогда берегитесь». – «Их много, а вас мало», – добавляли собеседники. Ясно, что они боялись не столько возвращения красных, как их угроз. И другое интересовало народ, то, о чем предупреждали красные: не несут ли белые в самом деле рабство? И осторожно задавали вопрос: что даст Белая армия?
На эти сомнения и вопросы ответы находились. «Да. Нас мало, но найдутся и среди вас добровольцы для борьбы с красными, и, кроме того, будет объявлена мобилизация. А рабства мы никакого не несем, а наоборот». Над этим глубоко задумывались. Задумывались и марковцы. Какая огромная сила в этих красных листовках, в пропаганде, в лозунгах. Они прямо не мешают им сражаться с врагами, но косвенно определенно. С населением пришлось лишь обмениваться короткими общими фразами.
Прибыл поезд и привез полку давно ожидаемое английское обмундирование и обувь; все новое и в достаточном количестве. Началась примерка, разборка. Все хорошо, но вот только… ботинки с обмотками… Ботинки, может быть, годны для английских дорог, но никак для своих родных и тем более ходить в них по мокрым от дождя черноземным полям. Те, кто вынуждены были взять эти ботинки с длинными обмотками, скоро убедились ценой потертых ног в полной их непригодности. И стали их называть «танками», «подарком английского короля», предпочитая им свои русские сапоги. Но все же марковцы приоделись и их строй принял более однообразный вид. Возня с полученным заняла немало времени. Теперь у каждого появился багаж, который нужно упаковать и сдать в обоз. Завтра ведь продолжение наступления, а сейчас уже вечер и сделан наряд в охранение.
В роты, помимо всяких распоряжений, передано и предупреждение: красные проводят засылку своих людей в ряды армии под видом «добровольцев» с целями шпионажа, морального разложения и для того, чтобы из рядов самой Добрармии население слышало бы разговоры о слабости и обреченности ее. Приказывалось быть бдительными и принимать добровольцев в роты, даже из пленных, только после серьезной проверки.
И как раз наступившей ночью произошло следующее. Разведчики полка выдвинулись далеко вперед и залегли на опушке леса. И вот они видят приближавшийся тихо поезд, который, не дойдя до леса, остановился и, когда из него выскочили люди, ушел назад. Разведчики притаились, и, только красные цепью вошли в лес, они без выстрела захватили их целиком – 60 человек. «Мы не хотим служить у красных, а хотим воевать против них», – заявили они.
Партию привели в штаб, где опросили каждого в отдельности. Все как один заявляли: они посланы в разведку и, сговорившись, решили сдаться и проситься в ряды белых. Но выяснены были детали: партия сборная и многие совершенно не знали друг друга; она состоит из специально отобранных людей, смелых, с «хорошо подвешенным языком». Они заявляли, что в разведку выступили пешком. Их уличили во лжи. Некоторые признались: попав к белым, в боевых ли частях или запасных и даже став дезертиром, всюду и всегда они обязаны вести агитацию и пропаганду, как они были обучены на особых курсах. Вся партия была расстреляна.
31 мая полк наступал, почти не встречая сопротивления, постепенно удаляясь от железной дороги к западу. Влево тянулись массивы лесов, за которыми в 40 верстах по западной их опушке наступала 3-я дивизия. Вправо от полка наступали другие части 1-й дивизии и Терская казачья. Переход в 30 верст и ночевка в селе Сенькове, где узнали, что терцами и корниловцами занят Купянск.
1 июня полк вышел на линию Купянск – Харьков и остановился в 15 верстах от Купянска в селе Староверовка. В пути от него отделились 7-я и 9-я офицерские роты и направились в город. В направлении на Харьков пошла Марковская инженерная рота, которая дня через два, заняв Чугуев, занялась починкой железнодорожного моста.
7-я и 9-я роты пришли в Купянск вечером и были встречены толпами народа с радостью и цветами. В городе уже не было ни корниловцев, ни терцев, первые продолжали наступать вдоль железной дороги, вторые ушли в обход Харькова с севера.
На следующий день приехал генерал Тимановский и принял от генерала Колосовского дивизию. Радовались марковцы возвращению своего генерала, радовался и сам генерал. «Довольно мне заниматься формированиями без марковцев. Теперь я навсегда останусь с вами. Мы вместе приступим к формированию 2-го и 3-го полков, основным кадром которых будут ваши роты», – говорил он.
С генералом Тимановским приехал и бывший с ним в Одессе полковник Морозов97, ставший начальником гарнизона в Купянске. Им было дано распоряжение о регистрации находящихся в городе и уезде офицеров. Их зарегистрировалось около 100 человек, и через два дня они явились в полной походной форме для зачисления в полк.
Выстроились 7-я и 9-я роты, каждая по 50–60 штыков, и против них строй новых офицеров. Полковник Морозов, обратившись к последним, сказал, что они зачисляются в полк генерала Маркова, но что право называться марковцами они должны заслужить достойной службой. «Вы вольетесь в ряды этих рот и увеличите их силы вдвое», – добавил он. После этого в расступившиеся ряды рот вошли новые бойцы. Громким «Ура!» церемония закончилась. Увеличение числа офицеров в ротах позволило их командирам влить в них некоторое количество пленных.
На обе роты была возложена задача охраны громадных трофеев, захваченных на железнодорожном узле Купянска. Трофеи были самые неожиданные. Наряду с военным имуществом были машины типографские, швейные, сапожные и даже сельскохозяйственные; масса частного добра, включая и крестьянский. Составы осаждались крестьянами и горожанами. «Большевики нас грабили, и мы хотим забрать свое добро», – говорили все.
В Купянске 7-я рота скромно отметила годовщину своего сформирования в Новочеркасске. «Именинниками» была не только рота, но и те 22–23 офицера, которые находились в ней с первого дня. Говорилось на этом торжестве о походах и боях за год. Прочитаны были сведения о движении состава роты. Рота дважды имела 250 офицерских штыков (Новочеркасск и Екатеринодар), но был день в Донбассе, когда в ней оставалось только 7 офицеров. За год через роту прошло около 600 офицеров, 70 кубанских казаков и до 200 солдат. В офицерском составе потери выражались так: убитыми около 120 (20 %), раненными по два раза и более до 300, раненными по разу около 160, пропавшими без вести 5–6. Из раненых 30 офицеров остались полными инвалидами.
Рота потеряла одного командира, полковника Цената, убитым, одного полным инвалидом и 7 ранеными. Только один офицер не был ни разу ранен. Все переболели тифом и испанкой. Около 25 человек ушли в другие части, как и многие из поступивших в роту уже мобилизованными, после ранений и болезней.
Вставанием, крестным знамением и молчанием была почтена память ушедших в мир иной: шефа генерала Маркова, всех марковцев и 120-ти 7-й роты. Новые офицеры теперь знали, ценой каких жертв только одной роты были они освобождены от красного ига.
На Белгород
Заняв Купянск, корниловцы продолжали наступление на Белгород. Влево от них тянулись большие леса, оставшиеся вне контроля; связи вправо с далеко отстоявшим 1-м Конным полком у них не было. И тут и там оставались отряды красных. Для обеспечения корниловцев был послан батальон марковцев, вошедший в отряд генерала Третьякова. 6 июня на ст. Белый Колодезь прибыли и остальные батальоны (без 7-й и 9-й роты), спокойно простоявшие до того в Староверовке.
7 июня отряд взял город Волчанск и продвинулся вперед. Для обеспечения тыла была оставлена 5-я рота марковцев. У командира ее произошел с генералом короткий разговор.
– Сколько штыков в роте?
– 26 штыков. 28 со мной и моим заместителем.
– Отлично! Вы перейдете в Волчанск и обеспечите тыл отряда. Внимание в сторону лесов. Вы будете представлять там всю власть как в городе, так и в уезде. Желаю благополучия!
8 – 9 июня отряд теснил упорно сдерживающего его наступление противника. Марковцы обходом с востока вышли ему в тыл и заняли ст. Разумная.
10 июня наступление на Белгород: корниловцы вдоль железной дороги, марковцы в обход с востока, с задачей перерезать железную дорогу на север. Пришлось с боем переходить болотистое верховье реки Северный Донец. На их глазах несколько поездов успели проехать на север.
К моменту взятия Белгорода на разъезд Крейда прибыли из Купянска 7-я и 9-я роты. Впереди бой. На платформе 5–6 убитых корниловцев. Тревожное ожидание развязки. Наконец эшелон тронулся. По обе стороны дороги густой лес, и он еще краше в эту отличную солнечную погоду. Лишь только лес кончился, как открылся дивный вид: верстах в пяти город с его 25 церквами с золотыми главами. У марковцев вырвалось невольное «Ура!», пошло пение добровольческих песен. Кто-то запел: «Здравствуй, Кремль, всей России сердце. Тяжкий плен окончен твой».
Эшелон переезжал реку Донец. Радостное настроение снова омрачилось при виде сотни трупов, лежавших на берегу. Кто они? Нет, это не корниловцы. По одежде, это крестьяне, торговцы, служащие… Они расстреляны большевиками, как расстреляно было ими 40 жителей Волчанска. За что? Зачем? Впрочем, давно уже жестокий враг показал, что он считает своими врагами не только борющихся против него с оружием в руках, но и мирных жителей, осмелившихся порицать его деяния.
Эшелон остановился у вокзала. Сотни народа громкими криками приветствовали прибывших, несмотря на то что на окраине города еще шла стрельба.
Корниловцы преследовали красных, а марковцы тесно расположились в районе вокзала, выслав разъезды и выставив охранение с батареей в сторону Харькова, который еще не был занят частями 3-й дивизии. Полк, кроме 5-й роты, был в сборе. За период наступления из Донбасса он потерял едва 300 человек.
Пятая рота в Волчанске
28 штыков. Впрочем, еще сестра милосердия, вестовой командира роты, два санитара и вытребованные из обоза три хозяйственных чина. Задание – обеспечение тыла и, как сказал генерал Третьяков: «Вы вся власть в городе и уезде». Задача понятна, но «вся власть»?.. Раз это было сказано, следовательно, требуется расшифровать эти слова, вложить в них содержание и осуществить. Ночью над этим вопросом бились командир роты и его заместитель.
Но прежде всего решение боевого задания наличным составом роты. Город небольшой; вокзал от него в версте; с севера к нему вплотную подходит лес, а на западе, верстах в пяти, видна темная полоса огромного леса. Что в городе? Что в лесах? Да и состав роты очень молодой, верный, но в военном отношении неопытный: 4 офицера Великой войны, 10 из юнкеров и кадетов, произведенных в течение Гражданской войны, остальные юнцы учащиеся. Тревожно.
5-я рота в полку со времен 1-го Кубанского похода, уже по традиции самая молодая рота; и теперь она в полку самая малочисленная, но поразительно сплоченная боевая семья. В юношах горел пламень любви к Родине. Душой роты была ее сестра милосердия, прошедшая с ней все походы, Ксения Францевна Кочан-Пустынникова, народная учительница из станицы Ст. – Леушковской Кубанской области. «Мальчики», как она называла юношей, ее боготворили. Она оказывала исключительно благотворное влияние на них. Имела две Георгиевские медали и была два раза ранена.
Рота расположилась в женской гимназии. Ночью выслала дозоры. А утром здание оказалось окруженным горожанами, пришедшими ее приветствовать, выразить радость освобождению. Горожан поразила молодость чинов роты, а «мальчики» уже тормошили городскую молодежь, передавая ей пыл собственной души… Тут же и сестра Ксения, она знала, что говорить юношам и взрослым.
Днем в нескольких местах города было вывешено рукописное распоряжение, подписанное: «1-го Офиц. ген. Маркова полка кап. Павлов». В нем говорилось:
1. Жители города и уезда призываются к мирной жизни и труду;
2. К сдаче оружия и заявлению о местах нахождения как оружия, так и военного имущества, оставленного большевиками;
3. О регистрации офицеров города и уезда для зачисления их на службу в 1-й офицерский генерала Маркова полк;
4. О предложении поступать на службу в Добрармию для борьбы с большевиками.
На следующий день результаты распоряжения превзошли все ожидания. У штаба роты толпился народ, приносилось и привозилось оружие, даже привезена была походная кухня, которой у роты не было, сгружались подарки населения – картофель, хлеб, сало, масло… даже сено для лошадей; записывалось, где что было оставлено красными, записывались жалобы одних жителей на других; шла регистрация офицеров, которым говорилось в двухдневный срок явиться в роту. Сбились с ног и устали все.
Каждый день вывешивались новые распоряжения касательно всех возникавших вопросов, ничего общего не имеющих с задачей роты даже военно-административной, но глубоко связанных с гражданско-административными, как раз областью «всей власти в городе и уезде». Это не смущало, ведь таковое требование жизни, откладывать решение которого великое упущение.
Забот и дел оказалась такая масса, что решено было провести распределение их. Командир роты оставил за собою ведение гражданских дел – «власть в городе и уезде». Своему помощнику он передал командование ротой, которую предстояло сколачивать и обучать. Фельдфебелю роты было поручено дело снабжения «гарнизона» вооружением, снаряжением, продовольствием и вообще всем необходимым.
Сестре Ксении поручена была новая и необычайная роль: ввиду ее успехов в разговорах с жителями на тему о Добрармии, ее целях и задачах, ввиду ее действительно мудрых советов ротной молодежи, она назначалась «пропагандистом» Белой армии для «обрабатывания» местной молодежи, хотя это слово тогда не произносилось.
На третий день в роту стали поступать офицеры. На шестой день в роте уже числилось до 150 человек, и среди них юноши добровольцы и даже добровольцы солдаты. На восьмой день в ней стало до 180 человек. Организация ее приняла такую форму: 1-й взвод офицерский 40 штыков, 2-й Добровольческий, сплошь из юной молодежи с офицерами на отделениях 50 штыков, 3-й и 4-й взводы солдатские, по 40 штыков в каждом.
Совещание в «штабе». Вопрос: считать ли поступивших в роту «прикомандированными» без права ношения формы полка или сразу же считать их марковцами? Решено не следовать примеру, поданному в Купянске офицерам, надеть марковские погоны. Другой вопрос о добровольцах солдатах. Доверять ли им, составлявшим половину роты? Решение: так как все они служили в старой армии, все знали друг друга и почти всех их знали местные офицеры и так как все они при поступлении мотивом своего решения выставляли то, что большевики принесли с собой насилие и несправедливость, а «белая власть», на поданных уже примерах, несет свободу и справедливость, то решено и к солдатскому пополнению отнестись с полным доверием.
Работа в гарнизоне кипела, и ее объем все нарастал. «Штаб» хронически недосыпал. С нарядами стало легче. Со взводом «мальчиков» велись занятия. Рота была оставлена без копейки денег, но помогали крестьяне своими добровольными приношениями; мясники, бившие оставленных красными волов на мясо для роты, булочники, типография, взявшаяся печатать распоряжения и т. д., согласились получать за все лишь расписки. Производились обыски, аресты, дознания; просмотр документов, оставленных в красных учреждениях. Обстоятельства принудили и к учреждению военно-полевого суда, который разбирал дела и вынес четыре смертных приговора скрывавшемуся комиссару, случайно опознанному чекисту и к тому же бывшему офицеру, и двум бандитам, отцу и сыну.
Общественное мнение города было злобно настроено против двух женщин – пожилой и молодой девушки, которые ходили вооруженными и производили аресты. Они были арестованы, но дознание показало их непричастность к расстрелам, и обе были освобождены. Однажды встретили эту девушку.
– Здравствуйте. Успокоились? – спросили ее.
– Какая я большевичка? Дура я. Простите меня, – говорила она, плача навзрыд. Она раскаивалась в своих поступках.
На фоне всего отрадного был и неприятный случай. На улице командир роты встречает офицера со значком студенческой школы прапорщиков в сопровождении дамы. Этого офицера он в роте не видел.
– Вы зарегистрировались?
– Нет. Я счел возможным не регистрироваться, так как это связано с обязательством зачисления в стоящую здесь роту. Я жду приказа о мобилизации, исходящего от верховной власти, – был твердый ответ.
– В таком случае на каком основании вы в офицерской форме? Потрудитесь сегодня же явиться в роту.
Приказание было исполнено. Поразительный пример «сознательности».
В городе за время стоянки роты произошли два события. Одно печальное. Город хоронил 40 человек горожан, уведенных красными и расстрелянных ими. Взвод юных «волчан» отдал им воинские почести. И второе: был устроен бал, на котором присутствовал приезжавший генерал Тимановский.
Устроить бал просила волчанская молодежь роты. Командир роты не соглашался, ведь в городе должен быть траур. И только выслушав почтенных граждан, сказавших: «Наша радость, что вы освободили нас, побеждает наше горе», согласился. К приходу генерала Тимановского чины роты выстроились по обе стороны лестницы женской гимназии. Городской оркестр играл Преображенский марш. Молодежь и люди старших возрастов приветствовали генерала, поднесли ему цветы, некоторые целовали ему руку. Закусив и сказав несколько слов роте и гостям, он уехал на станцию.
На 11-й день, 18 июня, 5-я рота получила приказание срочно выехать на присоединение к батальону, находившемуся в боях у ст. Солнцево. Имея 180 штыков вместо 28, ставшая самой большой в полку и по составу исключительной, она уезжала с полным сознанием сделанного ею достойного и важного дела в освобожденном городе, дела нужного для Добрармии, для борьбы. Ее провожал чуть ли не весь город. Играл оркестр.


