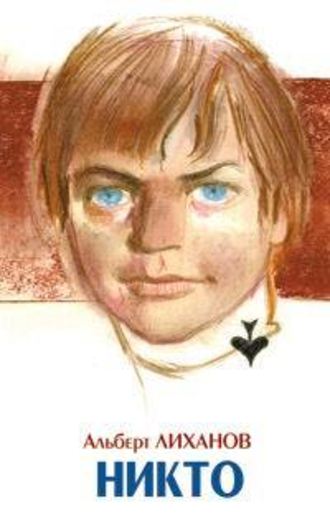
Альберт Лиханов
Никто
13
В тот вечер они двигались стандартным рейсом, негромко звучала музыка, два итальянских деятеля садились и выходили, как заведено, в определенных точках, «адидасовская» сума плавно наполнялась конвертами и газетными свертками, совершенно не привлекая внимания Кольчи, и он, когда амбалы выходили, бездумно замирал.
Бывает такое положение: человек смотрит в одну точку, замирает, дыхание становится реже – будто спит, бодрствуя.
Может, поэтому Топорик чего-то важное пропустил, а всполошился запоздало.
Пропущенное же зафиксировалось в нем, как два хлопка шампанского или два удара палкой по пыльному матрацу. Он подтянулся, пересел поудобнее, как полагалось по правилам, двигатель был включен, не вырубался, и Топорик чуть прибавил холостых оборотов.
Потом боковым зрением он увидел, что Андрей тащит Антона. Антон передвигал ногами, но очень вяло, и Кольча повернулся к ним, ему показалось, будто на улице слишком темно, хотя стояла середина марта и сумерки наступали поздно.
Первое желание Топорика было выскочить и помочь, но он вспомнил инструкции и лишь обернулся, помогая открыть навстречу мужикам правую заднюю дверь. Андрей распахнул ее, задыхаясь и подвывая, как будто поскуливая, стал запихивать Антона, но не зря Кольча называл их амбалами. Антон был тяжелым и широким, и его напарник впихивал его в «Мерседес» по частям: сначала тело, потом ноги. Задвинув напарника, уложив его на заднее сиденье, Андрей сел к Кольче. Движок уже нетерпеливо подвывал и скорость была включена, оставалось только передвинуть педали. Кольча исполнил эти движения образцово. «Мерседес» сделал длинный силовой прыжок, как лягушка, и полетел по рыжему весеннему снегу, взрыхляя его шинами.
Андрей с трудом переводил дыхание. «Адидасовской» сумки при нем не было, и на немой вопрос Кольчи он ответил:
– Это война!
Они летели по темнеющим улицам, и сзади хрипел Антон.
– Это война, – повторил Андрей, – сразу не стреляют.
Кольча знал и без него, если группировки не сходятся во мнении, бывают стрелки: парламентеры встречаются, чтобы договориться миром. А стрелять начинают, когда не договорятся. В разделенном мире есть свой порядок, не надо думать, что им правят дикари. Если же стреляют без предупреждения, дело плохо, потому что это не спор. Это другое.
Все дальнейшее произошло быстро, нестрашно, как бы само собой…
Хрип за спиной утих, Андрей велел Кольче остановиться, тот аккуратно, чтобы не занесло, затормозил: слава Богу, шипованная резина. Андрюха выскочил наружу, открыл заднюю дверцу, припал к Антону, матюгнулся, вернулся назад. Опять матюгнулся.
– Что? – спросил Кольча.
– Все! – ответил Андрей.
Он извлек из внутреннего кармана мобильный телефон, набрал номер, с первого же раза отыскал хозяина.
– Антона нет, – доложил он.
Тот, похоже, спросил, где случилось происшествие. Андрей сказал:
– Автосалон.
Спросил:
– Куда везти?
Получив указания, ответил, как на войне:
– Конец связи.
Захлопнул крышку, мгновение помолчал, потом сказал:
– Остановишься у кинотеатра. Выйдешь из машины. Поедешь домой.
Топорик вернулся в квартиру с подушечками. Долго мыл руки с мылом, будто от чего-то отмывался.
Часа в три ночи Кольча проснулся от того, что кто-то смотрел на него. От взгляда.
Он вскочил, холодея, но тихий голос Валентина произнес в темноте:
– Свет не включай. Машина стоит в училище. Она отмыта от крови, но ты купишь в каком-нибудь автосалоне моющие средства и как следует отдраишь кожу и ковры. Никуда не ходи и не езди, пока я не разрешу сам. Лично.
Он курил, и в темноте светилась толстая оранжевая точка.
Валентин то ли всхлипнул, то ли рассмеялся.
– Когда я был маленький, – сказал он, – отец в темноте рисовал мне сигаретой картинки, а потом обучал азбуке. Вот ты можешь? Прочитать?
И он стал писать в воздухе оранжевые буквы.
Кольча улыбнулся в темноте, он и не знал, что можно переговариваться молча с помощью огонька сигареты.
Валентин рисовал буквы, а Топорик читал.
И вот что у него получилось:
«К-в-а-р-т-и-р-а – т-в-о-я».
Часть третья. Пустые хлопоты
1
Он никогда не был в командировках, но ему казалось, будто вернулся из такой вот поездки по делам. То, что отодвинулось, выпало из жизни, потому что он занят другим, находясь в ином месте, возвращалось назад, вновь становилось важным. Училищные мастерские, Васильич и Иваныч, спорщики и учителя, оба Петька, шелкопряд Серега, мягко извивающийся, как и в самом деле какая-то гусеница, – все это вернулось на свои места, удивительным образом вновь заполнив пространство жизни и отодвинув за кулисы то и тех, кто заслонял горизонт неделю назад.
О том, что было прежде, напоминал лишь отмытый и надраенный «мерин», стоящий в углу, да ключи от него, тяжелящие карман. Все другое, и впрямь ровно какой-то мелькнувший морок, спряталось в тень, исчезло, пропало.
Валентин не появлялся, амбалы не возникали. Никаких разговоров про убийство до Кольчи не доходило. Пару раз он даже заночевал в общаге, и – ничего, никаких последствий: ни хороших, ни дурных.
Квартира с подушечками по-прежнему не влекла его, хотя и не страшила. А думать о ней, как о своей, просто не получалось: для этого требовались еще какие-то – и неизвестно, чьи – усилия. Да требовались ли? Кольча мало чего понимал пока, но всерьез про квартиру не верил. Это его как бы и не касалось. Но раз так надо хозяину – пусть.
Интернатовская анестезия – так называется нечувствительность к боли, достигаемая уколами, таблетками или даже вдыханием специального газа во время операций, – действовала безотказно. Кольча ловил себя на повторяющейся мысли, что смерть Антона его совершенно не напугала. А ведь это была не просто смерть – убийство. И раскинь мозгами, любому станет не по себе. Во-первых, какое-то странное нападение, во-вторых, могли уложить и Андрюху, а в-третьих, убить всех троих, включая Топорика.
Но Кольча каким-то образом не углублялся в предположения. Второе и третье, конечно, приходило в голову, но не страшило, вот в чем дело. И даже, честно сказать, не очень-то волновался он, когда гнал «Мерседес» с хрипящим Антоном. Да и хрип этот его не перепугал, потому что все вокруг было почему-то очень обыкновенным.
Небо не озарялось красным цветом ужаса, движок машины не сотрясался от напряжения, руки Топорика не дрожали от неуверенности.
Все было именно обыкновенно, обычно, просто. Может быть, этому помог еще и Андрей, выпустивший Кольчу из машины, и он многого так и не увидел? В общем, он не испугался.
Этому, наверное, помогало спокойствие окружающих. Жизнь вокруг продолжалась обычным ходом, в котором Топорик опять разглядел мелочи, как бы отодвинутые на задний план.
Среди этих мелочей были приятные. В группе Кольча снова выделялся среди других, однако теперь его побаивались, а не просто сторонились. Топорик замечал это и раньше, но, занятый работой, как-то не очень обратил внимание на перемену отношения. Теперь эта перемена была устойчивой, основательной, и даже щука по имени Серега тщательно обходила стороной ерша Топорова, опасного острыми плавниками. Зато тиранила карасей, среди которых тут же оказались оба Петьки.
Кольча как-то пропустил эти изменения. Конечно, причина тому была уважительная, он же почти не ночевал в общаге, а когда, нарушив волю хозяина, переночевал и раз, и другой, понял, что Петька-широкий и Петька-узкий ходят у Сереги в самых настоящих шестерках. Непривыкший возмущаться явно, он промолчал поначалу и в этот раз, сперва решив обойти острый угол: Петьки ему не были любы своим крестьянским жлобством.
Но Дубина Серега издевался над ними слишком откровенно. Вечером они накрывали ему стол – тот требовал еще и пивка. Власть над Кольчей ускользнула от него, и он полонил Петек.
Заночевав в общаге первый раз после убийства Антона, Топорик просто отфиксировал новые правила их комнаты. Во второй раз, опять промолчав, он возмутился в душе, а наутро, в какую-то из перемен, подошел к Петрухам, курившим на лестнице. Встретили они его приближение понурыми, потухшими взглядами, и Кольча вспомнил себя – совсем недавнего, когда Серега издевался над ним, но помощи от Петек, к примеру, он так и не дождался. Наоборот, дождался их ухмылок, их раболепства перед сильным. Теперь авторитет сменился. Им стал худой Кольча, а могутный Серега заискивал перед ним. И, ясное дело, Топорик, за спиной у которого здоровые мужики в кожаных одеждах, может припомнить недобрые подначки.
Кольча покурил с парнями, а потом предложил им сыграть в старинную интернатскую игру. Они лыбились, слушая, но боялись. Сейчас Кольча здесь, а завтра его не будет, и они останутся один на один с Дубиной. Да еще в одной комнате. Но Кольче невмоготу просто стало: хотелось свалить Серегу с хлипкого пьедестала, который он сам себе и воздвиг, надеясь только на слабость других. Ведь это первый признак трусости. Впрочем, трусость и так перла из него, не таясь.
На следующем перерыве тощий Петька все же рискнул, зашел Сереге за спину, пока Кольча разговаривал с ним о какой-то ерунде. Присел. Требовалось слабенькое усилие, чтобы толкнуть бревно в грудь. Топорик сделал это, и парень перевернулся. Он тут же вскочил, разъяренный, и полетел на Топорика. Забыл и про трусость. Кольча присел, спружинил ногами, бревно приподнялось, падая снова, и с грохотом долбанулось на пол.
Не узнавая себя, Кольча сел ему на загривок, приподнял обеими руками голову за подбородок и спросил равнодушно:
– Ты знаешь, где основание черепа?
Тот мычал и колотился всем телом, но сбросить Кольчу не мог. Топорик наклонился к нему поближе и сказал:
– Одно несильное движение вбок, и тебя нет.
Серега промямлил:
– Отпусти! Отпусти!
В словах звучал страх.
Кольча встал с его шеи, отошел в сторону. Их окружила вся группа, и Топорик увидел испуганные глаза. Пай-мальчиков здесь не было, они на слесарей не учатся, но и эти смотрели сейчас без одобрения и радости – видать, у Топорика вышло все слишком уж всерьез. Что и требовалось.
Серега в тот же день перебрался в другую комнату общаги и там вел себя, по сведениям, поступавшим от обоих Петек, тишайшим образом.
Но Кольча чувствовал себя отвратно. Казалось бы, интернатским извинительно все, но такое случилось с ним впервой. Никогда никого не притеснял он так всерьез, как этого Серегу. Может, независимо от самого, вылилась в это показательное нападение обида за унижение, которому его самого подвергал Серега? Может быть. Все извинительные оправдания были разложены по полочкам в голове Топорика, а на душе была тоска. Ведь давно переменились их отношения, страх и трусость давили Серегу, а у Топорика собственной силы не прибавилось, ведь боялись не его, а взрослых мужиков за спиной. Выходит, Кольча употребил во зло страх, вызываемый другими…
Оба Петра – широкий и узкий – просто унижались теперь перед ним, приглашали на ужин, обещали, что купят и пиво, и водку, и чем больше они заискивали, тем тошнее Кольче становился он сам, тем больше жалел он трусливого Серегу.
Среди своих бесчувствований неожиданно он услышал неправду.
Неправда эта получалась стыдной.
Было бы справедливо, если он стал вдруг виноват перед хорошим человеком, а Серегу хорошим признать было нельзя. И вот он стыдился, что наказал дурня и дубину.
Смутно у Кольчи на душе, смутно в голове. Все-таки он еще не привык к уравнениям, где все неправда и дрянь…
2
Валентайн вернулся в жизнь Топорика недели через полторы совершенно странным образом. После занятий в мастерской, слегка отмывшись, Кольча отправился в квартиру с подушечками и застал дверь приоткрытой, мебель переставленной, а подушечки сваленными в угол. Хозяйничала тут, к удивлению, парикмахерша Зинаида. Одетая в длинный домашний халат, она протирала мелкие предметы на туалетном столике, переговариваясь с двумя мужиками неопределенного возраста. Те переделывали пол в том месте, где раньше стояла кровать, и Кольча сразу понял, в чем дело. Хотя блестящих чемоданов не было, мастера делали в полу углубления для них, отбили целые кучи бетона, а сверху все это должно было прикрываться плахами с наколоченным на них паркетом.
Все при этом делали вид, будто им нет дела до смысла работы, переговаривались о ерунде, Зинаида, увидев Кольчу, ничуть не удивилась, а заставила его таскать ведрами в мусорный бак, стоявший во дворе, строительные отходы.
Мастера работу уже заканчивали, прилаживали плахи в пол, подстругивали низ, чтобы паркет ложился заподлицо, без выступов, а закончив, помогли Топорику таскать ведра. Работа пошла ходче, но парикмахерша не торопилась, ждала, когда дело закончат, потом щедро рассчиталась с мужиками, похоже, так щедро, что они выкатились задами, кланяясь Зинаиде и без конца называя ее хозяйкой.
Она и вела себя как хозяйка, велела вернуть на место кровать, указывала, на сколько и куда ее подвигать, уверенно взбивала подушки и подушечки. Вообще чувствовала себя словно дома. Кольча подумал, что, наверное, хозяин купил эту квартиру у нее. Впрочем, никаких доказательств не было, кроме уверенного поведения парикмахерши.
Так же уверенно она открыла шкаф, стоящий у окна, куда Топорик даже не заглядывал, достала оттуда чистое полотенце, трусы, майку, снесла все это в ванную и пустила воду, кивнув Кольче с улыбкой:
– Давай отмывайся.
Он зашел в ванную и увидел, что вода голубая и пенистая. Хотел поначалу спросить Зинаиду, чего она тут намешала, но постеснялся: все-таки парикмахерша должна знать толк.
Кольча разделся, залез в воду, опустился в нее, ощутив резкий душистый запах. Вода ходила, переливалась, он опустился по самое горло и вспомнил, как Валентайн привел его подстригаться к Зинаиде, и та навела настоящий марафет, сделала классный пробор, закрепила его лаком, а у самой под халатом просвечивали соски.
Топорик прикрыл глаза и неожиданно улыбнулся-то ли от приятного, ласкающего запаха душистой и пенистой воды, от тепла, проникающего во все частицы тела, то ли от давнего видения, взволновавшего его, может быть, больше, чем убийство Антона.
Топорик подумал про амбала. Как-то не по-людски получалось. Человека убили, а Кольчу будто отодвинули от всего. Он даже не знал, где его похоронили и кто был на похоронах. А что вообще он знал про Антона, которого хозяин звал Антониони, по имени какого-то итальянского режиссера? Ровным счетом ничего. Амбал и амбал. Как все остальные. У каждого из них что-то есть, какая-то другая жизнь – без кожаных пиджаков. Наверное, есть и родители, а у кого-то жены и дети, Валентин об этом упоминал. Но Топорик никогда не встречал ни этих жен, ни детей, будто их и не существовало, будто разговоры про них – мельком, неохотные упоминания – касались чего-то ненастоящего, каких-то воспоминаний. Антон же вообще никого не припоминал. Неслышно появлялся, незаметно исчезал. Говорил очень мало, пожалуй, ни одной связной фразы, ни одного длинного предложения. А умер так, точно исчез куда-то по делу и должен вот-вот появиться снова.
Кольча набрал побольше воздуха, ушел под воду с головой, вытерпел, сколько смог, поднялся над водой. Подумал, что ведь и сам такой же. Ничего не знал про Антона, а что Антон знал про него? Что знали еще про него, Топорика, остальные амбалы? Интернатовский? Песни поет? Машину водить научился, хотя еще малолетка? Выделяет его Валентин?
Его будто ударило: а может, потому и выделяет, что он Никто. Пусть даже в этом слове запрятано начало его имени и фамилии, на самом-то деле он и правда никто. Как тот же Антон. Исчез, умер, его схоронили, и все.
Все ли? Про Антона ему неизвестно – может, все-таки у него есть кто-то близкий, а он, Топорик? Выпади ему Антонова доля, кто его станет искать? Интернат? Так он же ушел из него. Училище? Директор – ни рыба ни мясо. Учителя – Васильич и Иваныч? Ну, напишут какое-нибудь заявление в милицию, и все. Кто искать станет? Настаивать, плакать, куда-нибудь жаловаться?
Топорик сидел в голубой душистой воде, прикрытой стеклянной пеной, тело его было расслаблено, разогрето, но что-то другое, непонятное, бросало в жар. Он напрягся, сидел точно окостеневший, докопавшись до горькой истины.
Зинаида вошла без стука, неслышно, впрочем, может быть, все это Кольча пропустил, подавленный своей догадкой. Он увидел ее руки, держащие губку, дернулся, но вскакивать было глупо, он промычал, возражая, но парикмахерша уже терла ему лопатки, сильной рукой наклоняя шею к самой воде.
– Не боись, – приговаривала она, прихохатывая, – кончилась худая жись!
Потом намылила ему голову – ловкими, парикмахерскими какими-то движениями, заметила, что он давно к ней не заходил, не подстригался, а если, мол, уж признаешь фасон, его надо выдерживать не от случая к случаю, а постоянно.
Зинаида отвернулась к умывальнику, до локтя обмывая свои руки, обернулась к Кольче:
– Да не бойся – ты же весь в пене.
Она исчезла, и только тогда Топорик выдохнул, расслабился, помотал головой. Потер вяло губкой грудь, встал, ополоснулся.
Долго не решался выйти из ванной – как он на нее посмотрит, что скажет? А может, она уже ушла – это было бы лучше всего. Вообще присутствие парикмахерши казалось непонятным. Что уж, Валентин, мужика нанять не мог, чтобы организовать эти работы? Ему поручить?
Видать, не мог. С этой, не самой крутой, мыслью Кольча разгреб волосы перед зеркалом и вышел в коридорчик. В комнате горел приглушенный свет, а на кухне сиял вовсю, и он двинулся туда.
Зинаида была все в том же халате, длиннополом, прикрывавшем ноги, но причесанная, принакрашенная. Она сидела у стенки за небольшим, ярко-красного цвета столом с тарелками и тарелочками, наполненными разной снедью. Дрожали, искрились две наполненные белым рюмки.
– Перекусим? – спросила парикмахерша, поднимая рюмку.
Кольча ухватился за идею, спасаясь от этой ванны, от того, что она мылила ему спину и голову, без всяких, конечно, просьб и разрешений – едва чокнулся и глотнул.
Лишь прикасаясь к еде, они выпили по второй и третьей. Только тут, как показалось Кольче, что-то в нем стало притормаживать, останавливаться. Он внимательно поглядел на парикмахершу и установил, что она не глядит на него, смотрит в тарелку, зато под халатом у нее опять ничего нет, а отворачивается она нарочно, чтобы он, не смущаясь, мог рассмотреть ее повнимательнее.
Волосы белые, чистые, как и кожа, и вообще она производила впечатление опрятного, следящего за собой существа, а грудь, слегка обнаженная, натягивающая халат, и вовсе бела. Кольча заполыхал откуда-то изнутри, хотел о чем-нибудь заговорить, но ничего у него не получилось, только вырвалась хриплая убогость:
– Еще по рюмочке?
– Не свалишься? – покровительственно, очень уверенным, знающим голосом спросила Зинаида, по-прежнему не поднимая на него взгляда.
– Не-а! – храбро ответил Топорик, чувствуя, что на самом-то деле красный стол с тарелочками, буфет, газовая плита, да и сама дебелая Зинаида начинают какое-то плавное кружение.
Они выпили, Кольча взял кружок мягкой колбасы, начал ее обкусывать, потщательнее разглядывая парикмахершу.
Была она старуха для него-то, для его пятнадцати лет! Лет на двадцать старше, наверное. А может, на двадцать пять. Но все ее было при ней. А он не знал, что ему делать, как себя вести.
Парикмахерша оторвала взгляд от стола, поглядела на Кольчу. Она не смотрела, а рассматривала его, чему-то слегка усмехаясь. И ему делалось жарко от этого взгляда. Он будто погружался в какую-то сладкую тьму.
– Ну что, – спросила парикмахерша уверенно-спокойным голосом. – Ты хоть пробовал? Девочек-то?
Кольча опять полыхнул внутренним жаром. Набирался духу, раздумывая, как должен ответить на такое. Наконец, выбрал правду. Мотнул головой.
– Оно и видно, – констатировала Зинаида. Все же не отрывала своих темных глаз от Топорика. Будто о чем-то думала. Произнесла:
– Все мальчики лишают невинности девочек. А давай-ка невинности лишу тебя я.
И засмеялась. Потом медленно встала с табуретки, взяла Кольчу за руку и повела его в комнату. Кровать с подушечками была разобрана, Зинаида подвела Кольчу к ней и дернула поясок своего халата.
Комната и без того кружилась в его глазах, а тут завертелась еще быстрее.
3
Валентин объявился вечером следующего дня.
Когда утром Кольча проснулся, он оказался один, хотя не было еще и пяти. Обошел квартиру, но никаких признаков, что здесь присутствовала женщина, не обнаружил. Никакого халата, тюбика губной помады или хотя бы тонкой резинки, которой затягивают волосы. Будто парикмахерша Зинаида привиделась ему. Серый день тянулся медленно и скучно, Кольчу всю дорогу клонило в сон, и после занятий он не пошел в мастерскую, а отправился домой. Прибрался как мог и улегся полежать.
Проснулся он под вечер, от включенного света, опять над ним стоял Валентин. Вновь разглядывал его. Когда Топорик встрепенулся, улыбнулся, махнул рукой:
– Давай, давай, – ухмыльнулся, – набирайся сил.
Потом сделал паузу и спросил:
– Какой подарочек я тебе подкинул! А?
– Какой? – спросил, вставая, Топорик.
– Ну ты даешь! Не понял, что ли, цуцик? Да Зинаиду! Надо же тебе когда-нибудь разговеться?
Кольча опять почувствовал жар, который разливается изнутри.
– Да не красней ты, тоже мне! – засмеялся Валентин. – А подарок запомни. Глядь, и меня не забудешь.
Он больше не разглядывал Кольчу, повернулся, взял стоящие у порога металлические чемоданы, было видно, что они тяжелы, пронес в комнату. Потом откатил железную, с подушечками, кровать. Топорик помогал ему снимать крышки с тайника, вкладывать туда серебристые чемоданы. Когда пол выровняли снова, Валентин взглядом велел сесть на диван. Сам устроился в кресле напротив. Дал закурить «Пэл Мэлл», затянулся сам.
– Ну вот, теперь, – сказал, – за груз ты уже отвечаешь. Завтра сделаем новые замки. Ключей всего два. Один у тебя. Носи его на шее. Вот на этом. – И он протянул Кольче плотную металлическую цепочку.
Помолчали, Топорик опять ничего не спросил, зная, если что надо, хозяин растолкует.
– Ну ладно, раз ты такой нелюбопытный – слушай!
Валентин был без фиксы, смотрел внимательно, немного грустно.
– Правило первое – не старайся все узнать. По-настоящему все знаю я один, поэтому мне тяжелее других. Когда чего-то не знаешь, это неизвестное ничем не выбьешь, понял?
Кольча кивнул. Жар с него схлынул, но он был подавлен словами Валентина про подарок. Женщина может быть преподнесена в подарок. Для употребления. На время. Вот это да…
Они в интернате немало всякой грязи всосали – маленькие пылесосы. И выражаться умели, как отпетые алкаши. И прошлая, детская жизнь обучила многих не ахать и не охать при самом что ни на есть человеческом злодействе – сами они были детьми зла. Но про такое – подарить женщину – Топорик не слыхивал.
А Валентин и не сомневался, что вгонит пацана в шок своим признанием. Вглядывался в него волчьим взглядом, усматривал слабину, высчитывал, куда надо погнать волчонка. Нет, не зайчишку, которого гонят играючи, чтобы, запугав вконец, одним легким жимом челюсти придушить, подкинуть, уже дохлого, разок-другой вверх, взгоняя еще текущую, но останавливающуюся кровь, и рвануть на куски, а волчонка – своего детеныша, может, воспитанника, словом, существа общей стаи, которое должно робеть перед старшим, но быть отважным в делах с тварями иной породы, знать опасность и обходить ее без всяких знаков и звуков, идти вторым, третьим, вслед за матерым, за опытным и старшим, запоминая ухватки стаи, ее нравы и законы.
Валентин, как умелый и сильный зверь, с любовью, успокоением, даже нежностью глядел на своего молодого выкормыша, который был сбит с толку, а это самое подходящее состояние, чтобы пройти с ходу несколько сложных препятствий. продвинуться вперед в непростом образовании, потому что когда молодой сбит с толку и думает о другом, ему легче дается новый риск, новая опасность, которые он будет одолевать, не думая о них.
– Варианты таковы, – медленно, будто вбивая колун в податливое, но все-таки твердое дерево, говорил Валентин. – Первый. Нас растопчут. Повторяю, я тебе это говорил – ты будешь последний, о ком вспомнят. Появится небольшой, но люфт. За это время достанешь тачку и чемоданы перепрячешь. Второй. Бунт на корабле. Маловероятно, но я займусь всем сам. Самый хреновый – меня устранят неожиданно. Тогда все переходит тебе. Дело в том, чтобы грамотно смотаться. А потом провести разборку и заплатить за найм киллеров. Это непросто. Требует обучения. Ты освоишь.
Топорик молчал, слушая, запоминая, говоря себе, что вспомнит потом все эти наставления, переберет по фразе, по словечку, вызубрит назубок.
– Все, что останется, заберешь себе. Это не общак, понимаешь? – говорил хозяин. – Это мое. Ну а если все обойдется, всплывем в других водах. Поступишь на юрфак или экономический. Станешь управляющим чего-нибудь.
– Чего? – спросил Кольча.
– Да хоть чего – от магазина до стройки, банка, фирмы. Тебе нельзя пропадать. Иначе – кранты. Борись, парень, учись, пока я живой. Плыви!
Он замолчал, снова закурил. Продолжил:
– И не бойся. На дело больше не пущу. Назначаю запасником. Антон умер не за так. Трое уже пострадали. В профилактических, правда, целях. Это иногородние… Но заказчик ходит рядом, мы его раскопаем. Кто-то хочет кусочек нашего округа, пока мы в городе не одни.
Топорик слушал Валентина не в половину, а в оба уха. «Трое пострадали», – сказал он. Убили, что ли, троих? Хозяин всегда слышал незаданные вопросы – и впрямь волчье чутье.
– Не боись, – усмехнулся, – мы за так мокроту не разводим. Есть и другие кары для виновных. А расплатится по полной заказчик. И исполнитель.
Валентин встал, походил по комнате, вдруг спросил:
– А ты не хочешь мамку-то поискать?
– Чью? – спросил.
– Да твою!
Топорик тряхнул головой, что-то много всего на него наваливалось за какие-то двадцать четыре часа.
– Зачем? – спросил он сперва и, не дождавшись ответа, сказал: – Нет!
– Давай, давай! – ухмылялся Валентин. – Я знаю одно местечко. Прокатимся. Ну нет, так нет, ничего страшного.
Он вытащил вяло противящегося Кольчу сперва с дивана, потом на улицу, сел за руль «Вольво».
Весна летела над землей, ускоряла свой ход дребезжащими золотыми ручьями, птичьим граем, теплыми вздохами ветра. Ей не было дела до человеческих обид и печалей, до бедности и богатства, до верности и лжи – она несправедливо предназначалась всем – и в этом была заключена непонятная правда.
Почему всем – поровну? Почему тем, кому худо, хотя бы на самую малость не добавить солнечной ласки и сладкого вкуса тающего снега? Почему бы не отобрать у злодеев милостей природы? Пусть бы не кивали им приветливо набухшие, пушистые ветки вербы, не бил в глаза, не внушал чувство счастья дрожащий свет ручья…
Но – нет. Отчего-то всем равен, всем вдосталь приходится счастливый, внушающий надежду переворот природы.







