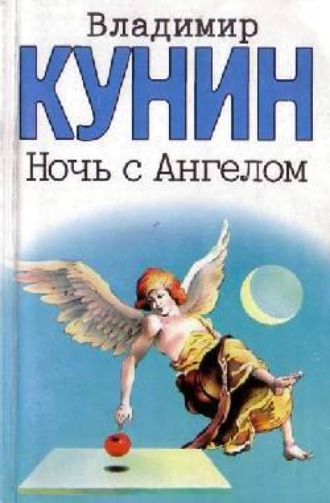
Владимир Кунин
Очень длинная неделя
– Налево… Ну и работка. Шел бы лучше в такси…
– Заткнись, – сказал Карцев.
– Чего?!
– Заткнись, говорю. Показывай, куда ехать…
Вчетвером они спустили гроб в громадный подвал морга, и, когда Карцев поднялся наверх в прозекторскую, к нему подошла заспанная женщина в очках и шерстяном платке, накинутом прямо на халат, и сказала:
– Тут вам записка. На столе, под стеклом.
На куске форменного бланка для заключения патологоанатома было написано: «Профессор Зандберг просил позвонить ему в любое время. Зандберг Давид Львович. Тел.: В 8-24-69».
Карцев сел к столу и набрал номер Зандберга.
– Алло… – немедленно ответил Зандберг.
«Телефон у кровати», – машинально подумал Карцев и сказал:
– Давид Львович? Это Карцев.
– Ну?.. – сорвавшимся голосом спросил Зандберг, и было слышно, как он часто дышит.
– Это Вера.
Зандберг молчал.
– Вот так… – сказал Карцев и навалился грудью на стол.
– Боже мой… Боже мой… Какой ужас!.. – тихо проговорил Зандберг.
– Вот так, – повторил Карцев.
– Приезжайте ко мне, – сказал Зандберг. – Я совершенно один. Мои на даче…
– Нет, – сказал Карцев и подумал о том, что у него может не хватить бензина доехать до цирка. – Спокойной ночи, Давид Львович…
– О чем вы говорите!.. – тоненько воскликнул Зандберг. – О чем вы говорите…
– До свидания, – сказал Карцев и повесил трубку.
А Зандберг сидел у окна и невидяще всматривался в белесые предутренние стекла, и телефон с длинным, уходящим невесть куда шнуром стоял на подоконнике, а не у кровати, как думал Карцев. И душу Зандберга раздирала щемящая жалость к незнакомому Карцеву, которого он никогда не видел, к маленькому Мишке, которого он видел всего два раза, и к самому себе – уже очень пожилому человеку, у которого больше никогда не будет маленьких детей…
И хотя стрелка была на нуле, бензина хватило до самого цирка. Карцев разбудил вахтера и загнал машину во двор. Он вынул ключи из замка зажигания, отдал их вахтеру и ушел.
Он шел по Фонтанке, скользя рукой по мокрому холодному металлу ограды, и через каждые десять метров машинально задерживал ладонь на теплой сухой гранитной опоре. А еще он, как в детстве, старался не попасть ногой на стыки каменных плит тротуара, и это было очень трудно, – плиты были разных размеров, и длина шага должна была постоянно изменяться. Только в детстве ему приходилось для этого шагать шире, чем он мог, а сейчас – наоборот…
Но, наверное, холодные мокрые перила, сухой теплый гранит и неровные плиты под ногами были где-то за пределами сознания, и Карцев шел по Фонтанке, может быть впервые в жизни признаваясь себе во всем, в чем никогда не признавался, думая обо всем, о чем раньше так старался не думать. И Вера, живая Вера стояла у него перед глазами. И жесткость ее характера была противодействием слабости Карцева, ее непримиримость – нежеланием прощать Карцеву судорожные попытки сохранить для себя – только для себя! – свою маленькую липовую свободу. Эти попытки рождали крошечные предательства, каждое из которых Вера видела за версту, каждое из которых Карцев так блистательно умел оправдывать неизбежностью, тысячелетним мужским правом и еще черт знает чем!.. «Ах, жизнь не получилась… Ах…» – еще что-нибудь не менее банальное и пошлое… А за всем этим стояла элементарная трусость, паническая боязнь того, что в один прекрасный момент Вера вдруг все увидит и все поймет. И освободить Карцева от этого страха, прекратить вранье и стереть постоянное ощущение уязвленности мог только развод. Но развод элегантный, широкий, красивый. Не сумма мелких долголетних нервных вспышечек, вылившихся в отвратительный скандальный разрыв, а развод-прощение, утверждающий его в самом себе и начисто стирающий все сомнения в правильности собственных поступков, когда-либо возникавших в смятенной душе Карцева. Впрочем, широта и уступчивость тоже имели свое двойное дно: скорее, скорее почувствовать себя свободным от необходимости наконец-то стать взрослым… И нет ему сейчас никакого прощения.
Остаток ночи Карцев лежал на тахте, курил и старался представить себе все, что должно произойти дальше. Но как только он начинал выстраивать возможную цепь будущих событий, мгновенно возвращались подробности прошедшего дня и ночи, цепь рвалась, и Карцев снова начинал слышать голос Ядвиги, чувствовать на своем лице горячечное дыхание Васи Человечкова и видеть руки следователя, раздвигающие пинцетом губы Веры для того, чтобы Карцев хотя бы по коронкам смог определить, она это или не она… И за-пах! Запах в морге, запах халата.
Карцев вскочил, схватил со стула пиджак, скомкал его и стал обнюхивать со всех сторон. От пиджака несло бензином. Карцев бросил пиджак и сорвал с себя рубашку… Права была эта старая крашеная стерва, теперь за неделю не выветрится!.. А может быть, нет запаха? Может быть, никакого запаха и нет?.. Может быть, ему это только кажется?..
Спустя два дня Веру хоронили.
На кладбище ехали двумя черными похоронными автобусами.
В первом – гроб с телом Веры, Карцев, венки и незнакомый Карцеву парень – муж какой-то Вериной приятельницы. Во втором – прилетевшая из Ялты Люба, теща, заплаканная Большая Берта и еще человек пятнадцать, которых Карцев совсем не знал.
Гроб Веры, не тот, который делал Карцев, а новый, купленный, раскрашенный «под дерево», с накладными давлеными жестяными веточками на обойных гвоздях, с ручками из толстой проволоки, был накрыт цветами от запаха и наглухо заколочен от взоров знакомых и родственников, которым, как сказал капитан Банщиков, «совершенно невозможно дать смотреть на такое преобразование». «Очень даже просто, – сказал Банщиков. – Могут возникнуть нездоровые мнения, что это и не она вовсе…» И гроб заколотили.
Люба вела себя мужественно и тихо, говорила негромко и с первой же минуты своего пребывания в Ленинграде стала повсюду ездить с Карцевым и помогать ему. А ездить приходилось много: на одно кладбище, на другое, на третье. Мест не было.
Приняли на Ново-Волковское. Высокий костистый парень в резиновых сапогах – заведующий – принял деньги, сам выписал квитанции, зарегистрировал документы в большой разлинованной книге и сказал:
– Значит, ваш участок седьмой, от центральной аллейки влево до забора. Четвертый ряд от края. Там хорошо будет: место сухое, высокое – песок… Ставить что желаете?
Он вывел Любу и Карцева из низенького помещения конторы и показал дворик, где из какой-то быстро стынущей массы формовали могильные «раковины» с вмазанным небольшим кусочком мрамора. На мраморе высекались фамилия и даты рождения и смерти.
Они снова вернулись в низенькую контору, и парень в резиновых сапогах взял с них по прейскуранту за «раковину» и снова выписал квитанции. А потом написал на бумажке имя и фамилию Веры, год ее рождения и год ее смерти, сосчитал все буквы и цифры, умножил на что-то и опять стал выписывать квитанцию.
– Вы их не теряйте, – сказал парень. – Как захоронять будете, предъявите их сюда, в контору, вас и проводят на место. А то меня может не быть, и вас без этих бумажек на территорию не пустят.
На кладбище пропустили только одну машину с гробом. Из второй все вышли и пошли вслед за первой машиной по центральной аллее. Но и первая машина до могилы не доехала, а остановилась около фанерного указателя в виде стрелочки: «Участок N 7». Гроб пришлось нести на руках, и ноги людей сползали с песчаной узкой дорожки и давили бурые комья сухой земли.
Около неглубокой могилы сидели трое с лопатами. Они курили, подставляя лица солнцу, и их загорелые шеи и кисти рук резко граничили с белым телом, выглядывавшим из расстегнутых рубах. И когда гроб опустили на землю, один из них встал и безошибочно подошел к Карцеву. Подошел деликатно, сзади и тихонечко сказал:
– Хозяин, мы там, значит, досточки для крепления «раковины» принесли… Это, конечно, если хотите. Чтоб потом дождями не подмыло. Так что вот, пожалуйста…
Карцев дал ему пять рублей и, не зная, что делать дальше, стал отряхивать испачканный глиной пиджак.
Подошла плачущая теща. Люба держала ее под руку и не сводила глаз с крышки гроба.
– И место-то какое нехорошее, – еще сильнее заплакала теща. – Сырое да низкое… Ни один цветочек не примется…
– Это вы напрасно, – огорченно сказал человек с лопатой. – Место самое что ни на есть… Очень даже хорошее место.
Все стояли и досадливо оглядывались по сторонам, словно выискивали того, кто знал, как нужно поступать дальше. До того момента, пока гроб не опустили на землю, все было понятно, правильно и скорбно. Потом, когда гроб опустят в могилу, все будет тоже ясно. Женщины перестали плакать в ожидании. Они покачивали горестно склоненными головами и любопытно поглядывали на Карцева, Любу и тещу.
Откуда-то подошла старушка с высокой палкой и профессионально жалостливым выражением лица. Через плечо у нее висела матерчатая сумка от противогаза, а маленькая старушечья головка была по брови затянута в черный непроницаемый платок. В руке два цветочка из стружек – красный и синий. Старушка подошла к Большой Берте и спросила, показывая подбородком на гроб:
– Как звали-то?
– Вера… – машинально ответила Берта.
– Женщина, значит, была… – удивленно-распевно сказала старушка и добавила: – А лет-то сколько?
– Тридцать четыре…
– Не пожила, не пожила… – пропела старушка и быстренько перекрестила себя трижды.
Человек с лопатой шагнул к старушке, наклонился над ней и беззлобным шепотом сказал:
– Ну-ка брысь… Тебя тут не хватало. – Потом повернулся к Берте и спросил деловито: – Говорить будете?
И тогда из кучки пожилых незнакомых женщин, стоящих слева от Берты, отделилась одна и надрывно-уверенно произнесла:
– Дорогие товарищи! Все сотрудники нашей кафедры поручили мне выразить глубокое соболезнование…
И, несмотря на то что женщина роняла в могилу круглые, привычно катящиеся слова и с детства знакомые, слышанные, читанные фразы, все вновь почувствовали горе и сладостную жалость ко всему на свете. Женщины заплакали, тоненько заголосила теща, припав к плечу своей старшей дочери Любы, мужчины тискали и мяли руками лица.
Карцева трясло, и он даже не пытался унять дрожь, только смотрел поверх голов в черные безлистые ветки старой облезлой березы, и в глазах у него стоял Мишка, удивленный, замурзанный, с просвечивающей бледно-голубой жилкой на левой щеке. Потом гроб опускали в могилу, и Карцев снова запачкал пиджак и брюки. Трое с лопатами быстро и ловко засыпали могилу и установили «раковину» с высеченными золотыми буквами.
Ах какая жестокая штука – поминки! Ах страшная штука!..
Будто держат человека на весу за шиворот и мотают его из стороны в сторону – то дадут ему под винегретик забыть про покойника, то под стакан водочки вспомнить заставят. И все вразнобой, вразнобой… Один рассказывает, что ему сказала покойница в прошлом году «вот почти в это самое время», другой тихим приличным голосом жалуется, что лето на исходе «и на юг уже не выберешься»…
А потом вдруг все замолкнут разом, послушают, как в кухне мать покойницы пьяненько соседкам тоску свою прокричит, покачают головами, и снова пойдет нелепая путаница настроения и слов.
Соседки по квартире, чистые, прибранные, будут гостям селедочку предлагать и уговаривать быстрее масло в картошечку класть, а то «картошечка остынет и маслице в ней нипочем не разойдется»…
И хорошо, что Люба сидит рядом и за руку держит. И хорошо, что Любе сейчас так же плохо, как и ему, Карцеву, от всего этого. Самый близкий сейчас человек – Люба. Сестра. Их здесь только двое близких – он и Люба.
– Ты не слушай, не слушай… – шепчет Люба и по руке гладит. – Ты про Мишеньку думай. Ты про Мишеньку думай… Ты теперь должен всем для него быть…
– Люба… Люба…
Карцев низко наклоняется и целует Любину руку. И нет у него сил поднять голову. Сейчас никто из этих не должен видеть лица Карцева…
А Люба все гладит его, спичку подносит.
– Ты подумай, Шуренька, может, не стоит тебе увозить его?.. Как ты там с ним один будешь?.. Он же маленький… Вот уйдешь из цирка, начнешь жизнь нормальную, оседлую, тогда и… А пока…
И тут Карцев почувствовал, как далека от него Люба, как она ничего не поняла в нем и как ей теперь совсем нет до него никакого дела.
Он один. Он за этим столом один. Нет у него близких. Нет у него никаких сестер! И братьев нет!.. Никого… Сын у него есть – Мишка. Его сын. И все.
– Не пей больше, Шуренька, – шепчет Люба.
«А провалитесь вы!..» – думает Карцев, и в уши его вползает чей-то голос:
– … И долг наш, сидящих за этим столом, помочь матери незабвенной Верочки, Ангелине Петровне, воспитать своего внука Мишеньку и поставить его на ноги…
Карцев вскочил бешено, опрокинул стул, рванул на себя скатерть:
– Раскаркались!.. Сволочи!!
На вокзал Карцева и Мишку провожали теща и Большая Берта. Люба еще третьего дня улетела в Ялту, одарив мать деньгами, а Мишку сладостями и очень красивым пластмассовым пароходом. С Карцевым Люба разговаривала сдержанно и тихо, как с тяжелобольным, и просила на будущее лето привезти Мишку к ней. Они будут снимать под Москвой дачу, а так как Карцев из цирка в цирк ездит все равно через Москву, то он сможет видеть Мишку когда ему вздумается. Карцев поблагодарил и не отказался, но Люба поняла, что Карцев этого не сделает, и махнула рукой.
В такси теща и Берта сидели сзади, и теща тихонько рассказывала Берте, как хоронили Сережу Рагозина. Сама она на похоронах не была, но мать и отец Сережи, которые приехали из Костромы, приходили к ней и даже ночевали у нее две ночи.
– Не хотели у невестки, – сказала теща. – Одну ночь провели, а больше не хотели.
А потом, рассказывая, как хоккеисты посадили у могилы Рагозина березку и какой хороший участок им выделили, рядом с оградой, у самой аллеи, теща дважды принималась плакать, и Карцев понимал, что все это говорится для него и в упрек ему, и поделать ничего не мог, а только прижимал к себе сонного Мишку и был рад, что Мишка всего этого не слышит.
– Говорили, к зиме сложатся и мраморный памятник ставить будут… – всхлипнула теща. – Конечно, им легко… Их вон сколько…
Карцев прижимал к губам мягкие Мишкины пальцы и тоскливо ждал вокзальную площадь. Почему-то он вспомнил Тима Чернова, с которым ездил в Лугу за Мишкой. Они были давно знакомы, еще с тех пор, когда Тим учился в электротехническом институте. Потом Тим стал очень известным эстрадным писателем, и самые неприступные конферансье разговаривали с ним, искательно заглядывая в голубые веселые Тимовы глаза. Тима это всегда очень смешило.







