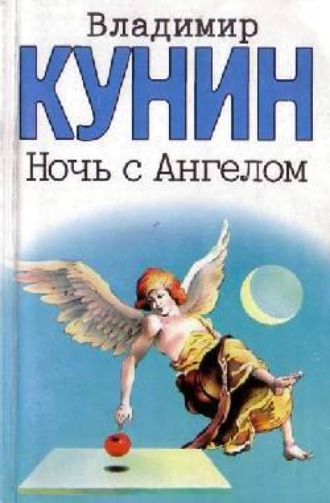
Владимир Кунин
Очень длинная неделя
Но старик молчал, покачивая больную руку, и только один раз попросил Карцева, чтобы тот дал ему прикурить. И это было очень хорошо, потому что Карцев уже до краев был переполнен горечью и смятением и любое неосторожное движение могло расплескать эту горечь на удивление посторонним людям, ничего про Карцева не знающим…
– Все… – сказал Карцев и воткнул топор в остаток доски.
– И ладно, – кивнул головой старик.
Карцев вынул из кармана двадцать рублей и протянул их старику плотнику.
– Это за что? – спросил спокойно плотник, и Карцев увидел, что глаза у старика удивительно синие.
– За доски, – ответил Карцев.
– Им в базарный день пятерка красная цена, – презрительно сказал старик и пнул ногой обрезок доски.
– Ну так, вообще… За все.
– Вообще мне не надо, – сказал старик и встал. – Но если ты желаешь, я в церкви свечку поставлю и помянуть попрошу. Как звали?
– Вера.
– Желаешь?
– Желаю…
– Давай, – сказал старик и протянул за деньгами здоровую руку.
Было уже совсем темно. Карцев поднял задний борт.
– Может, переночуете? – спросил следователь. – А то ваш шофер совсем расклеился. Как он в таком состоянии полтораста километров, да еще ночью, осилит? Оставайтесь, мы вас обоих устроим…
– Осилит, – ответил Карцев и сел за руль.
Человечков безропотно занял место справа и бессильно откинулся на подушку сиденья.
– До свидания, – сказал Карцев следователю.
– Если будут нужны какие-нибудь уточнения, звоните, – сказал следователь. – Акты экспертизы и вскрытия мы еще вчера выслали.
– Хорошо, – сказал Карцев, не понимая, для чего ему все это нужно знать.
– На больших оборотах задний мост шуметь начинает, – сказал Человечков. – Но вы на это внимания не обращайте. Он давно шумит, и ничего ему не делается…
– Разберусь, – сказал Карцев и выехал со двора.
Черные улицы Приозерска были слабо тронуты желтым пунктиром фонарей. Карцев прислушивался к двигателю и искал левой ногой кнопку включения фар. И когда он наконец нашел и нажал ее, улицу пронзил жесткий белый веер света. Желтые фонари сразу взметнулись в темное небо и перестали принадлежать улицам. Встречных машин не было, и Карцев вел свой одинокий грузовик посередине проезжей части, никого не предупреждая миганием фар на поворотах и перекрестках…
Васю Человечкова бил озноб. От него пахло нашатырным спиртом и валерьяновыми каплями.
– Я такого никогда не видел… – сказал он и зажал руки между коленями. – У нас в прошлом годе умерла бабушка. Мы ее в Тихвин хоронить ездили. И я ничего… Только жалел очень. А тут…
Вася зажмурился, вынул из колен руки и сжал лицо ладонями.
– Ладно тебе, – сказал Карцев, теряя последние силы.
– На такое человеку смотреть невозможно!.. – выкрикнул Вася и забился в угол кабины.
– Ладно тебе… – устало повторил Карцев и затормозил у витрины «Гастронома». – Посиди. Я еды какой-нибудь куплю на дорогу. Ты что любишь?
Человечков посмотрел на него, отвернулся и ничего не ответил. Карцев вздохнул и вылез из кабины.
В магазине Карцев купил пол-литровую бутылку водки, колбасы, хлеба и банку маринованных огурцов. Постоял, подумал и купил бутылку лимонада. Для Васи.
Карцев был последним покупателем, и не успел он дойти до машины, как свет в витринах погас, из магазина вышла женщина и стала вешать на двери большой амбарный замок.
– Это вам просто повезло, – сказал Вася. Он был обрадован возвращением Карцева и засуетился, освобождая место для свертков.
Карцев встал на подножку и заглянул в кузов. Доски гроба неясно белели в темноте, и Карцев почувствовал, как к запаху свежего сена примешивается сладковатый жирный запах гниения. В какую-то секунду ему даже показалось, что он видит этот запах…
– Ну как там?.. – спросил Человечков, и Карцев сел за руль.
– Вера, ты меня любишь? – однажды ночью спросил Карцев.
Вера промолчала.
– Ты меня любишь? – раздражаясь, повторил Карцев.
Вера закурила сигарету и отодвинулась к стене. Некоторое время она молчала, и Карцев не отрываясь смотрел на огненную точку Вериной сигареты, медленно плавающей в темноте. В этом раскаленном комочке непрерывно происходили какие-то изменения: комочек то вспыхивал до желтого, то потухал до малинового, а в центре его и по краям один за другим следовали маленькие злые взрывчики.
– Не любишь ты меня… – сказал Карцев.
Вера затянулась, и комочек засветился белым светом, на секунду озарив лицо Веры. Голова ее была откинута на подушку, глаза закрыты, и к вискам тянулись две блестящие дорожки слез. А через секунду все это исчезло, и осталея только малиновый огонек со взрывчиками и спокойный голос Веры:
– Люблю, наверное…
И когда машина выехала из последней улицы в чистое лунное шоссе, Карцев затормозил и выключил зажигание.
– Вы чего?.. – спросил Человечков.
Карцев отодвинулся к дверце и разложил на сиденье хлеб, колбасу, водку, лимонад и банку огурцов.
– Пассатижи есть? – спросил Карцев.
– Есть, – сказал Человечков, порылся у себя под ногами и подал Карцеву пассатижи.
Карцев открыл банку с огурцами и слил рассол на асфальт.
– Ешь, – сказал он Человечкову.
– Что вы!.. – сказал Человечков. – У меня сейчас желудок ничего не примет. Я сейчас…
– Ну лимонад пей… – прервал его Карцев и открыл бутылку с водкой. – И стакана у тебя, конечно, нет?
– Нет, – огорченно сказал Человечков. – Вы на меня не обижайтесь.
– Нет так нет. На нет и суда нет, – Карцев вытащил из банки огурец и добавил: – Боже мой, как все ни черта не стоит!
Прямо из горлышка он выпил половину водки, съел огурец и протянул бутылку Человечкову. Вася подумал, что Карцев предлагает ему выпить, и отрицательно замотал головой.
– Заткни чем-нибудь, – сказал Карцев. – И поешь, пожалуйста… Посмотри на себя, как ты слаб…
Человечков заткнул водку и деликатно отпил глоток лимонада.
– Хотите, я за руль сяду? – спросил он.
– Сиди, где сидишь, – сказал Карцев и завел двигатель.
И сколько было до Лосева, до того моста, Карцев гнал машину и думал, что все теперь для него сдвинулось с привычных мест, и сознание вины своей в Вериной смерти не покидало его и заставляло вспоминать только то, в чем он был действительно повинен.
А когда машина въехала на тот мост и остановилась у деревянных перил, Карцев допил оставшуюся в бутылке водку, постоял, привалившись к перилам грудью, и от желания броситься вниз, в черный ревущий поток, его останавливал не страх и не рассудок, а всего лишь ощущение сырости деревянного ограждения и прилипшей к телу рубашки. (Маленькое физическое неудобство, которое унизительно тянуло Карцева к сиюминутности и требовательно возвращало его к жизни.)
Потом Карцев дважды останавливал машину, и оба раза залезал в кузов и придвигал ссунувшийся назад гроб к переднему борту. В третий раз он разбудил Васю Человечкова и попросил у него топор. Вася помычал, пошлепал губами и махнул рукой за спинку сиденья. Карцев отодвинул его, достал из-за спинки топор и, укладывая сонного Васю на место, почувствовал на своем лице его горячее неровное дыхание. Вася температурил. Карцев снял с себя пиджак, укутал Человечкова и вылез из кабины в мелкий сетчатый ночной дождь.
У обочины Карцев срубил два молоденьких деревца, измерил топорищем расстояние от гроба до заднего борта, обрубил стволы до нужного размера и обухом загнал их в кузов, одним концом уперев в задний борт, другим – в гроб с телом Веры.
Оставшиеся километров тридцать гроб был плотно прижат и не сдвигался с места ни при сильных торможениях, ни при крутых спусках, и Карцев жалел, что не укрепил его с самого начала.
– Ну хочешь, я положу тебя в свою клинику? – спросила Вера и поправила подушку под головой Карцева.
Слышно было, как Мишка гудит в коридоре.
– Положи, – сказал Карцев и улыбнулся.
Приоткрылась дверь, и в комнату заглянул Мишка.
– Мама, – сказал Мишка, – можно, я и здесь буду жить тоже? Немножко здесь, немножко там… А, мама?..
Это произошло через пять месяцев после того, как они разъехались. Карцев получил отпуск и приехал в Ленинград, в свою новую комнату на Крюковом канале.
Все дни он мотался с Мишкой по музеям и загородным электричкам, вырезал ему лобзиком пистолеты и конструировал тормоз к самокату. Вечером он ходил в цирк, болтался за кулисами, а после представления ужинал с кем-нибудь из цирковых в «Европейской» или в «Астории».
В цирке работала почти вся программа, с которой Карцев недавно был в Польше. Всех он знал, и все знали его, и это было очень удобно. Старые приятели по спорту ему были неинтересны, а новые знакомства Карцев не любил, потому что не любил рассказывать, как Кио делает свои фокусы, и отвечать на вопросы, часто ли тигры разрывают своих укротителей и страшно ли ему, Карцеву, каждый день подниматься под купол, и как артистам цирка платят: зарплату или процент со сбора?..
Новые знакомые всегда считали, что с ним нужно говорить только о цирке. Так же, как с врачом о медицине и с шофером такси об автомобилях.
И когда кто-нибудь начинал захлебываться: «Вы знаете, я обожаю цирк! Запах конюшен, разгоряченных тел! Залитый светом манеж! И нечеловеческий, всепокоряющий повседневный подвиг людей цирка!..» – Карцеву становилось скучно, он начинал разглядывать официанток и думать: «А пошел ты к такой-то матери…»
В последний вечер перед болезнью он случайно познакомился с пугающе красивой манекенщицей из Дома моделей и пригласил ее к себе.
Манекенщица приехала, о цирке, слава богу, не расспрашивала и говорила только о себе и о каких-то сумасшедших шведских дипломатах, итальянских кинематографистах и американских физиках, которые по очереди хотят увезти ее в Швецию, в Италию, в Америку и еще черт знает куда!..
Карцев молчал, слушал, и ему хотелось на Васильевский. К Вере. К спящему Мишке. Он так еще и не приделал к самокату тормоз…
Манекенщица врала вдохновенно и долго, а потом деловито разделась и юркнула под одеяло.
В половине четвертого утра Карцев проснулся от страшной боли. Ощущение было такое, будто кто-то с размаху всадил ему нож в сердце. Левая рука отнялась и похолодела. Карцев задыхался от боли и страха, а манекенщица звонила в «Скорую помощь» и, прикрывая ладонью трубку, спрашивала у Карцева его фамилию и возраст…
А потом «Скорая» опутала Карцева проводами и тут же в маленькой тесной комнатухе на Крюковом канале получила электрокардиограмму карцевского сердца. Манекенщица путалась в старом махровом халате Карцева и все время пыталась что-то сказать.
Карцеву ввели промедол и кордиамин и дали маленькую таблетку нитроглицерина. Боль стала затихать, дыхание выровнялось, и Карцев издалека слышал, как врачи успокаивали манекенщицу, говоря, что это не инфаркт и даже не стенокардия, а просто сильный спазм сосудов. Скорее всего, на нервной почве…
Врачи уехали, и Карцев задремал. Проснулся он часа через два. Манекенщицы не было. На стуле у тахты лежала записка: «Не болей!!! Целую. Л.». И какой-то телефон. Карцев скомкал записку и сунул ее в пепельницу. Он поспал еще два часа, а потом дотащился до телефона и позвонил Вере. Вера приехала и привезла с собой Мишку.
Она выставила Мишку в коридор, убрала и проветрила комнату и перестелила Карцеву постель. Остатки коньяка Вера заткнула и поставила на окно.
– Ты хоть не пей, – сказала Вера.
– Коньяк расширяет сосуды, – подмигнул ей Карцев.
Вера вызвала машину и отвезла Карцева на Петроградскую сторону, в свою клинику. Карцева положили на обследование, и на следующий день все в клинике знали, что наверху, на третьем этаже, во второй терапии, лежит бывший муж Карцевой с функциональным расстройством нервной системы и наклонностью к ангиоспазмам.
Карцев шатался по холодным кафельным коридорам и курил в битком набитой уборной, где стоял мат и пили водку, где шли нескончаемые разговоры о чужих женщинах и своих болезнях. А потом уходил в палату, ложился в кровать, подкладывал под щеку маленький наушник и сквозь концерты-загадки и политические события отыскивал прогноз погоды на завтра, до которого ему не было никакого дела…
Вера бывала у него ежедневно, приносила кефир, ветчину и Мишкины рисунки. Ветчину Карцев съедал, отдавал кому-нибудь кефир и писал Мишке веселые письма в стихах.
И каждый раз, передавая письмо Вере, он ждал, что Вера скажет ему что-нибудь такое, отчего все вдруг начнет меняться и перестраиваться и он сможет согласиться или не согласиться. И это одинаково будет хорошо, так как это утвердит его в самом себе и он перестанет чувствовать себя в чем-то виноватым.
Но Вера ничего такого не говорила, и к концу второй недели Карцеву мучительно захотелось уехать в какой-нибудь цирк и не продлять отпуск, на что он имел полное право, а сократить его и как можно скорее начать работать и жить по привычному распорядку любого цирка – по распорядку, который начисто исключит все то, что сейчас тревожит Карцева…
Он тогда так и сделал. Позвонил в Москву, в отдел формирования программы Союзгосцирка, и попросил разнарядку. А через три дня сел в поезд и уехал не то в Свердловск, не то в Новосибирск… Сейчас и не вспомнишь.
Вася Человечков открыл глаза и спросил:
– Приехали?
– Да, – ответил Карцев.
– А времени сколько?
– Три.
Карцев закурил, открыл дверцу, и в кабине сразу стало холодно.
– Ты посиди, – сказал он Человечкову. – Я сейчас…
– Нет… Я с вами.
Вася тяжело вылез из кабины и тут же сел на стуненьки приемного покоя.
– Тогда вставай, – сказал Карцев.
– Я посижу… – хрипло сказал Вася и закашлялся.
– Вставай, вставай!.. Идем.
Карцев поднял Васю со ступенек и открыл дверь приемного покоя.
– Ну как, задний мост здорово шумел? – спросил Вася.
– Не очень.
– Он еще черт-те когда начал шуметь… Я сначала думал, вот-вот рассыплется, а потом привык. Сателлиты, что ли, подработались?
– Давай, давай, двигай… – сказал ему Карцев.
Васю оставили до утра в больнице, а Карцев, пообещав ему отогнать машину в цирковой гараж, еще немножко покурил у дежурного врача. Затем пришли три медбрата – студенты-практиканты из Первого медицинского института. Один из них, в джинсах и кедах, сел с Карцевым в кабину указывать дорогу, а двое других пошли за машиной пешком. К больничному моргу.
Карцев медленно вел машину между институтскими корпусами.
– Откуда везешь, шеф? – спросил медбрат в джинсах.
– Показывай дорогу, – ответил Карцев. – Теперь куда?







