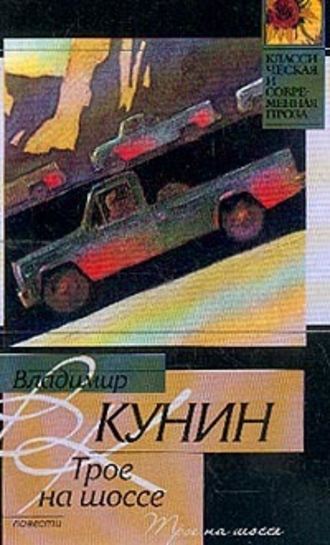
Владимир Кунин
Воздухоплаватель
* * *
Забавно смотреть документальный кинематограф восьмидесятилетней давности!
Все дергается, все прыгает, любой серьезный жест комичен, экран искрится царапинами, и даже самые степенные люди вприпрыжку бегут сломя голову.
Наверное, очень смешными показались бы сегодня такие кадры. Представьте – начало одна тысяча девятьсот десятого года. Юг России. В холодной пустынной степи стоит самодельный аэроплан с работающим мотором. Крутится пропеллер. Авиатор сдвигает кепку козырьком назад и натягивает рукавицы с крагами...
Несколько человек суетливо (старая пленка!) помогают ему. Авиатор угловато приветствует их и уже собирается залезть в свой ненадежный аппарат.
Резкий свисток! Обычный полицейский свисток раздается в холодной степи. К аэроплану мчится автомобиль. Это из него несется полицейский свист. На заднем сиденье господин полицмейстер. На подножках с двух сторон автомобиля двое городовых.
Одной рукой за дверки держатся, другой свистки в рот суют. Люди около аэроплана удивленно смотрят на автомобиль.
Автомобиль останавливается. Городовые спрыгивают с подножек, бегут к аэроплану. Размахивают руками, ругаются, авиатор спорит с ними, потом безнадежно машет рукой и выключает мотор.
Несколько человек укатывают аэроплан по земле. Авиатор понурив голову идет вслед за своим аэропланом...
Очень, очень смешные кадры! Все дергается, все прыгает, любой серьезный жест– комичен...
Но это если сегодня смотреть старую пленку.
А если бы эту пленку смотрели тогда, в том же девятьсот десятом, смешного было бы совсем, совсем мало...
* * *
В тысяча девятьсот десятом году, восемнадцатого февраля, на очередном заседании Государственной думы депутат левых Макдаков сказал с думской трибуны:
– Газеты пестрят именами Фармана, Блерио, Сантос-Дюмона, братьев Райт. Многовековая мечта о крыльях, сказка о ковре-самолете вдруг стала осязаемой реальностью. И почему бы России не выйти на европейскую арену под собственным флагом и, чем черт не шутит, еще и потягаться с французами, англичанами и немцами в этом неведомом, удивительном деле – воздухоплавании? Так нет же! Еще ни один человек у нас не летает, а уже правила полицейские против употребления аэропланов изданы, уже есть надзор за этим!
Члены Государственной думы огорчились столь вольтерьянскому выступлению господина Маклакова и недовольно зашумели, заерзали.
А господин Марков – депутат правых, вскочил со своего места и крикнул:
– Что же тут дурного? Понятно, что прежде чем пустить людей летать, надо научить летать за ними полицейских!
Да еще и расхохотался в лицо докладчику, да еще и ручкой этакий комичный жест изобразил – дескать, «не с нашим рылом в калашный ряд»...
* * *
Было раннее-раннее утро в Одессе.
Городовой стоял и смотрел, как по совершенно пустым, еще спящим улицам медленно тянулась вереница пустых черных извозчичьих пролеток с дремлющими «ваньками» на козлах.
Только скрип пролеток и ленивое цоканье копыт нарушали рассветную тишину города.
Черные пролетки одна за другой двигались сквозь улицы и переулки, залитые розовато-желтым светом восходящего солнца.
Из какого-то дома не очень твердо вышел молодой франтик с помятым личиком. Он удивленно проследил глазами за извозчичьими пролетками и, улучив момент, перешел улицу перед самой мордой очередной клячи.
Великосветски помахивая тросточкой и стараясь дышать в сторону, молодой человек подошел к городовому и спросил, показывая на процессию пустых извозчиков:
– Если это не похороны архимандрита, то тогда что такое вот это вот?
– Иван Михайлович гуляют, – бесцветно ответил городовой.
– От это да! – восхитился молодой человек. – От это я понимаю!.. – И тут же деловито осведомился: – И по поводу?
– Это нам знать не положено.
– А что вам положено? – иронически спросил молодой человек. – Не, я хочу знать, что вам положено?!
– Вы бы шли, господин, – устало сказал ему городовой.
– А я что – стою?! – возмутился молодой человек и язвительно приподнял соломенное канотье. – Кланяйтесь господину полицмейстеру.
* * *
В первой пролетке сидел знаменитый русский богатырь Иван Михайлович Заикин, а рядом, держась рукой за крыло возка, шел не менее знаменитый писатель Александр Иванович Куприн. Заикин был мрачен. Куприн говорил ему:
– Ну перестань, Иван... Ну что за мальчишество!..
Заикин угрюмо молчал, глядя в спину извозчика.
– Ну пойми, что это глупо и ничтожно! – злился Куприн. – И то, что ты делаешь, не протест, а блажь купеческая!
Заикин тяжело посмотрел на Куприна:
– Ты, Ляксантра Иванович, вот что: или садись со мной рядышком, или прими в сторону трошки... А то, не дай Бог, под лошадь попадешь!
Куприн не сделал ни того ни другого, а продолжал:
– Ишь, социалист выискался! Депутат Марков приезжает в Одессу, а борец Заикин готовит ему террористический акт. Скупил всех извозчиков, чтобы не на чем было господину Маркову ехать. Ну смех и грех прямо! Тебе, Иван, Бог силу дал, а умом, видать, обидел.
– Да погоди, Ляксантра Иванович! Ну за что ты так-то?..
Извозчик дремал на козлах и не заметил, как Заикин выпрыгнул на мостовую. Пролетка прокатилась мимо Заикина и ударила его задком в спину.
Заикин бешено обернулся, схватил пролетку за заднюю ось и рывком остановил ее так, что лошадь присела на задние ноги.
– Стой, дура!
И черная вереница извозчичьих пролеток остановилась.
Сорок извозчиков стояли застывшей черной лентой, а Заикин лихорадочно вытаскивал бумажник из кармана и бормотал:
– Ну, погоди, Ляксантра Иванович... Ну чего я тебе сделал такого?..
Лошадь дернулась, и Заикин снова обернулся к извозчику:
– Да стой ты на месте, тетеря!
Он отсчитал несколько бумажек, сунул их в руки испуганному «ваньке» и, показывая ему огромный кулак, рявкнул:
– Это тебе на всех! Смотри у меня!.. Чтобы поровну, понял?!
– Дак, Господи!.. Иван Михайлович!.. Да рази ж мы...
Но Заикин уже не слушал его, а заглядывал в лицо Куприну и говорил:
– Сашенька, друг ты мой сердешный... Я же все как лучше хочу... Я же этому Маркову, мать его за ногу, чтобы он такие слова... Дак как же это можно?! Ну, прости, если что не так. Ну, прости... Не обижайся. Силь ву пле.
И Куприн пожалел Заикина:
– Ладно. Социалист, слава Богу, из тебя не получился. А твой дурацкий террор господину Маркову только на пользу: оттого, что он пройдется пешком от вокзала до «Лондонской», у него будет гораздо лучше работать желудок.
– Ты смотри... – огорчился Заикин. – Ну кто бы мог подумать?
И тут Заикин увидел афишу на рекламной тумбе и остановился, удивленно разглядывая ее. На афише был нарисован аэроплан, летящий над морем, а вверху, в овале, портрет молодой красивой женщины.
– Сашенька, – смущенно сказал Заикин, – ты прочти мне, будь ласков, чего там накарябано...
Куприн улыбнулся и прочел текст афиши:
– «Гастроли всемирно известной француженки женщины-авиатора баронессы де ля Рош. Летающая дама совершит свои полеты на аппарате тяжелее воздуха системы „Фарман“ на скаковом поле одесского ипподрома. Билеты продаются без ограничений».
– Это когда? – коротко спросил Заикин.
Куприн снова посмотрел на афишу и ответил:
– Завтра.
Заикин вздохнул:
– Вот это дело стоящее. Билеты без ограничений. Небось деньги – лопатой...
Куприн посмотрел на Заикина и сказал:
– Это дело, Иван, не деньгами стоящее.
– Опять я чего не так сказал? – спросил Заикин.
* * *
Вечером в цирке Заикин гнул на шее рельсы, разгибал подковы, завязывал узлом толстенные железные прутья, а двадцать человек из зрителей старались разорвать его сцепленные руки. Потом Заикин боролся.
В ложе сидели трое: молодая красивая француженка-летчица баронесса де ля Рош, ее антрепренер мсье Леже и журналист Петр Пильский.
У Пильского была ироничная лисья мордочка с умными недобрыми глазами. Разговор шел по французски.
– Бог мой! – сказала де ля Рош, глядя на Заикина. – Какой великолепный экземпляр!
Леже тревожно посмотрел на де ля Рош и сказал Пильскому:
– Я видел мсье Заикина в прошлом году в Париже, когда он стал чемпионом мира.
– Какой экземпляр! – пробормотала де ля Рош.
Леже наклонился к ней и так, чтобы не слышал Пильский, тихо сказал:
– Прости меня, девочка, но несколько лет тому назад, когда ты еще не была баронессой де ля Рош, а в весьма раздетом виде пела и танцевала на сцене «Фоли Бержер», я посмотрел на тебя впервые и тоже подумал: «Какой превосходный экземпляр!» Правда, потом я нашел в себе силы полюбить тебя искренно и нежно.
– Ты предлагаешь мне сделать то же самое? – насмешливо спросила де ля Рош и показала на Заикина.
– В отличие от меня ты вправе делать все, что угодно.
– Спасибо. – Де ля Рош нежно посмотрела на Леже. – Я постараюсь пользоваться этим правом только в исключительных случаях.
– Я вижу, что вы очень заинтересовались мсье Заикиным, – сказал Пильский. – Я могу представить его вам.
– Прекрасно! – рассмеялась де ля Рош. – Вы не боитесь, Леже?
– Нет, мадам. Сотрудничество с вами закалило меня и приучило к любым неожиданностям.
– Мсье Заикин не только прекрасный спортсмен, но еще и блистательный организатор, – заметил Пильский. – Он организатор и хозяин этого борцовского чемпионата.
– Сколько человек находятся под руководством мсье Заикина? – деловито осведомился Леже.
– Человек тридцать, – ответил Пильский.
– О!.. – презрительно махнул рукой Леже. – Мадам стоит пятидесяти.
– Леже! Леже! Вы слишком самоуверенны. Взгляните, какой это мужчина!
– Боюсь, что мсье Заикин так устает быть мужчиной на арене, что сразу же перестает им быть, когда сходит с нее.
– Тогда вам действительно нечего бояться за себя!
– Я боюсь не за себя, а за вас. Ваше спокойствие мне дороже всего.
– Мадам, рекомендую вам рискнуть, – спокойно сказал Пильский. – Насколько мне известно, мсье Заикин работает на арене не в полную силу.
– В таком случае, мсье Пильский, пригласите мсье Заикина завтра же на мои полеты, – улыбнулась де ля Рош и добавила: – Думаю, что мсье Леже это будет так же приятно, как и мне.
* * *
На следующий день в кафе ипподрома сидели Заикин, Куприн, Пильский и их приятель журналист Саша Диабели.
Уже было много выпито и много съедено. Заикин был тихо и добродушно пьян, Саша Диабели чрезвычайно весел, Пильский – озлоблен, а Куприн негромко и грустно говорил:
–...и точно так же через десять лет мы, оставшись благополучными русскими либералами, будем вздыхать о свободе личности и кланяться в пояс мерзавцам, которых презираем, и околачиваться у них в передних. «Потому что, знаете ли, – скажем мы хихикая, – с волками жить, по-волчьи выть»...
– Для чего?! Для чего все это нужно? – вдруг зло прервал Куприна Пильский. – Сначала мы тупо гадим под себя, а потом сами же тыкаемся носом в собственное дерьмо, чтобы лишний раз убедиться, что мы попросту омерзительны!
Заикин ничего не понял и вопросительно посмотрел на Куприна. Саша Диабели расхохотался. Пильский готов был уже оскорбленно вскинуться, но Куприн спокойно положил свою руку на руку Пильского и сказал:
– Ничего, Петя... Я верю, что не теперь, не скоро, лет через пятьдесят, но придет истинно русский писатель, вберет в себя все тяготы и всю мерзость этой жизни и выбросит их нам в виде простых, тонких и бессмертно-жгучих образов. И все мы скажем: «Да ведь это все мы сами видели и знали, но мы и предполагать не могли, что это так ужасно!»
– Но мы-то, мы – сегодняшние, при чем тут?! – крикнул Пильский. – Мы-то кому нужны? Кому нужны мы?
Заикин погладил Пильского по плечу и ласково сказал:
– Ну, будет тебе, Петр Осипович... Авось и мы на что-нибудь сгодимся.
Пильский зло стряхнул руку Заикина:
– Ты-то всегда, во все времена будешь нужен! Не в цирке – так в кабаке вышибалой! А мы, со своими метаниями, философийками, попытками психоанализа... Со своей отвратительной интеллигентностью, назойливым проникновением в душу ближнего... Кому все это нужно, я вас спрашиваю?! Когда любая пошлая бабенка-гастролерша чуть ли не в обморок падает от собачьего пароксизма при виде вот этих идиотских мускулов! – Пильский презрительно ткнул пальцем Заикина в грудь. – И готова предать все на свете, лишь бы...
– Ах, вот оно что! – захохотал Куприн. – Ну, слава Господи!.. А ведь я, грешным делом, подумал, что ты взволнован судьбой всей русской интеллигенции. А ты только про себя?
– Слушайте, слушайте! – закричал Саша Диабели. – Давид возжелал женщину. Женщина предпочла Давиду Голиафа. Давид решил, что своим отказом женщина оскорбила в его лице все интеллигентское племя Давидово...
– Замолчи, мерзавец! – крикнул Пильский и угрожающе встал.
– Александр Иванович... – взмолился Саша Диабели. – Объясните ему, что время дуэлей давно прошло и он может просто схлопотать по морде!
Куприн хохотал, а Заикин смотрел на Пильского жалостливо и участливо.
Из-за соседнего столика поднялся грузный высокий херсонский помещик и, пьяно покачиваясь, попытался пройти между Заикиным и соседним столиком. Верзила-помещик не смог протиснуться в узком проходе и тогда вдруг так сильно ударил Заикина тростью по спине, что трость сломалась.
– Подвинься, хам! – прохрипел помещик.
Все были ошеломлены. И только Петр Пильский, маленький, тщедушный и озлобленный, вскочил и бросился на огромного помещика. Но Заикин вовремя перехватил Пильского и негромко сказал ему:
– Ты уж на своих, интеллигентных-то, не бросался бы... – Он прикрыл собою Пильского и спокойно повернулся к помещику: – Ну, теперь-то ваша душенька довольна?
А помещик уже вовсю куражился:
– Вот возьму столик и разобью твою мужицкую голову! Сволочь серая!
Заикин вздохнул, поднял здоровенного помещика над головой и сказал:
– Милейший, вы можете разбить мне столом голову, а я могу вашей головой разбить стол. И сделаю это, если вы сейчас же не уберетесь отсюда...
– Помоги ему, Ваня, – посоветовал Куприн.
– Как скажешь, Ляксантра Иваныч... – кротко заметил Заикин и выбросил помещика через небольшие перильца, ограждавшие кафе.
* * *
... А потом пытались пробиться к аэроплану. Но он был окружен полицией.
Заняли свои места на трибуне рядом с журналистами. У каждого в руках блокнот. Кто-то уже делал заметки, поглядывая на волнующуюся публику. Откуда-то из глубины толпы раздались аплодисменты.
Рядом с трибунами стоял автомобиль. В нем сидели, кроме шофера, три толстых, похожих друг на друга человека. Это были братья Пташниковы – известные одесские миллионеры.
Когда Заикин с друзьями проходил мимо них, Пташниковы улыбнулись, поприветствовали его. Заикин любезно раскланялся.
Наконец появилась баронесса де ля Рош в костюме авиатора, и пока она шла к своему аэроплану, аплодисменты нарастали.
Леже и два механика заканчивали последние приготовления к полету. Де ля Рош коротко спросила у Леже:
– Ну как?
– Все в порядке, девочка, – нежно ответил Леже.
Де ля Рош легко взобралась на аэроплан и подняла обе руки в знак того, что готова к полету.
Затрещал мотор, толпа замерла. Аэроплан тронулся с места и покатился все быстрее и быстрее и вот уже оторвался от земли и повис в воздухе. Ипподром будто взорвался от радостного крика тысяч людей и... снова тишина.
Аэроплан поднялся метров на пять, пролетел немного и снова опустился.
– Ляксантра Иваныч... Сашенька! Что же это за чудо-то такое? – презрительно спросил Заикин. – Я-то думал, она черт-те куда взметнется. Подумаешь, невидаль!
– Сейчас ты наверняка скажешь, что смог бы еще лучше, – сказал Куприн.
– А что?! Да неужто не смог бы?! Захотеть только!
– Иван Михайлов, – торжественно сказал Куприн. – Беру с тебя слово, что первый, кого ты поднимешь из пассажиров, буду я!
– Даю слово! – рявкнул Заикин.
Журналисты услышали громовой голос Заикина и придвинулись поближе.
– Только учиться надо... – сказал Куприн.
– Ежели зайца учить – он на барабане играть будет и спички зажигать сможет... Медведей «барыню» плясать учат, что ж я, не выучусь, ежели захочу?!
Репортеры всех одесских газет уже стояли плотным кольцом вокруг Заикина и Куприна.
Пташниковы тоже прислушивались к их разговору.
Журналисты торопливо строчили в блокноты и вытягивали шеи, чтобы получше расслышать то, что, распаляясь в обидчивом гневе, кричал Заикин:
– Что я, глупее медведя, что ли? Да я, ежели захочу, то хоть завтра...
Давешний франтоватый молодой человек с помятым личиком тоже оказался здесь. Он снова был чуточку навеселе и восхищенно смотрел на громадного Заикина снизу вверх. Он уже пробрался сквозь кольцо журналистов и любопытствующих к самому Ивану Михайловичу и теперь только ловил миг, стерег паузу в хвастливой речи Заикина, чтобы самому вставить слово.
– Вы не смотрите, что во мне семь пудов с половиной, – говорил Заикин.
– Правильно! – крикнул молодой человек. – Это ничего не значит!
– Ежели я только захочу!.. – сказал Заикин.
– Ура!!! – почему-то вдруг закричал молодой человек, решив, что настала удобная минута и для его выступления. – Да здравствует Иван Михайлович – гордость всей нашей Одессы-мамы!
Иван Михайлович поднял молодого человека за подмышки, умильно поцеловал его и поставил на место, тут же забыв о его существовании.
* * *
В роскошном плюшево-золотом гостиничном номере спал Иван Михайлович Заикин.
Дверь распахнулась, и ворвался антрепренер Ярославцев, потрясая пачкой газет.
– Ваничка! – завопил он плачущим голосом. – И что же ты, дуролом такой, наделал?!
Заикин подскочил на кровати и ошалело уставился на Ярославцева, тараща свои и без того навыкате глаза.
– Ваничка! – еще жалобнее, будто по покойнику, возопил Ярославцев. – Это что же теперь будет?..
– Ты что?.. Ты что? – ничего не понимая, испуганно спросил Заикин хриплым со сна голосом и стыдливо попытался прикрыть свое огромное голое тело краем одеяла.
Ярославцев трагически поднял над головой газеты и тоненько прокричал:
– Ты что же, по миру пустить меня хочешь?! Ты что вчера говорил?
– А что я говорил? – испугался Заикин.
– Говорил, что борьбу бросаешь? Говорил, что уходишь из цирка? Что в Париж учиться летать уезжаешь, говорил?..
– Да что ты! Быть того не может... – растерялся Заикин. – Бог с тобой, Петичка, не было этого.
– А это что? – Ярославцев открыл одну из газет и прочитал: – «И тогда любимец Одессы, несравненный Иван Заикин, заявил, что семь с половиной пудов его веса не помешают ему в ближайшем будущем штопором ввинтиться в облака. Уж если зайца учат танцевать „барыню“...»
– Это медведей учат танцевать...
– Я ничего не знаю! – крикнул Ярославцев. – Здесь так написано! «Уж если зайцев учат танцевать „барыню“, сказал наш богатырь со свойственным ему юмором, то мне, бывшему волжскому грузчику, спортсмену с мировым именем, сам Бог велел подняться в воздух во славу своего Отечества. Бурному ликованию присутствовавших на полетах именитой француженки не было предела. Толпы одесситов кричали „ура!“, поощряя смелое решение известного борца»... Вот так-то, Ваничка!
– Кошмар какой! – в ужасе простонал Заикин. – Саша знает?
– Какой Саша?
– Ляксантра Иванович... Куприн...
– Хохочут-с!
– Господи, стыд-то какой, – сказал Заикин и прикрыл лицо руками. – Да чтоб я еще хоть каплю в рот взял! – Он покачался в отчаянии, а затем отнял от лица руки и рявкнул: – Петька! Беги, купи все эти паршивые газетки до одного листочка! Чтобы ни одна живая душа в Одессе ее прочитать не могла!
– Ты что, Иван Михайлович? И себя, и меня разорить хочешь? Да ты знаешь, во сколько это обойдется?
Заикин испуганно приподнялся с кровати, придерживая сползающее одеяло как тогу.
– Нет, нет, – тревожно сказал он. – Не надо, не надо! Это я погорячился...
И в это время в дверь номера постучали.
– Антре! Будьте вы все неладны... – проворчал Заикин.
Вошел Куприн.
– Сашенька! Ляксантра Иванович! Чего же делать-то теперь? – Огромный Заикин, завернутый в одеяло, с надеждой уставился на Куприна.
Куприн оглядел его с ног до головы и повалился в кресло.
– Там... там, Ванечка, тебя репортеры ждут! – хохотал Куприн и показывал пальцем на дверь. – Они, Ванечка, ждут продолжения твоей увлекательнейшей речи о возможной роли русского мужика в аэронавтике.
– Ах, мать их за ногу! – взревел Заикин, подскочил к двери и в бешенстве рванул ее на себя.
В коридоре толпились мелкие журналисты полутора десятка одесских газет. Но впереди всех, у самой двери, стоял слегка помятый франтик в соломенном канотье, которого Заикин вчера целовал на ипподроме.
Физиономия франтика излучала восторг. К несчастью, он был первым, кто попался Заикину на глаза. Придерживая одной рукой сползающее с плеч одеяло, Заикин другой рукой рывком поднял франтика за лацканы модненького сюртучка над полом и прохрипел:
– Вы что же это, господа хорошие, наделали?! Вы за что же это меня на всю Одессу ославили? А, писатели чертовы?!
И потряс франтиком, словно тряпичной куклой.
Ничего не понимающий франтик, вися над полом на добрых полметра, радостно улыбнулся и приветственно поднял соломенное канотье. А так как франтик был с утра уже не очень трезв, то он к тому же еще и не вовремя икнул.
Заикин поднес франтика к самом носу, с отвращением понюхал и отшвырнул его в толпу репортеров с блокнотами.
– Вон отсюда! – гаркнул Заикин и захлопнул дверь номера перед перетрусившей толпой журналистов.
И только франтик не испугался. Наоборот, он аккуратно поправил сбившийся галстук и восторженно произнес:
– От это да! От это я понимаю! От это человек!..
* * *
В полутемном цирке до седьмого пота тренировался Иван Михайлович Заикин. В старом драном свитере и в десятки раз заштопанных шерстяных трико Иван Михайлович работал с гирями, «мостил», боролся со спарринг-партнерами и изнурял себя всячески, словно замаливал вчерашний грех сегодняшним нечеловеческим напряжением. Лицо заливал пот, глаза ввалились, дыхание с хрипом вырывалось из его широченной груди.
А потом, обессиленный, измученный и притихший, он сидел в седьмом ряду около Александра Ивановича Куприна и безучастно смотрел на арену, где, пыхтя и вскрикивая, тренировались молодые борцы.
– Ты, Иван, верующий? – спросил Куприн.
– Сам не знаю. Крещусь, когда гром грянет. А что?
– Да так просто.
Они помолчали, посмотрели на арену, и Заикин спросил:
– А вот ты мне скажи, Ляксантра Иванович... Ты знаешь, я только тебе верю, и никому боле... Есть Бог или нет?
Куприн внимательно посмотрел на Заикина, вздохнул и почти незаметно пожал плечами:
– Что я тебе отвечу? Не знаю... Думаю, что есть, но не такой, как мы его воображаем. Он – больше, мудрее, справедливее.
И снова Заикин боролся с огромным, превосходящим его по весу борцом. Он швырял эту глыбу, как котенка, проводил «бра-ру-ле», «двойные нельсоны», ловил его на «передний пояс» и демонстрировал такие великолепные «тур-де-бра», что Куприн только качал головой и восхищенно улыбался.
В какой-то момент, когда ноги огромного борца описали в воздухе гигантскую дугу и он в очередной раз шлепнулся на лопатки, Заикин припечатал его к ковру и, дожимая его всей своей силой, вдруг посмотрел на Куприна и крикнул:
– А что, Сашенька, может, действительно бросить все это к чертям собачьим и начать жить сначала?
* * *
После репетиции они шли по набережной, и все прохожие здоровались с ними, а некоторые, приподнимая котелки и шляпы, говорили:
– С отъездом вас, Иван Михайлович!
– Счастливого пути, Иван Михайлович!
– Дай Бог вам счастья, Иван Михайлович, в новом деле!
Заикин поначалу сердился, а потом все чаще и чаще стал растерянно поглядывать по сторонам.
Обедали в трактире Стороженко. Половой, увидев Заикина, заулыбался, закланялся и задом, задом – к хозяину. Выскочил сам Стороженко, вынес бутылку английского коньяку, тоже подошел с приветствием:
– На кого же ты нас покидаешь, Иван Михайлович? Смелый ты, безрассудный ты человек!
Заикину это понравилось – сделал вид, что действительно «смелый» он и «безрассудный» человек и только ему доступен такой неожиданный поворот в собственной судьбе. Однако пить отказался.
Стороженко не обиделся:
– Ничего-с... Домой пришлем, в дорожке пригодится.
– А что, – сказал Ярославцев, – может, и вправду сыграть на случае... А, Ваня?
– А что? Авиация – дело стоящее, – туманно ответил Заикин.
– Большие деньги, Ваня, заработать можно, – сказал Ярославцев.
– Брось, Петро, – брезгливо сказал Заикин. – Она не деньгами стоящая.
И осторожно посмотрел на Куприна. Тот уткнулся в тарелку – сделал вид, что не расслышал своей фразы.
Потом они сидели на прибрежной гальке, смотрели в море.
– Ах, жаль, Сережа Уточкин в Харьков укатил! – сказал Иван Михайлович. – Уж он бы мне присоветовал!
На берегу их было уже пятеро: присоединились к ним Пильский и Саша Диабели.
– Рискуй, Иван, – сказал Куприн, откинулся и лег прямо на камни. – Может быть, тебе суждено сделать подвиг профессией. Человек вообще рожден для великой радости, для беспрестанного творчества. Рискуй, Иван! Ты познаешь мир в еще одном измерении, и вы станете обоюдно богаче: и ты, и мир.
* * *
Три настежь открытые двери цирка втягивали в себя три густых потока одесситов, пришедших на «Последний бенефис чемпиона мира, волжского богатыря и любимца Одессы, знаменитого Ивана Заикина, перед отъездом за границу для изучения авиации!!!»
Так, во всяком случае, гласили афиши, которыми был заклеен весь фасад старого цирка.
Люди, не доставшие билеты, печально и безнадежно провожали глазами счастливцев.
Среди грустных безбилетников был слегка помятый и немножко нетрезвый франтик в лихом канотье. Однако грусти на его лице не наблюдалось, даже наоборот, присутствовало выражение такой веселой решительности, что можно было с уверенностью сказать: он-то попадет в цирк и без билета.
* * *
Перед выходом на арену Заикин разминался двумя двухпудовыми гирями. Через плечо у него была надета широченная муаровая лента, вся увешанная золотыми медалями и жетонами.
Рядом стояли Петр Пильский, баронесса де ля Рош и мсье Леже.
Ярославцев во фраке с бутоньеркой метался среди артистов и борцов, давая последние указания.
Маленькая изящная баронесса смеялась, заглядывая снизу вверх в лицо Заикину, и без остановки щебетала по-французски. Леже сдержанно улыбался.
Пильский переводил:
– Мадам говорит, что она была счастлива видеть тебя на арене, что ничего подобного до сих пор не видела. Но мадам стала еще более счастлива, узнав о том, что ты решил посвятить себя тому делу, которому она предана беспредельно. Мадам говорит об авиации... Кроме всего, мадам счастлива еще и тем, что отныне сможет видеть тебя не только во время своих редких гастролей в России, но и в Париже, и в Мурмелоне, где ты будешь достаточно долго обучаться воздухоплаванию. Ты можешь оставить в покое эти дурацкие гири? – раздраженно добавил Пильский.
– Ты передай мадам, что я не собираюсь очень-то долго учиться. Я в общем-то мужик понятливый... – не обращая внимания на Пильского, сказал Заикин, продолжая поднимать гири.
Пильский криво ухмыльнулся и перевел.
Де ля Рош весело рассмеялась и снова защебетала.
– Мадам говорит, что обстоятельства, с которыми тебе, к сожалению, предстоит столкнуться в Мурмелоне, в школе мсье Анри Фармана, могут оказаться сильнее всякого твоего желания поскорее закончить обучение, – сказал Пильский. – А кроме того, она сама постарается сделать все, чтобы как можно дольше удержать тебя там.
Леже грустно улыбнулся и сказал несколько слов по-французски. Де ля Рош расхохоталась.
– Мсье Леже говорит, что для тебя это самая большая опасность, в сравнении с которой время, затраченное на обучение и постройку аэроплана, покажется тебе мгновением, – перевел Пильский. – Поставь немедленно эти гири! Разговаривать с дамой, держа в руках эти идиотские штуки, неприлично.
– Я на работе, – спокойно сказал Заикин, не прекращая разминки. – А разговор у нас приватный, к службе отношения не имеющий.
Де ля Рош подняла внимательные глаза на Заикина и, дотронувшись до рукава Пильского, что-то спросила.
Пильский пожал плечами и посмотрел на Леже. Тот вздохнул, улыбнулся и развел руками.
– Чего это вы? – подозрительно спросил Заикин.
– Мадам просит разрешения поцеловать тебя. Она говорит, что во Франции ей не пришло бы в голову ни у кого просить на это разрешение, но в России, где, как ей кажется, запрещено все, она вынуждена это сделать.
– Чего сделать? – спросил Заикин. – Поцеловать?
– Да нет! Попросить разрешения.
– А чего? Пусть целует, – сказал Заикин. – Баба красивая.
Пильский перевел де ля Рош ответ Заикина, и баронесса, весело смеясь, встала на цыпочки и нежно поцеловала Ивана Михайловича.
Заикин поставил гири на пол, снял со своей толстенной шеи одну из золотых медалей, осторожно повесил ее на тоненькую хрупкую шею баронессы де ля Рош и повернулся к Пильскому:
– Ты ей скажи, что эту медаль я поклялся самолично повесить на шею тому, кто меня положит на лопатки. Пока что, Бог миловал, этого никому еще не удавалось. А вот ей теперь эта медаль по праву принадлежит. «Туше» чистое...
Пильский начал переводить то, что сказал Заикин, а Иван Михайлович поднял с пола гири и опять стал ритмично разминаться.
Де ля Рош поднесла медаль к губам и проговорила длинную фразу. Леже обреченно вздохнул. Пильский промолчал, и Заикин вдруг нервно и требовательно спросил у него:
– Чего она сказала? Переведи.
Пильский улыбнулся баронессе и Леже и ответил сквозь зубы:
– Что могла сказать эта дура? Эта самка? Она, видишь ли, готова плакать оттого, что уезжает сегодня и не сможет быть на твоем последнем представлении. Но, поцеловав тебя, она увезет во Францию вкус самого сильного мужчины, которого ей пришлось когда-либо встретить... По-моему, это пошлость, поистине не знающая границ! – добавил Пильский от себя.
– Это по твоему разумению, – спокойно сказал Заикин. – А мне так понравилось.
Подскочил Ярославцев, любезно поклонился и сказал:
– Пардон, мадам! Пардон, мсье! Ваня, кончай баланду, скоро третий звонок. Петр Осипович, уводи французов к едрене фене, нам еще нужно прорепетировать очередность бенефисных подношений.
И еще более любезно поклонившись французам, Ярославцев умчался, размахивая списком.
* * *
В двухместном купе спального вагона сидела мадам де ля Рош и разглядывала большую золотую медаль.
Поезд тронулся, и мимо окон купе поплыл одесский вокзал с провожающими, носильщиками, городовыми, со всем тем, что характерно для любого вокзала со времени изобретения железной дороги до наших дней.
Открылась дверь купе, и вошел Леже в дорожном костюме.
– Все в порядке, – сказал он. – Сейчас принесут ужин. А может быть, ты хочешь пойти в вагон-ресторан?







