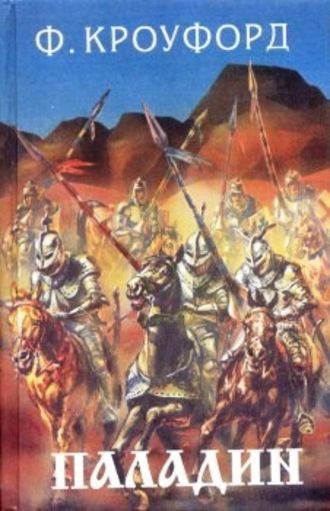
Френсис Мэрион Кроуфорд
Две любви
IV
Спустя два месяца после того, как сэр Арнольд Курбойль оставил Жильберта Варда в лесу, считая его мёртвым, под тёмной тенью монастырских галерей, окружавших сад Ширингского аббатства, шёл высокий молодой человек, опираясь на плечи двух монахов «серого братства». Он был так бледен и худ, что походил скорее на призрак. Один из братьев нёс коричневую кожаную подушку, а другой – кусок грубого пергамента, служившего вместо веера. Когда они достигли первой каменной скамьи, они поместили больного как можно удобнее.
Три монаха-путешественника, возвращавшиеся из Гарло в Ширингское аббатство коротким путём, через лес, нашли Жильберта плававшим в своей крови, десять минут спустя после отъезда рыцаря. Не зная, кто он был, они взяли его в аббатство, где юношу тотчас же узнали монахи, составлявшие погребальное шествие в предыдущий вечер, и другие лица, которые его также видали.
Брат, на обязанности которого лежало ухаживать за больными, был прежде солдатом и имел шрамы от дюжины ран. Как недурной хирург, он объявил положение Жильберта почти безнадёжным и уверил аббата, что возвращение юноши в его замок будет верной смертью для молодого владельца Стока. Его положили на новую кровать в высокой комнате с широкими полукруглыми окнами на запад. Братья ожидали, что Жильберт Вард вскоре отдаст последний вздох, и положит конец его имени и роду. Аббат послал в Сток-Режис посланника, чтобы уведомить леди Году о положении её сына. На другой день она явилась повидать Жильберта, но он её не узнал, так как у него была сильная горячка. Прошло три дня, она ещё один раз возвратилась, но он спал, и больничный служитель не хотел его беспокоить. Затем она отправляла посланников за справками о состоянии здоровья раненого, но сама она больше не являлась. Это сначала удивило аббата и монахов, но позже они все поняли.
Жильберт пережил свои ужасные раны, так как был молод, силён и имел чистую кровь.
Когда наконец ему позволили встать на ноги, он походил на тень. Сначала на него надели монашескую одежду, так как её было легче носить, но вскоре он был достаточно силён, чтобы выйти из своей комнаты и оставаться в продолжение часа на каменной скамье монастырской галереи. В этот день около него сидел один только брат-монах и медленно обмахивал его листом жёлтого пергамента, похожего на тот, которым монахи переплетали свои книги; другой брат возвратился к своей работе.
Жильберт откинулся назад и закрыл глаза, упиваясь воздухом, согретым солнцем, и запахом цветов, росших в монастырском саду. На него низошло то необъяснимое чувство мира, которым наслаждаются люди, вырванные у смерти, когда прошла опасность, и жизнь медленно к ним возвращается. Невозможно, чтобы молодой человек с впечатлительным характером и верующий, проведя два месяца в большом монастыре, не почувствовал бы тяготения к монастырской жизни.
Лёжа в своей постели целыми, часами днём и в бессонные ночи один, хотя какой-нибудь из братьев монахов всегда являлся на его первый зов, Жильберт следил с двойным зрением больного за существованием двухсот монахов, живущих в Ширингском аббатстве. Он знал, что они встают с восходом солнца, что собираются в тёмной часовне аббатства для утренней молитвы, а затем идут на работу: братья-послушники и новички – в поле, учёные отцы – в библиотеку и в зал для письма. Он мог следить за ними ежедневно во время молитвы и за работой; его сердце было вместе с ними. Истомлённому и исхудалому, каким он был, жизнь в сражениях и любви, казавшаяся ему когда-то единственно стоившей труда существования, теперь казалась невозможной и исчезала во мраке невозможности. Он не желал более славы. Он имел тем менее успеха в своём первом большом кровавом бою; убийца отца был жив, сам же он едва избегнул смерти. Ему казалось, что его похудевшая и побелевшая рука, которая с трудом могла надвинуть одеяло на грудь, когда ему было холодно, никогда более не будет в состоянии сжать рукоятку шпаги или держать повод лошади. В этом полном истощении физических сил ему представлялось привлекательным, чудно притягательным его собственное изображение в качестве монаха, молодого аскета или святого. Он заставил брата-больничного научить себя молитвам из дневной и ночной церковной службы, и он повторял их в определённые часы, думая, что таким образом действительно участвует в монастырском существовании. Мало-помалу, по мере того, как он лучше сознавал дух монастыря, – Евангелие прощения, камень преткновения сражающихся, научило его, что забвение обид может существовать, не бесчестя прощающего, и его решение убить сэра Арнольда уступило место широкому раскаянию, что он желал даже отомстить ему.
Одно обстоятельство его постоянно тревожило, которое в то же время было выше его понятия. Его мать, по-видимому, забыла об его существовании, и он не помнил, видел ли он её во время болезни. Он спрашивал о ней ежедневно и просил аббата уведомить леди Году и попросить её приехать в аббатство. Аббат улыбался, делал знак головой и, казалось, обещал, но если посланный бывал отправлен, он никогда не мог добиться ответа. Спустя некоторое время, когда Жильберту действительно стало лучше, из Сток-Режиса более никого не являлось справляться о нем. Так как Жильберт считал свою мать высшим существом и так же, как его отец, ошибался, считая её преданной, то по мере того, как протекало время, и она безусловно пренебрегала им, в нем проснулось опасение. Ему представилось, что с леди Годой случилось что-нибудь ужасное, неожиданное. Однако аббат ничего ему не говорил, тем менее ухаживавшие за ним братья. Одно они знали утвердительно, что леди Года совершенно здорова.
– Скоро, – отвечал Жильберт, – я буду в состоянии возвратиться домой и сам все увижу.
Тогда аббат улыбнулся и, подняв голову, заговорил о жаркой погоде.
Но в этот именно день, так как Жильберту было позволено покинуть комнату, он решился потребовать объяснения. Был ещё час до полудневной трапезы, когда аббат пришёл прогуляться на галерею, окружавшую монастырский сад. За ним следовали на почтительном расстоянии два монаха, шедшие рядом, опустив глаза и спрятав руки в свои рукава; их висевшие верёвочные пояса ритмично раскачивались, пока они шли. Когда они приблизились к Жильберту, брат-больничный встал и спрятал свои руки в серые шерстяные рукава.
Жильберт открыл глаза при шуме шагов аббата и сделал движение, как бы желая встать, чтобы приветствовать величественного священнослужителя, часто посещавшего юношу в его комнате. Жильберт чувствовал к нему симпатию, естественную между людьми его расы и его воспитания, так как Ламберт, аббат Ширинга, был членом большого нормандского дома Клера, принадлежавшего к партии короля Стефана, участвовавшей в гражданской войне, что не мешало аристократу-аббату говорить с мягкой иронией, а иногда с горьким сарказмом о суетности притязаний Стефана.
Он положил свою руку на рукав Жильберта, чтобы заставить его оставаться неподвижным, и занял место возле него на скамье. По его знаку монахи удалились; они ушли на противоположную сторону галереи, где уселись в молчании. Аббат, человек деликатного сложения, с мужественными нормандскими чертами лица, с выцветшей бородой, когда-то белокурой, и с очень блестящими голубыми глазами, положил с доброжелательностью одну из своих прекрасных рук на руку Жильберта.
– Вы спасены, – сказал он со счастливым видом. – Мы исполнили нашу роль; молодость и солнце сделают остальное; теперь вы очень скоро станете сильным и через неделю потребуете у нас вашу лошадь. Её нашли возле вас, и о ней очень заботились.
– Так на будущей неделе я вернусь в Сток, чтобы увидеть мою мать? Но я думаю возвратиться сюда, чтобы жить среди вас, если вы меня примете.
Жильберт улыбнулся, произнеся последние слова, но лицо аббата оставалось сурово, и брови его нахмурились, как будто он затруднялся высказаться.
– Лучше остаться с нами сейчас же, – сказал он, подняв голову и отворачивая глаза.
Жильберт несколько секунд сидел неподвижно, как будто эти слова не произвели на него никакого впечатления; затем, дав себе отчёт, что они имеют особое значение, он слегка задрожал и повернул свои усталые глаза к аббату.
– Не ехать, чтобы повидаться с моей матерью?
Его голос выражал сильное удивление.
– Нет… не теперь, – ответил аббат, прижатый к стене прямотой вопроса.
Несмотря на свою слабость, Жильберт полуприподнялся со своего места и его похудевшие пальцы нервно схватили руку монаха. Он хотел говорить, но сильное волнение овладело им, как будто он не знал, какой задать первый вопрос, и прежде чем слова сложились на его губах, аббат сказал ему нежно, но авторитетно:
– Послушайте меня, сядьте спокойно возле и слушайте, что я скажу вам, так как теперь вы' мужчина, и лучше, чтобы вы узнали все немедленно и через меня, чем завтра или послезавтра жестокосердно и из бессердечной несвязной болтовни братьев.
Он на минуту остановился, все ещё держа руку молодого человека с видом сострадания и чтобы заставить его не подниматься.
– Что такое? – спросил нервно Жильберт, полузакрыв глаза. – Скажите мне это скорее.
– Скверная весть, – сказал монах. – Печальная весть, одна из тех, которые меняют жизнь человека.
Жильберт снова задрожал ещё сильнее и воскликнул с выражением крайнего ужаса:
– Моя мать умерла?
– Нет, не это. Она вне опасности. Она хорошо поживает, лучше, чем хорошо, она счастлива.
Жильберт посмотрел на аббата почти глупо, подозревая менее всего на свете, что он может узнать, если все это было верно, дурное известие относительно матери.
И, однако, казалось странным, что аббат настаивает на счастье леди Годы в то время, как у двери Жильберта находилась смерть в продолжение нескольких недель, и когда он знал, что матери неизвестно об его выздоровлении.
– Счастлива! – повторил он с видом странного безумия.
– Слишком счастлива, – ответил прелат. – Ваша мать вышла замуж, едва прошёл месяц после вашего приезда сюда.
В продолжение минуты после того, как монах перестал говорить, Жильберт смотрел ему прямо в лицо. Затем он откинулся к стене, находившейся позади него, издав нечто вроде болезненного стона. Одно слово заставило задрожать под его ногами землю, другое пронзило ему грудь.
– Кто её муж? – спросил он задыхающимся голосом.
Прежде чем ответить, рука аббата крепче и дружески сжала руку Жильберта, чтобы возбудить в нем храбрость выслушать ответ.
– Ваша мать вышла замуж за сэра Арнольда Курбойля.
Жильберт вскочил, как будто его ударил по лицу неприятель. Момент назад он не мог бы подняться без помощи; спустя минуту, он снова упал на руки аббата. Ничто испытанное им в его кратковременное существование, ни радость, ни страх детства, которое в общем содержит самые большие радости и самые большие горести жизни, ни беспорядочные воспоминания первого дня сражения, ни потрясение при виде, как убивают отца на его глазах, ни одно из этих волнений не могло сравниться с тем, что он испытывал перед этим откровенным объявлением о бесчестии, нанесённом его дому и отцу.
– Теперь, клянусь святой кровью…
Прежде чем он мог произнести торжественную клятву отмщения, поднявшуюся из его сердца к губам, нежная рука аббата почти сдавила ему рот раскрытой ладонью, чтобы остановить эти слова.
– Арнольд Курбойль, клятвопреступник перед Богом, неверный перед королём, убийца своего друга, обольститель его жены, годится для моих молитв, – сказал монах, – а не для вашей шпаги. Не приносите клятвы убить его, ещё менее клянитесь, что вы отмстите вашей матери; но если вы испытываете необходимость поклясться в чем-нибудь, то скорее дайте обет, что вы покинете их на произвол судьбы, и что вы не встанете добровольно поперёк их дороги. В самом деле будете вы обещать или нет, надо, чтобы вы держались вдали от них до тех пор, пока вы будете в состоянии потребовать, что вам принадлежит, с некоторой надеждой получить обратно.
– Что мне принадлежит! – воскликнул Жильберт. – Разве Сток не мой? Разве я не сын моего отца?
– Курбойль завладел Стоком обманом так же, как овладел вашей матерью. Как только он на ней женился, то повёз её в Лондон; оба они представились королю Стефану, и леди Года извинилась перед двором, так как её первый муж был предан императрице Матильде. Она попросила короля даровать владения Сток-Режис, замок и все принадлежащее к нему сэру Арнольду Курбойлю, лишив вас наследства, вас, её сына, потому что вы верны императрице, и потому что, как она поклялась, вы хотели изменнически убить сэра Арнольда в Стортфордском лесу. Таким образом у вас более нет ни семьи, ни земли, ни имущества – ничего, кроме вашей лошади и шпаги; так вам лучшего ничего не предстоит делать, как остаться с нами.
После того, как монах перестал говорить, Жильберт хранил молчание. Он казался жестоко подавленным известием, что лишён наследства; его руки неподвижно и слабо упирались на колени, выражая глубокое отчаяние. Он поднял голову очень медленно и уставил глаза на единственного друга, который ему остался в его одиночестве.
– Так я отщепенец, – сказал он, – изгнанный, нищий. ..
– Или монах, – внушал ему, улыбаясь прелат.
– Или искатель приключений, – возразил Жильберт, тоже улыбаясь, но с горечью.
– Большая часть наших предков поступали так, – сказал аббат, – и они собрали этим прекрасные доходы, например, Нормандию, Аквитанию, Гасконию… и Англию. Не дурное наследство для горсти пиратов, полученное в битве против всего света.
– Да, но эта горсть пиратов были нормандцами, – сказал Жильберт, как будто это одно должно объяснить победу над вселенной. – Но свет наполовину побеждён, – заключил он со вздохом.
– Ещё осталось довольно для тех, кто сражается, – ответил торжественно аббат. – Святая земля ещё даже и на половину не завоёвана и до тех пор, пока вся Палестина и Сирия будут христианскими королевствами под управлением христианского короля, есть ещё земли для попирания нормандской ногой и мяса для нормандской сабли.
Выражение лица Жильберта несколько изменилось, и в его глазах заблестел свет.
– «Святая Земля», Иерусалим!..
Эти слова медленно сошли с его губ, как бы вызывая какое-то сновидение.
– Но времена слишком стары; кто пожелает нынче проповедовать новый крестовый поход?
– Человек, слова которого – бич, сабля и корона… человек, который управляет светом.
– Кто же это? – спросил Жильберт.
– Один француз, – ответил аббат. – Бернард из Клэрво, самый великий человек, самый великий мыслитель, самый великий проповедник и самый великий святой в наше время.
– Я слышал о нем, – ответил Жильберт, с разочарованием больного, думавшего узнать что-нибудь новое. Затем он слабо улыбнулся.
– Если это творец чудес, то он найдёт во мне хорошего субъекта.
– У вас есть здесь дом и друзья, Жильберт Вард, – сказал аббат с суровым видом. – Оставайтесь, сколько хотите, и когда вы снова будете готовы к мирской борьбе, вы найдёте кольчугу, хорошую лошадь и кошелёк с золотом, чтобы снова начать вашу жизнь.
– Благодарю вас, – сказал Жильберт слабым тоном, но полным признательности. – Мне представляется, что жизнь моя не начинается, а напротив кончилась. В один час я потерял моё наследство, мой замок и мою мать. Этого достаточно, так как это все, и вместе с этим у меня похитили даже любовь.
– Любовь?..
Аббат казался удивлённым.
– Можно ли жениться на дочери мужа матери? – спросил с горечью и почти с презрением Жильберт.
– Нет, – отвечал аббат, – этот случай входит в запрещённые степени свойства.
Долго Жильберт оставался погруженным в горькое молчание. Тогда аббат, видя, что он очень устал, позвал монахов, которые приблизились, и проводили выздоравливающего в его комнату. Но когда он ушёл, ширингский аббат начал задумчиво шагать но галерее, до тех пор, пока в трапезной не ударил колокол к обеду, и он услышал глухие шаги двухсот проголодавшихся монахов, которые торопились к трапезе по лестницам и отдалённым коридорам.
V
На заре одного осеннего утра по песчаному берегу Дувра с сильным приливом, сотня полураздетых матросов тащили в море длинное, чёрное нормандское судно, катившееся по деревянным подпоркам через низкие прибои волн к далёкой серой зыби. Маленькое судно спускалось на волны кормой посредством брошенной цепи, прицепленной к его бокам наравне с ватерлинией. Длинный кабель, проходивший сквозь грубый, громадных размеров блок и примыкавший к кабестану, помещённому гораздо выше значка высокого прилива, отшвартованного крючком цепи к якорю, закопанному в песок до толстого деревянного штока.
Высокий старик с развевавшейся седой бородой и с цветом лица, похожим на солёную бычью кожу, спускал с барабана кабестана кабельтов, по мере того, как судно медленно скользило по подпоркам, хорошо смазанным салом. Время от времени оно произвольно останавливалось на короткий срок, отказываясь двигаться вперёд. Но двадцать дюжих матросов, погрузившись ногами наполовину в песок, заставляли усилиями и попеременными подпираниями качаться маленькое судно на киле и направляться с берега к воде, напирая в его обшивные доски своими широкими плечами и упираясь грубыми загорелыми руками в бедра, как множество атлантов поддерживающих миры.
На корме судна стоял хозяин, готовый поставить на место длинный руль, как только судно будет в воде. Впереди два человека взялись за конец кабеля, которым был брошен якорь на пятьдесят футов гораздо далее чтобы поддерживать его отвесно, когда судно покинет стапель. У подножья мачты, которая была на судне только одна, стоял Жильберт Вард, наблюдая за всем, что делалось, с глубоким интересом невежды относительно морского дела. Вся эта процедура казалась ему слишком медленной, и он спрашивал себя, почему человек с большой бородой не отпустит всего кабеля, так чтобы судно могло само спуститься. И пока он пробовал разрешить эту задачу, случилось нечто непонятное для него; хор диких завываний раздался со стороны матросов, помещённых по обеим сторонам; хозяин, стоявший около руля, поднял руку и громко вскрикнул: старик бросил все и завыл в ответ; Жильберт услышал шум цепи. Внезапно судно задвигалось и пустилось, как стрела по прибою с короткими волнами; затем пока два человека спереди, как безумные, с руки на руку собирали концы кабеля, с трудом переводя дыхание, до тех пор, пока наконец судно заколыхалось в носовой части на серой, покрытой беляками воде, и осталось спокойно на своём якоре.
Час спустя, благодаря двадцати вёслам, ритмически взмахивавшимся в уключинах, и попутному северо-западному ветру, ясно очерченное гребное судно было уже далеко в Ла-Манше. Ранее ночи при благоприятном и свежем ветре хозяин бросил якорь в Кале почти под сенью замка графа Фламандского.
Таким образом Жильберт покинул Англию авантюристом, лишённым всего, что он должен наследовать. И он обязан был Ламберту де Клеру, ширингскому аббату, всем, чем владел в данную минуту: кольчугой и другими принадлежностями вооружения, одеждой, какую необходимо было взять в путешествие молодому дворянину, двумя лошадьми и кошельком, которого хватит ему на несколько месяцев. Его слугой был молодой саксонец с белокурыми волосами, спасшийся из Стока в Ширинг. Он отказался покинуть Жильберта, на которого смотрел, как на своего законного господина. Молодой человек имел при себе также лакея своих лет. Это был смуглый человек, найдёныш, которого монахи окрестили именем Дунстана – святого их ордена. Воспитанный и обученный аббатом, по-видимому, не знавший ни от кого он родился, ни откуда он явился. Однако молодой человек не мог согласиться вступить в послушники, пока в свете было место для смелых искателей приключений.
Это был юноша с дарованиями, быстро усваивавший и упорный на запоминания. Он говорил по-латыни, и на наречиях франко-нормандском, англо-саксонском, как ни один из монахов аббатства. Проворный на руку и лёгкий на ногу, с чёрными, отважными глазами, в которых с трудом можно было отыскать зрачок, тогда как белки были холодно серо-голубоватые, часто налитые кровью, волосы его были короткие и жёсткие, а лицо напоминало молодого сокола. Он так упрашивал, чтобы и ему позволили отправиться с Жильбертом, и притом так очевидна была его неспособность к монашеской жизни, что аббат дал своё согласие. В продолжение последних недель Жильберт, силы которого с часу на час возвращались, и который не мог более переносить замкнутой монастырской жизни, сделал Дунстана своим товарищем, прогуливаясь с ним пешком и верхом, так как юноша был хороший наездник. Иногда они вступали с ним в длинные споры относительно веры, совести и чести; оба были привязаны один к другому различием между ними. Это не была привязанность друзей и ещё менее господина и слуги, она была скорее того рода, которая существует между рыцарем и оруженосцем, хотя оба были одних лет, и Жильберт не имел никаких шансов получить немедленно рыцарские шпоры.
Однако было трудно допустить, что Дунстан мог бы добиться рыцарства. В идеях рыцарства есть странный пробел, а в его нравственной организации любопытные пятна, указывающие на другую расу, другое наследственное мышление, традиции более древнего мира и менее простого, чем тот, в котором воспитывался Жильберт.
Жильберт был типом благородной молодёжи того времени, когда светоч рыцарства царил над веком насилий, но сиял ещё не вполне. Бог, честь, женщина составляли простое триединое понятие о вере и уважении рыцаря с момента, когда церковь начала установлять орден воинов, имевших особые обычаи и обязанности. Они соединяли таким образом навсегда высокие понятия истинного христианства и настоящего благородства.
За отсутствием всякого образования у светских людей этой эпохи, в жизни играло роль самое простое и оригинальное воспитание, и Жильберт приобрёл этот род образования в самой возвышенной и лучшей форме. Цель образования, собственно говоря, – предоставить знание специального предмета, в особенности, когда оно становится средством к существованию. Цель воспитания – сделать людей, пропитать их характер честью, дать человечеству нравственную силу безукоризненного джентльмена, а оно может обнаружиться лишь в вежливых манерах, скромном виде и отважности. Названные качества были глубоко соединены в уме людей первоначальных времён с внутренними принципами и внешними христианскими обрядами. Это была безусловная простота и в известной мере пространная гармония верований, принципы и правила поведения, делавшие жизнь возможной в такое время, когда современное искусство управления было в зачатке, а идеи конституции терялись в хаосе тёмных лет, где распоряжение королевствами, графствами и обществом было чисто личным делом, зависевшим только от индивидуального характера или каприза, добродетели и порока, любви к ближнему и алчности. Без рыцарства общество, свет и церковь были бы лёгкими добычами самых ужасных человеческих чудовищ, снедаемых честолюбием средневековых, неверующих вельмож, спорадически метавшихся из Англии в Константинополь, из Парижа в Рим. Обыкновенно, почти неизменно они кончали роковой неудачей, побеждённые, попранные нравственным человеческим родом, стремившимся к добру. Эти опасные люди были – Иоанн XII, из дурной расы Феодоры в Риме; еврей Пьерлеон, живший сто лет позже; король Иоанн Английский и, наконец, последний, быть может, величайший из всех, так как был хуже всех – цезарь Борджиа.
Быть джентльменом в то время, когда Генрих Плантагенет был двенадцатилетним ребёнком, а Жильберт Вард ехал представиться ко двору герцога Нормандского, не значило отличаться многими качествами. Необходимо было иметь несколько нравственных принципов и самое большое два или три таланта. Но это тоже означало, что этими простыми качествами джентльмен должен обладать в наилучшем смысле, и этот род совершенства был корнем социального превосходства во все века. Мы слышали о любителях-артистах, любителях-воинах и любителях – государственных людях, но никогда не слыхали о любителях-джентльменах. Жильберт Вард латинский язык знал плохо, только несколько молитв, которым научил его капеллан Стока, но он верил от всего своего сердца и души в силу этих молитв. Франко-нормандский язык благородной Англии был не тот, что по ту сторону моря, у более утончённых братьев французов. Впрочем, хотя язык выдавал его происхождение, но у Жильберта было нечто, служившее ему среди себе равных лучше, чем французское произношение, – грация, непринуждённость без жеманства и радушная учтивость, качества прирождённые, как талант и гений. Но они достигают совершенства лишь в атмосфере, к которой они принадлежат, и среди лиц, одинаково обладающих ими. С верованиями и благородными манерами он ещё ловко владел оружием и особенно шпагой. Для джентльмена той эпохи был безусловно необходим единственный талант: это глубокое знание всякого рода охоты, начиная от соколиной и до охоты на кабана. В этом отношении Жильберт равен по искусству с большей частью молодых дворян. Несмотря на свою молодость, он был совершенно подготовлен к светской жизни. Кроме этих преимуществ у него было ещё одно: Жильберт чувствовал, что даже отправляясь жить среди чужеземцев, он встретит людей, думающих и действующих, как он сам, веря, что их способ действовать и думать лучше, чем у других.
Пока он бродил вдоль дюн, он не думал ни об этом, ни о своих проектах. Его жизнь казалась ему странной, благодаря своей внезапной и полной перемене.
Большой переменой был для него переход от роскошной жизни, спокойных наслаждений, обеспеченного существования, местных почестей, перспективы тихой любви, делавшей все честолюбивые мысли безумными и пустыми, к обладанию только парой хороших лошадей, солидным оружием, небольшими карманными деньгами, с которыми ему предстояло завоевать мир. Однако громадная разница этих двух положений была для него незначительной рядом с более жестокими несчастиями, о которых молодой человек раздумывал во время пути. Они отравили его молодую жизнь, отняв самые высокие и прекрасные иллюзии и самую дорогую надежду на счастье.
Падение образа его матери, вознесённого им на алтарь, неизбежно увлекло с собой и его прошедшее детство, каким Жильберт представлял его себе. В ужасном свете его истинной природы, в сумме зла, казавшегося ему внезапным, то немногое хорошее, которое он должен бы сохранить в своих воспоминаниях, уменьшилось до Ничтожества. Ему казалось невозможным, чтобы его мать, вышедшая замуж за убийцу своего мужа через месяц после его смерти, могла питать искреннюю любовь к Раймунду Варду, или иметь хоть самое лёгкое расположение к сыну, сначала брошенному ею, а затем предательски лишённому ею наследства. Но в его сердце ещё существовало время, когда он питал к ней сыновний культ, и он оплакивал те части в своей одинокой скорби. Ничто не заменит её места, она удалилась, унеся с собой все сладкие и нежные воспоминания целого существования.
Когда его внутреннее зрение искало её, то ничего не находило, и весь свет угасал в потёмках его души. В действительности его мать не умерла, как его отец, но она была мертва для чести. В его памяти Раймунд Вард остался таким, каким Жильберт видел его в последний раз, – бледным и окоченелым в своей кольчуге. Но все-таки это был он сам, все-таки он сам, каким был при жизни и каким сделался потом в месте мира и успокоения, где покоятся храбрые. В его спокойных чертах отразилась навсегда истина, в которой протекло все его существование. В скрещённых на груди руках лежал последний внешний символ безыскусственной простой веры, руководившей им в жизни. Его могучий абрис необыкновенной силы говорил в величии смерти об исполненных им славных делах.
При жизни Раймунд Вард был для своего сына образцом самого почтённого из всех человека; мёртвым он остался во всех отношениях несравненным, бесподобным, высшим существом. Не все ли равно для Жильберта, что он безмолвен, ведь он всегда говорил правду, – что он неподвижен, как камень, но при жизни его рука была быстра и ради доброго дела наносила удары, о которых все помнили. Не все ли равно, что он теперь глух, но он слышал крики слабых и спасал их; что он слеп, но его глаза не раз видели свет победы и смело взглянули на честную смерть. Он покоился навсегда в сердце своего сына честным, искренним, храбрым и сильным, каким был он во всем. В то время, как сдерживаемые слезы жгли Жильберту мозг, он повернул свои глаза в другую сторону. Не раз желал он видеть свою мать покоившейся рядом с отцом в её телесной оболочке, но сохранившейся для сына в том, что не умирает в женщине – любимой и почитаемой – через поучения в памяти её потомков; он хотел, чтобы она осталась навсегда матерью в его сыновней памяти.
Вопреки этим утешительным мыслям, вызвавшим воспоминания о семейном очаге, перед ним являлась эта женщина не той, как он представлял её всегда, а какой её видели иногда другие. Отвратительнейший и безвозвратный проступок, совершённый ею, отпечатал на её лице свой след, и в бессознательной памяти Жильберта восстали подробности оскорбления, когда его любовь впервые была отброшена ею. Её холодные черты были твёрды, как камень, глубокие синие глаза – лживы и без веры, тонкие и красные губы презрительно улыбались, показывая мелкие и хищные зубы, а в рыжих волосах виднелся оттенок пламени.
Лучше было бы ей умереть, в тысячу раз лучше ей исчезнуть раньше времени, чем её сыну сохранить такое воспоминание о своей матери.
Черты её лица отгравировались остриём его первого горя на самой болезненной части его сердца; едкая горечь новой и неестественной ненависти все глубже снедала его с каждым днём. А когда, против воли Жильберта, его ум останавливался на ней и сознавал, что проклинает ту женщину, которая родила его, тогда в отчаянии он предавался мысленно религиозной жизни.
Но хотя монастырь привлекал Жильберта, взывал к наилучшей стороне его природы, в то время, когда смерть коснулась его своим крылом, теперь же привлекательность была уже не совсем та, гораздо менее непреодолимая. Он понял, что монастырь был бы единственной возможной жизнью для лиц, прошедших через серию неудач, от света к мраку, от счастья к горю… Он годился для людей, ничего более не любящих и ни на что не надеющихся, которые ничего не могут более ненавидеть и предаются полному отчаянию. Они ищут покой, как единственное земное благо, которое они ещё могут изведать, в монастыре же его было довольно. Надежда умерла в их настоящей жизни, и они искали освежение в надежде будущей жизни. Монастырь был хорош для несостоятельных в любви и в борьбе. Но должна же быть другая форма существования для тех лиц, молодость которых была ранена, но не умерла, кровь – ещё сильна и тепла, воля пылка для добра и зла, для людей, которым ещё предстояла борьба. В ней они должны иметь средство против судьбы, которое не было бы оскорблением Бога. Эта борьба не была бы сопротивлением воле Божьей и возмущением. Добродетель не означала бы в ней темницы для души и тела, а надежда на спасение – монашеской кельи.







