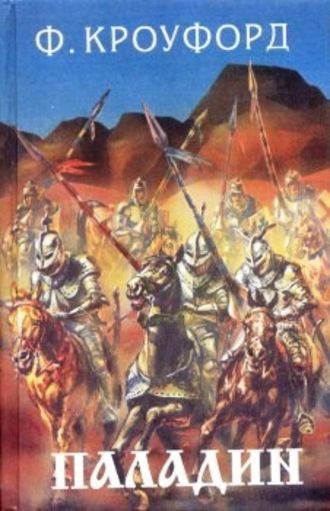
Френсис Мэрион Кроуфорд
Две любви
Текст печатается по приложению к журналу «Исторический Вестник», С.-Петербург, 1903 г .
Текст печатается в редакции 1903 г .
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
I
Был полдень 5-го мая 1145 г . В небольшом саду, расположенном между внешней стеной и рвом Сток-Режисского замка, медленно прогуливалась дама. Узкая аллея, по которой она шла, была окаймлена с одной стороны длинной живой изгородью розовых кустов, а с другой – цветником. Последний был разделён на множество маленьких квадратов, засаженных попеременно цветами и душистыми травами и окаймлённых фиалками. Линия, где оканчивалось цветочное насаждение, переходила в колосистый тростник, беспорядочно росший по берегу глубоких зелёных вод рва. Далее тянулся лужок с подстриженной бархатистой травой, затем виднелись большие дубы, весенние листья которых давали незначительную тень; а там за ними пашни и долины развёртывались длинными, зелёными волнами вспаханной земли и пастбищ так далеко, как только мог видеть человеческий глаз.
Солнце закатилось; его лучи окрашивали красноватым Цветом золотистые волосы дамы и воспламеняли нежность её голубых глаз. Она шла волнистой походкой, полной непринуждённости. В её гибких манерах виделись разом сила и грация. Хотя она не была совсем молодой женщиной, но никто не мог бы утверждать, что она перешла зрелый возраст. Её черты лица в первые годы её юности были холодной и резкой правильности и могли сделаться острыми в старости, теперь же в полном расцвете её жизни они смягчились и округлялись. В то время, как солнечное золото темнело в теплом воздухе и окрашивало глаза и волосы дамы, в её лице произошла перемена, о которой она даже не подозревала. Белая мраморная статуя внезапно изменилась в тёмную золотую, может быть, все ещё прекрасную, но выражение и смысл были уже не те. В слишком большом изобилии драгоценного металла всегда есть что-то дьявольское. Это нечто есть символ внушающий идею алчности, добычи, выгоды, всего, что заставляет жить честолюбивых безумцев-богачей. Между тем чаще всего одним только фактом уничтожения золота или серебра выражают достоинство и простоту, что вовсе не исключает грандиозности.
Над закатывавшимся солнцем плыли тысячи маленьких облачков, лёгких и волнистых, как лебяжий пух. Одни были ослепительного блеска, другие окрашены розоватым цветом, третьи – ещё далеко на востоке – уже пурпуровые. Само небо было похоже на мистическую форму гигантского крыла, как будто какой-нибудь громадный архангел витал на горизонте, направляя украшенное драгоценностями крыло к земной тверди. Другой архангел, находившейся под ним, был невидим. Как раз под перистой дубовой листвой, позади которой скользило солнце, длинные красные, жёлтые и жгучего цвета императорского пурпура полосы перерезали небо направо и налево. Над большим рвом лёгкие и гибкие стрекозы и мотыли, живущие один день, преследовали друг друга сквозь розоватый туман.
Когда закатившееся солнце бросило последний прощальный взгляд между дубами, расположенными на бугорке, дама остановилась и обернулась к свету. На её лице отражалось любопытство, ожидание и немного беспокойства, но не было видно нетерпения. Прошёл уже месяц с тех пор, как Раймунд Вард, её муж, отправился с полудюжиной своих оруженосцев и слуг приветствовать императрицу Матильду. Правда, что двор этой принцессы было только подобие двора, а в действительности царствовал над всей страной Стефан, хотя несправедливо. Во всяком случае ещё находился тут и там кое-какой рыцарь, упорствовавший в своей верности Матильде, но обязанный оказывать почести Стефану за свои земли, который, однако, считался бы вероломным изменником, если бы он не сдержал клятвы верности относительно несчастной женщины, лишённой власти, своей законной государыни.
Одним из таких верных приверженцев был Раймунд Вард, прадед которого сопровождал Роберта Дьявола в Иерусалим и находился возле него, когда он умер в Никее. Его дед сражался в самом жарком бою при Гастингсе с Вильгельмом Нормандским, за что получил в награду земли и замок Сток-Режис в Гертфордском графстве, и его имя фигурирует ещё и теперь на стенах местного аббатства.
В продолжении десяти лет Стефан де Блуа царствовал в Англии с неравным счастьем, он был попеременно победителем и побеждённым и то удерживал своего сильного врага Роберта Глостера, в качестве заложника и узника, то иногда, сам подпадая под власть императрицы, бывал закован в цепи и томился в тюрьме Бристольского замка. Однако впоследствии счастье повернуло к нему, и хотя Глостер сохранил наружно военные отношения в интересах своей сводной сестры – он сражался за неё, пока был жив, – самая горячая гражданская война прошла; партизаны императрицы потеряли веру в успех её дела, которое увядало под сенью смерти. Английская аристократия разобрала со дня смерти короля Генриха характер Стефана. Его считали храбрым воином, неутомимым рубакой, милосердным человеком и слабым правителем.
Сначала вельможи были мало расположены к узурпатору, не обладавшему достаточным гением, чтобы зарекомендовать себя политической силой, чтобы поддержать свою блестящую храбрость. Их первым движением было отказаться от подчинения его авторитету и постыдно изгнать его, как самозванца. Только впоследствии, когда они были раздосадованы презрительной холодностью императрицы-королевы, то поняли, что управление Стефана гораздо приятнее, чем служба Матильде. Однако Глостер был могуществен и со своими верными вассалами, преданными слугами и с горстью верных независимых рыцарей был в состоянии сохранить под авторитетом сестры Оксфорд Глостер и большую часть северного графства Бёрк.
Теперь, в начале весны 1145 г ., граф уехал со своей свитой, толпой каменщиков и работников на постройку нового замка. Его предполагали выстроить на высотах Фарингдона, где добрый король Альфред в память своей победы вырезал большую белую лошадь, сняв дёрн на песчаной горе. Глостер широко и смело набросал наружную стену и бастионы, вторую внутреннюю стену и громадную крепость, которая таким образом была защищена тройной оградой. Эту работу предстояло исполнить не в месяцы, а в недели, и если было бы возможно – скорее в дни, чем в недели. Все должно было составить сильный аванпост для новой кампании; для этого не берегли ни труда, ни денег. Глостер расположил лагерь сестры и свою собственную палатку на возвышенной лужайке, лежащей против замка. Оттуда он сам руководил и командовал. Оттуда же императрица Матильда, сидя под поднятым флагом своей императорской палатки, могла видеть серые камни, поднимавшиеся один над другим, ряд над рядом, глыба над глыбой. Они вырастали с лёгкостью, напоминавшей ей тот восточный фокус произведённый кудесником в тюрбане и виденный ею при дворе императора, когда фокусник из зёрна выращивал целое дерево с листьями и спелыми плодами пока поражённые придворные могли сосчитать до пятидесяти.
Туда, как на место общего свидания, несколько верных рыцарей и баронов, оставшихся преданными королеве, являлись засвидетельствовать своё почтение их государыне и пожать руку самому храброму и благородному из воинов, попиравшему ногами английскую землю. Раймунд Вард отправился туда же вместе с другими. Он захватил с собой единственного своего сына Жильберта, которому в то время исполнилось восемнадцать лет; о нем главным образом говорится в этой хронике. Жена Раймунда, леди Года, осталась в замке Сток-Режис, под охраной двенадцати вооружённых слуг. Это были, большей частью, солидные ветераны войн короля Генриха. Но более действенную защиту для неё представляли несколько сот сильных вилланов, а также милиции, преданных душой и телом, готовых умереть за Раймунда и его семью. Во всем Гертфордском, Эссекском или Кентском графствах ни один нормандский барон или граф не был более любим своим саксонским народом, как владелец Стока. Таким образом, его жена чувствовала себя в безопасности, несмотря на его отсутствие, хотя очень хорошо знала, что только малая часть преданности относилась к ней.
Есть люди, которые проходят жизнь с выгодой только для себя, а не для других, благодаря преданности, которую им расточают близкие их родственники и самые дорогие их друзья. Они зависят от успеха чести и репутации тех, кто их нежно любит. Леди Года приписывала своему личному достоинству верную привязанность, которую саксонские вилланы её мужа питали к нему. Впрочем они были обязаны Варду этой привязанностью взамен его неизменной доброты и беспристрастной справедливости. Она перенесла на себя его заслугу, как это делают эгоисты, совершенно убеждённая, что это их долг, или, по крайней мере, готовая думать так, вполне зная, что она этого не заслуживает.
Она вышла замуж за Раймунда Варда, не любя его, но тщеславясь его именем, почестями и будущностью, которая казалась блестящей во времена доброго короля Генриха. Она дала ему единственного сына, который обожал её и в своём ослеплении питал к ней рыцарский культ, почти детский, так как она предлагала ему взамен материнское тщеславие за его внешность. Он принимал это чувство за любовь, хотя одно от другого было также далеко, как преданность от эгоизма, скаредность от великодушия. Ей исполнилось только шестнадцать лет, когда она вышла замуж. Она была самой младшей из многочисленных сестёр, оставшихся почти без приданого, когда их отец отправился в Святую Землю, откуда уже не возвратился.
Раймунд Вард полюбил её за красоту, действительно существующую, и за её характер, который был лишь созданием его собственного воображения. Он любил её со своей спокойной и бессознательной самонадеянностью, которая часто служит подкладкой характера людей простодушных и честных. Он упорно верил со дня своей женитьбы, что любовь его жены, если не была очень глубока и возвышенна, то все-таки сосредоточивалась на нем и Жильберте. Человек менее искренний и прямодушный открыл бы в конце года безусловную тщетность этих верований.
Этот брак жестоко обманул ожидания Годы относительно её настоящих вкусов и её тщеславия. Мечтавшая жить при дворе, она была осуждена существовать в деревне. Любя удовольствия, она была принуждена выносить скуку. Кроме того, владелец Стока был скорее силён, чем привлекателен, более внушительный, чем очаровательный. Он никогда не думал прибегать к лести, которой требуют, во что бы то ни стало, алчные и недовольные натуры, когда не удовлетворены их тайные стремления. В их природе – давать мало, также в их природе и их счастье – требовать много и брать все, что им попадается под руку. Также случилось и с Годой, принявшей сердечное великодушие мужа и любовь сына за естественную дань, должную ей, но которая не могла удовлетворить громадного аппетита её тщеславия. Впрочем, она брала все, дурное и хорошее, что попадалось на её дороге, особенно сердце рыцаря Арнольда Курбойля, двоюродного брата кантерберийского архиепископа, короновавшего Стефана, как короля, после того как первый принял присягу Матильде.
Арнольд был вдовец. Сначала он следовал примеру двоюродного брата и поддерживал дело короля Стефана. Он получил от него большие земли, ферму и лес в Гертфордском графстве, которые граничили с наследственными имениями Варда. Во время беспорядка и хаоса продолжительной гражданской войны Раймунд, не подозревая того, не раз предохранял маленький замок от осады и возможного истребления.
Вард в порыве своей верности законной государыне скорее избегал дружбы нового приверженца, чем делал авансы, чтобы её добиться. Но Раймунд кончил тем, что сдался на несколько насмешливые настояния жены и из чувства благодарности. Он открыл, что во время различных перипетий гражданской войны его сосед не раз, – хотя они были противоположных убеждений, – служил защитой для его вилланов, скота и жатвы против разграблений и уничтожения. Раймунд открыл эти поступки доброго соседства лишь при следующих обстоятельствах. Однажды во время соколиной охоты Варда с женой и Жильбертом, в то время настолько большого, что едва мог держаться в седле, их застала зимняя буря недалеко от владений сэра Арнольда. Последний, возвращавшийся в это время из путешествия, предложил им убежище в своём маленьком замке, находившемся поблизости. Там он должен был ночевать, и туда слуги привезли к нему маленькую дочь Беатрису. Раймунд принял это предложение ради жены, и обе семьи соединились в этот вечер у пылавшего огня в углу маленькой залы.
Пред ужином мужчины разговорились с той доверчивостью и весёлостью, которая существует почти всегда с первого раза между соседями одинакового положения. Леди Года довольствовалась лишь тем, что время от времени вставляла словечко.
Она сидела на стуле с высокой спинкой и сушила свою светло-голубую суконную юбку пред трещащими дровами. В это время Жильберт, цвет волос которого был, как у матери, а глаза, как у отца, вертелся вокруг величественной маленькой девочки со смуглым лицом. Она сидела немного в отдалении на табурете, одетая в зеленое суконное платье, покроя взрослой женщины. Две короткие косы чёрных волос висели позади маленькой шляпы, завязанной под подбородком с ямочкой. А в это время маленький мальчик в своей алой куртке и в зелёных суконных натянутых штанах ходил взад и вперёд, останавливаясь, опять уходя и снова останавливаясь пред ней, чтобы показать свой маленький охотничий нож. Он то вынимал его до половины из ножен, то глубже вбивал в них ловким ударом ладони, и чёрные глаза девочки следили за его движениями с важным и серьёзным любопытством.
Брата у неё не было, у него же – сестры. Оба они воспитывались без товарищей, так что один был новостью для другого. Когда Жильберт, поворачиваясь на одной ноге, подбросил свою круглую шапку до тёмного бревна потолка комнаты, освещённой огнём очага, маленькая Беатриса засмеялась с весёлым видом. Это подействовало на Жильберта, как бы приглашение. Он немедленно сел возле неё на скамье, держа свою шапку в руке, и начал её расспрашивать о её имени и о том, живёт ли она круглый год в замке. Вскоре они сделались добрыми друзьями и стали болтать об яйцах ржанки и о гнёздах зимородков, о том времени, когда у каждого из них будут свои собственные сокол, лошадь, собака и слуга.
Ужин окончился. Служанка увела маленькую Беатрису спать в комнату женщин. Управляющий фермой, его жена, стражи и слуги, ужинавшие и пившие в конце залы, отправились все в свои помещения, находившиеся во внешних постройках. Для Жильберта была сделана постель в углу близ огромного камина, состоявшая из большого, наполненного свежей соломой и положенного на сундуке полотняного мешка, покрытого простыней из тонкого голландского полотна. Через пять минут мальчик заснул под двумя толстыми шерстяными одеялами. Тогда оба рыцаря и дама остались одни в своих больших резных креслах. Но владелец Стока, будучи толстым и сильным, много съел и много выпил за ужином эля и гасконского вина; протянув свои ноги на каминную решётку, положив локтя на ручки кресел, соединив свои руки посредством больших и безымённых пальцев, он сблизил один за другим остальные. Мало-помалу музыкальный и лукавый голос жены и особенно нежный умильный голос хозяина, Арнольда Курбойля, перемешались и стали угасать, как раз в тот момент, когда двери царства сновидений закрылись за ним.
Леди Года, слишком уставшая, чтобы возвратиться домой, в этот вечер менее всего на свете хотела спать. Напротив, она глубоко заинтересовалась тем, что рассказывал ей сэр Арнольд. Сам же он был слишком умен, чтобы говорить незначительные вещи. Он рассказывал о дворе, о людях, о высокопоставленных лицах, часто посещаемых им запросто, и с которыми леди Года так жаждала познакомиться. Время от времени он деликатно давал ей понять, что самая прославленная из красавиц при дворе короля Стефана не могла бы сравниться с ней, если бы её муж допустил уговорить себя оставить вышедшие из моды предрассудки и свою верность королеве Матильде.
Когда-то леди Года была представлена императрице, которая не обратила на неё большого внимания, в сравнении с интересом, оказываемым ею Раймунду. На банкете, следовавшем за официальным приёмом, леди Года была посажена между толстой немкой, вдовой, и итальянским аббатом, приехавшим из Нормандии. Они все время разговаривали на дурном латинском языке, что ей казалось грубым. Немка ела куски паштета из дичи ножом, вместо того, чтобы взять его пальцами, как должна была бы поступить воспитанная женщина до изобретения вилок. На другое утро леди Года отправилась домой со своим мужем, и её жизненный опыт при дворе окончился так внезапно.
Если бы великий граф Роберт Глостер соблаговолил обратиться к ней со словом, вместо того, чтобы смотреть далеко от неё своими красивыми спокойными голубыми глазами на воображаемый пейзаж, – её впечатление о жизни при дворе императрицы было бы совсем иное. Тогда, может быть, она одобрила бы добродушие мужа. Но хотя она посвятила необычайный труд на убранство своих великолепных золотистых волос и дала с такой силой пощёчину неловкой парикмахерше, что у неё болела рука ещё три часа спустя, – все-таки могущественный граф обратил на неё внимание, как если бы она была простой саксонской молочницей.
Эта обида соединилась вместе с неудовольствием, причинённым неожиданным открытием, что сумочки, висевшие на поясе придворных дам императрицы, были в форме больших мандолин и при ходьбе почти волочились на своих шнурах, тогда как её была старинного покроя. Это наполняло её душу горечью против законной наследницы короля Генриха и сделало безусловно непреодолимой преграду между ней и мужем. Она одна сознавала её, а Раймунд даже не подозревал о ней. Он не только ей докучал сам, но даже допускал других досаждать его жене. С этого дня у неё не осталось более даже тени малейшего расположения к нему.
Поэтому неудивительно, что она слушала с трепещущим восторгом все, что ей говорил сэр Арнольд. Она была счастлива, заметив меняющиеся выражение его нежного и гладкого лица, которое было столь полным контрастом со смелыми, строгими чертами владельца Стока, заснувшего глубоким сном возле неё.
Курбойль был польщён, как это случилось бы с каждым мужчиной, если бы его слушала долго и внимательно красивая женщина. Он также видел, что её красота была необычного рода и замечательна. Она была, правда, несколько резкая, слишком холодная, слишком похожая на мрамор, несмотря на её волосы почти золотого оттенка и на её рот, похожий на маленькую красную ранку. Она обладала в излишке физическими качествами для того, чтобы это казалось естественным, и однако не проявлялись ни недостатки, ни пятна. Она была слишком полна жизнью, чтобы не удовлетворить вкуса утомлённого удовольствиями мужчины той эпохи, видевшего общества от Лондона до Рима и от Рима до двора Генриха V.
Леди Года, со своей стороны, видела в нем тип, к которому её повлёк бы инстинкт, если бы она была свободна выбрать себе мужа. В противоположность человеку дела, говорящему мало и питавшему только сильные чувства, он показал себя светским человеком со всех точек зрения. Одно его разнообразие уже было очарованием, а мысль о его значительной опытности была для неё как бы таинственным обаянием. Сверх того, Арнольд Курбойль был тактичным человеком, легко впечатлительным, привыкшим к тщеславию женщин и ловким в искусстве возбуждать это тщеславие, никогда не удовлетворённое, что составляет основание большей части несовершенных женских характеров. В нем не было никакой слабости, или, по крайней мере, он был столь же храбр, как большинство мужчин; кроме того, он лучше всех владел оружием. Его маленькая рука, прекрасного очертания, оливкового оттенка, умела нанести удар шпагой быстрее Раймунда Варда, и он также уверенно достигал цели, хотя казался менее сильным. На седле он не обладал силой в колене и не мог ужасным давлением заставить лошадь дрожать и стонать, но не многие рыцари его времени были более ловкими в искусстве представить посредственную лошадь в выгодном для неё свете. Он учил хорошего коня пользоваться своими силами до последней степени. Когда Вард ездил на лошади шесть месяцев, она была обыкновенно потеряна и разбита на передние ноги, если не совсем мертва. Курбойль же ездил на той самой лошади в два раза дольше и удваивал её качества. Также было и во многих других отношениях. С одинаковыми шансами один, казалось, растрачивал добро без выгоды для себя, другой же оборачивал все в свою личную пользу.
Стоя Арнольд был едва среднего роста, но сидя он не был так мал. Как большинство мужчин незначительного роста, он посвящал беспрестанные тщательные заботы своей личности, что в результате вознаграждало этот недостаток. Его тёмная борода была подрезана остроконечно и так заботливо причёсана, что напоминала одно из тех гладко подстриженных деревьев, представлявших павлинов и драконов, которые были гордостью итальянских садовников во времена Плиния. Волосы он носил полудлинные; их шелковистые пряди были заботливо разделены пробором по середине головы и отброшены назад густыми волнами. Было что-то почти раздражающее в их неестественном лоске, в совершенно прозрачном и здоровом оливковом цвете лица этого человека, в длинных дугообразных бровях, в совершённом довольстве самим собой и в доверчивости, блестевшей в его красновато-карих, несколько нахальных глазах. Его шея, крепкая и круглая, довольно пропорциональная, хорошо расположенная на его плечах и гладкая, как его лоб, выгодно выделялась, благодаря восхитительной золотой вышивке, окаймлявшей рубашку тончайшего фламандского полотна. На нем был кафтан в обтяжку из прекрасного алого сукна, с узкими рукавами, слегка отвороченными, чтобы оставить на виду его кисть. Великолепная портупея стягивала его кафтан на талии. Она состояла из серебряных, эмалированных колец и пластинок работы искусного византийского артиста. На каждой пластинке была изображена в богатых красках одна из сцен жизни Иисуса Христа и его Страстей. Длинная шпага с крестообразной рукояткой-чашкой для руки была прислонена к стене возле большого камина. Кинжал же, чудо работы, висел на портупее; он был тем более замечателен, что отличался чудной закалкой – триумф восточного искусства, так как почти все искусства были в то время восточные.
На солидной золотой рукоятке восьмисторонней и с восемью зарубками был вычеканен великолепный рисунок, глубоко усыпанной неотделанными драгоценными камнями, усаженными с искусной неправильностью. Чашка рукоятки состояла из стального диска с золотой гравировкой и нарезками.
Длинное, как мужская рука, лезвие, от локтя до кисти, было выковано из серебра и стали дамасским оружейником. Оно было устойчиво, тонко, с глубокими желобками для крови, выдолбленными по обеим сторонам на расстоянии четырех пальцев от острия, которое могло прокалывать так деликатно, как иголка, или просверливать тонкую кольчугу, как гвоздь, вбиваемый тяжёлым молотком.
Его кафтан ниспадал мягкими складками до колен, и суконные панталоны, очень натянутые, были темно-коричневого цвета. Сэр Арнольд носил короткие ботфорты пурпурового цвета кожи, вышитые наверху тонким алым шнурком. Привязи шпор были того же цвета, как и сапоги, а сами шпоры – стальные, маленькие, заострённые, прекрасной чеканки.
Прошло шесть лет с того вечера и, однако, когда леди Года закрывала глаза и мечтала об Арнольде, то видела его таким, как он представлялся ей тогда. Пред ней оживали каждая черта его лица, каждая подробность его туалета, его поза, когда под горячими лучами камина он сидел возле неё в своём кресле, несколько склонившись вперёд. Его голос мог казаться тогда монотонным для уха спящего, но не для её слуха. Между Вардом и Курбойлем состоялось знакомство почти насильно, благодаря обстоятельствам и взаимным обязательствам, но оно никогда не доходило до близости и доверчивости со стороны Варда. Со стороны же сэра Арнольда это была ловкая комедия, скрывавшая разрастающуюся ненависть к мужу леди Годы. И она играла так же хорошо свою роль, как и он. Союз, в котором честолюбие занимает место любви, не может существовать, когда честолюбие обмануто. Она не терпела своего мужа, уничтожившего её безумные надежды. Она презирала его за то, что он не извлёк ничего из своих многочисленных качеств и своих преимуществ, за его привязанность к устарелому и вышедшему из моды делу. Она упрекала его, что он, много видя, ничему не научился. Это делало богатыми его глаза и бедными – руки. Она ненавидела его потому, что он был неповоротлив, обладал доброй натурой, добрым сердцем, был простаком для тех лиц, которые хотели от него чего-нибудь добиться.
Она с горечью размышляла, что если бы она обождала семь, восемь лет удачного случая, то для неё выпало бы счастье иметь мужем вдовца Арнольда, двоюродного брата архиепископа кантерберийского, Она достигла бы фавора вместе с победителями в гражданской войне и была бы соединена с человеком, сумевшим польстить её холодной натуре вымышленными чувствами, вместо того, чтобы растрачивал на неё уважение, почти преувеличенное, каким её окружал со своей благородной страстью Раймунд. Для большинства женщин это почтение становится в конце необъяснимо надоедливым.
Сколько раз в течение этих шести лет она встречалась с сэром Арнольдом и беседовала, как в первый вечер. Однажды, когда императрица Матильда захватила в плен короля Стефана, и дело приняло дурной оборот для его приверженцев, Вард настоял, чтобы его сосед приехал в Сток-Режис, более надёжный, чем его замок. Другой раз, когда победа была на стороне короля Стефана, и Раймунд отчаянно сражался под начальством Глостера, леди Года отправилась со своим сыном и некоторыми из женщин просить защиты у Арнольда, бросив свой замок на произвол.
Сначала Курбойль беспрестанно делал вид, что восторгается физическими и нравственными качествами Варда, но мало-помалу он с тактом изменил манеру и довёл леди Году до признания, что она страдает или воображала, что страдает, – это для некоторых женщин одно и то же, – будучи связана на всю жизнь с человеком, которому не удалось удовлетворить её высокочестолюбивых стремлений. Затем в один прекрасный день было произнесено великое слово «любовь», и они никогда не переставали надеяться, что Вард умрёт преждевременно.
В продолжении этого времени Жильберт сделался из маленького мальчика молодым человеком. Он обожал свою мать, как высшее существо, но отца любил с тем глубоким инстинктом взаимного согласия, которое делает любовь и ненависть ужасными между самыми близкими родственниками.
С течением времени Беатриса выросла, сделалась гибкой и бледной, Жильберт и она любили друг друга, что было естественно, так как они оба воспитывались без товарищей и часто находились вместе в продолжение многих дней в уединённом существовании средневекового замка.
Может быть, Жильберт никогда не отдавал себе отчёта, что его любовь к матери была результатом добровольного разрешения леди Годы, чтобы он любил Беатрису. Но необходимость подготовить брак служила благовидным предлогом для продолжительных бесед хозяйки замка с сэром Арнольдом. Он сделался необходимой и самой важной частью в жизни леди Годы. Это способствовало, что визиты Арнольда и частые встречи во время сезона соколиной охоты казались естественными в глазах Раймунда.
Охотясь с сэром Арнольдом, Раймунд не раз счастливо отделывался от опасности. Так, однажды почти неожиданно он встретился лицом к лицу со старым кабаном; когда он наклонился, чтобы нанести кабану удар снизу вверх, то его жена и Арнольд находились шагах в двадцати позади него. Они все трое отделились от других охотников. Заметив положение мужа и окружавшее их уединение, леди Года обратила выразительный взгляд на своего спутника. Секунду спустя охотничье копьё Арнольда направилось прямо, как стрела в спину Раймунда. В этот момент кабан бросился на Варда, но последний отскочил и, упав на колена, исполосовал ножом животное. Охотничье копьё Арнольда безвредно проскочило над головой Варда и затерялось в сухих листьях, в двадцати метрах от того места.
В другой раз Раймунд ехал на лошади с соколом на плече и по своему обыкновению в десяти шагах от других спутников. Он не заметил, что они отстали. Когда он скакал по узкой лесной тропинке и посмотрел вокруг, он увидел, что находится один. Он тотчас же повернул лошадь, чтобы присоединиться к другим охотникам. Едва она сделала несколько шагов, как внезапно три замаскированных человека, которых он принял за воров, выскочили из чащи и бросились на него с длинными ножами. По счастью разбойники плохо рассчитали расстояние и время когда они были довольно близко, чтобы ударить Варда у него уже была в руках шпага. Первый из напавших упал мёртвым; остальные скрылись, одни с глубокой раной в плече, другой же не нанеся ни одного удара. Раймунд удалился, не получив ни малейшей раны и размышляя о превратности судьбы. Когда он приблизился к своей жене и другу, он нашёл их сидевшими один возле другого на упавшем дереве и очень серьёзно разговаривавшими вполголоса, тогда как сокольничие и слуги собрались небольшой группой в отдалении.
Услышав его голос, леди Года задрожала и слегка вскрикнула, лицо же Арнольда побледнело; но когда он подъехал к ним, они снова, по-видимому, успокоились и улыбались. Они спросили его, не заблудился ли он; но Раймунд ничего не рассказал о приключении, опасаясь подействовать на нежные нервы своей жены. Позже, на следующую ночь, когда сэр Арнольд был один в своей комнате, бледный, как смерть, человек, ослабленный от потери крови, приподнял толстую занавесь и рассказал вполголоса о приключении.







