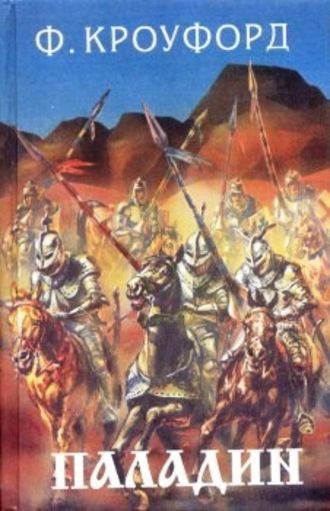
Френсис Мэрион Кроуфорд
Две любви
II
Таким образом, Раймунд и его сын отправились в графство Бёрк на постройку большого Фарингдонского замка. Сэр Арнольд оставался в своей крепости, откуда он очень часто ездил в Сток и проводил долгие часы с леди Годой в зале и в садике, тянувшемся вдоль рва. Капеллан, управляющий, воины и привратник привыкли видеть его часто там, когда был Раймунд: они не думали про него дурного, так как он теперь приезжал, чтобы составить общество одинокой хозяйке замка, а нравы того времени были просты.
Но, однажды утром, в конце апреля туда прибыл посланный короля Стефана с приказанием, чтобы все графы, бароны, баронеты и рыцари со своими воинами под присягой верности присоединились к нему в Оксфорде. Для формы посланный отправился в Сток-Режис, не допуская, чтобы какой-нибудь нормандский рыцарь не был партизаном короля. Подъёмный мост был опущен, и он проник чрез ворота и, протрубив три раза, передал поручение. Тогда управитель с глубоким поклоном ответил, что его господин отправился путешествовать, и посланный, повернув коня, уехал, ничего не выпив и не скушав.
Но, явившись в замок Стортфорд, он нашёл сэра Арнольда, вручил ему приказ короля с большим торжеством и был принят с обычным гостеприимством. Арнольд медленно оделся в кольчугу, но не надел своего шлема, так как был необыкновенно жаркий день, и он предпочёл путешествовать в маленькой шапке, чем в тяжёлой стальной каске с широким забралом. Прежде чем прошёл час, он уже был на лошади во главе своих воинов и лакеев, идущих впереди и позади него по большой Гертфордской дороге. Но он тайно отправил к леди Годе посланного с извещением, что он отправился. И она не слышала более о нем в продолжении многих дней.
Ежедневно утром, после обеда и перед закатом солнца, она отправлялась в маленький сад к западной стене замка. Долго она смотрела там на дорогу, но не потому, что желала возвращения мужа, не потому, что озабочивалась возращением Жильберта, но она знала, что их возвращение будет вестником конца войны. Тогда Арнольд будет также свободен вернуться домой.
5-го мая, когда зашло солнце, она оставалась неподвижна с глазами, устремлёнными на дорогу, уже десятый раз после отъезда Курбойля. Она чувствовала свежесть сырого вечернего воздуха, но что-то её удерживало: необъяснимое предчувствие, ожидание чего-то. Вдали, на верху гористой дороги, она заметила искру, маленькое пламя, танцевавшее, как фантастические огоньки, перебегающие в летнюю ночь по могилам. Сначала она увидела один, затем вдруг три и множество. Потом тёмная и плотная масса выделилась на красноватом небе. Огоньки походили на маленькие звёздочки, поднимавшиеся и спускавшиеся на горизонте, и все над чёрными низкими облаками. Минуту спустя западный ветерок донёс до леди Годы гармоничное пение и удержал в её ушах нежные высокие ноты молодых голосов, опиравшиеся на богатом басе мужских голосов.
Леди Года взволновалась и, задержав дыхание, слегка вздрогнула. Она так схватилась за розовый куст, наводившийся вблизи неё, что иглы проникли чрез мягкий зелёный суконный наручник и укололи её до крови, хотя она ничего не почувствовала. Смерть носилась в воздухе, смерть была в движущихся огоньках, смерть в минорных рыданиях хора монахов. В первый момент, плохо сознавая, леди Года подумала, что несут сэра Арнольда, убитого в сражении её собственным мужем или сыном. Это ей несли Арнольда, подумала она, к ней, которая его любила, чтобы она омыла его раны своими слезами и осушила его влажный лик своими прекрасными волосами. С широко раскрытыми глазами и молчаливая, пока приближалась процессия, она двинулась ей навстречу вдоль рва к подъёмному мосту. Она ещё не понимала, но ни одно движение людей, ни одно колебание света, ни одна нота заупокойного пения не ускользнули от её ослабевших чувств.
Вдруг она заметила, что впереди гроба шёл Жильберт с обнажённой головой, наполовину завёрнутый в чёрный плащ, который волочился по траве. Когда она обогнула последний бастион, прежде чем достичь подъёмного моста, погребальное шествие подвигалось по внешнему берегу рва; и между ней и процессией было только водяное пространство, отражавшее пламя восковых свечей, тёмные капюшоны монахов и белые стихари певчих детей. Они подвигались медленно, и леди Года, как бы во сне, следовала за ними тихими шагами по другой стороне, поражённая, опасавшаяся и дрожавшая. Она то испытывала странное чувство освобождения, то сдерживала рыдание, наполовину нервное, наполовину искусственное, сжимавшее ей горло при мысли о покойнике, находившемся столь близко от неё.
Она жила с ним и разыгрывала долгую комедию любви, ненавидя его в сердце, она улыбалась ему глазами двойственности и лжи: теперь же она была свободна выбирать и любить, – свободна сделаться женой сэра Арнольда. Однако, она все-таки жила с покойным, и в далёком прошедшем леди Года отыскала маленькие просветы счастливой нежности, наполовину действительные, наполовину разыгранные, но никогда не забываемые, на которых она научилась останавливать свои мысли с нежностью и печалью. Она любила покойника в первые дни их брака, насколько её холодная натура, ещё не проснувшаяся, была способна любить, если не лично ради него, то, по крайней мере, из-за тщеславных надежд, построенных на его имени. Тайно она ненавидела его; она не питала бы к нему столь искренней ненависти, если бы в её сердце не было зёрна любви, чтобы так страшно ожесточиться против него. Она не могла бы решиться заставить свои глаза улыбаться так нежно если бы когда-то она не улыбалась, чтобы нравиться ему. Таким образом, когда принесли мёртвого к дверям его дома, его жена имела ещё в запасе несколько крошек воспоминания, чтобы выказать хоть тень огорчения.
Она вошла, следуя чрез подземный выход, в маленькую, круглую башню, помещавшуюся около ворот. Леди Года знала, что если бы она вышла из-за опускной решётки, то погребальное шествие было бы как раз на другой стороне моста. Ширина маленькой сводчатой комнаты нижнего этажа башни была только в четыре шага. В ней было почти темно, и леди Года остановилась в ней на минуту, прежде чем выйти навстречу погребальному шествию. Стоя в темноте, она изо всей силы прижимала к глазам свои руки в перчатках, как бы для того, чтобы собраться с мыслями.
Затем она снова опустила их, посмотрела в темноту и почти засмеялась; что-то в глубине её сердца душило её, как бы большая радость. Почти тотчас же она сделалась спокойна и ещё раз прижала к глазам свои руки в перчатках, но уже нежнее, как бы приготовляя их к тому, что они вскоре увидят.
Она открыла маленькую дверь и очутилась среди испуганной и возбуждённой толпы мужчин и слуг, в то время, как последняя нота похоронного пения прозвучала под глубокими сводами. В это время воздух пересёк другой звук… звонкий лай большого дога, находившегося во дворе, на цепи, от восхода до заката солнца; лай перешёл в визг, визг в вой, в зловещий вой, раздражавший уши. Прежде, чем он затих, одна из саксонских рабынь громко вскрикнула, за ней повторила другая, затем другая и ещё другая, подобно погребальному пению. Все камни тёмного замка, казалось, имели голос, и каждый из этих голосов оплакивал своего господина. Многие женщины падали на колени, а равно и мужчины, тогда как другие, подняв свои капюшоны, стояли, прислонившись в толстой стене, склонив голову и скрестив руки.
Медленно и торжественно внесли гроб под средний свод и поставили там. Тогда Жильберт Вард, подняв голову, очутился лицом к лицу с матерью, но он посторонился, чтобы она могла видеть своего мужа. Монахи и дети хора тоже расступились со своими восковыми свечами, которые бросали колеблющийся свет сквозь тёмные сумерки. Лицо Жильберта было строго и бледно. Леди Года тоже была бледна, и её сердце билось, так как ей предстояло разыграть последний акт своей супружеской жизни перед толпой слуг, внимательно наблюдавших за ней. В продолжение момента она раздумала про себя, колеблясь: вскрикнуть или упасть в обморок в честь умершего мужа.
Затем с инстинктом природной, безукоризненной актрисы, её глаза с безумным видом переходили с сына на прямую, длинную массу, скрытую под покровом. Она поднесла руку ко лбу, откинула свои золотистые волосы назад наполовину безумным, наполовину помрачённым шестом, сделала два шага, как бы шатаясь, и упала на труп с громкими криками и рыданиями. Затем она более не двигалась.
Жильберт приблизился к гробу и схватил руку, одетую в перчатку, которой его мать закрыла своё лицо, которая неподвижно упала. Он приподнял чёрный суконный покров и как можно более откинул его, не тревожа распростёртой вдовы. Владелец Стока лежал в кольчуге, так как он пал в минуту сражения, со своим стальным шлемом и тонким забралом кольчуги, надвинутым на его лицо и подбородок. Чёрные шелковистые волосы, лежавшие вокруг лица мертвеца, имели страшно живой вид. Но на глазах и лбу, под шлемом, была надета чёрная повязка; на его груди большие руки, закрытые кольчугой, сжимали шпагу с крестообразной рукояткой. С обнажённой головой и без оружия Жильберт созерцал с минуту лицо отца, затем вдруг подняв глаза, он обратился к толпе, теснившейся под сводами со следующими словами:
– Люди Стока, вот тело сэра Раймунда Варда, вашего господина и моего отца. Он пал в сражении перед Фарингдонским замком. Вот третий день, как он убит, но дорога была долгая, и нам не позволили пройти без препятствий. Замок был построен лишь наполовину, и мы расположились вокруг него лагерем с графом Глостером, когда внезапно явился король с большой армией. Они неожиданно бросились на нас рано утром, когда мы только что отправлялись к мессе, и большая часть из нас была лишь отчасти вооружена или совсем не вооружена, так что мы сражались, как могли. Многие из нас были убиты, но немало пало от нашей руки. И я со шлемом на голове и с кирасой, на половину застёгнутой на моем теле, и с голыми руками сражался с одним французом, вполне вооружённым, который меня очень теснил. Но я ударил его в шею, так что он пошатнулся и упал на колено. В этот самый момент я увидел нечто ужасное, в двадцати шагах предо мной встретились лицом к лицу сэр Арнольд и мой отец. Внезапно и без предупреждений их шпаги поднялись для удара. Когда уже мой отец узнал своего друга, он опустил шпагу, улыбаясь, и хотел удалиться, чтобы сражаться с другим. Но сэр Арнольд тоже улыбнулся и не опустил своей руки. Он ударил отца остриём, когда тот не принял предосторожностей, и одним ударом изменнически вонзил лезвие сквозь забрало. Вот как мой отец, а ваш господин, пал мёртвым, без исповеди, от руки друга, и пусть проклятие человека и осуждение всемогущего Бога падёт на голову убийцы теперь и потом, когда я убью его. В момент, когда я на него бросился, француз, бывший только в обмороке, поднялся на ноги и поспешил снова со мной сражаться. Таким образом, в момент, когда ему не хватало дыхания и свет угас в его глазах, сэр Арнольд удалился с поля сражения и был потерян для нас. Тогда мы сделали перемирие, чтобы похоронить наших мертвецов или унести их.
Когда Жильберт говорил, было полное безмолвие, длившееся много минут и прерываемое лишь беспрестанными рыданиями леди Годы, пришедшей в себя. Внутри двора и вне его, на мосту, небо сделалось багровое, затем тёмное и пасмурное, так как солнце исчезло уже давно. Пламя восковых свечей, поднимаясь, опускаясь и колеблясь от вечернего ветра, становилось сильнее и желтее под сводами.
Монахи в тёмном одеянии строго смотрели вокруг себя, ожидая приглашения войти в часовню. Это были люди всевозможных лет, розовые и бледные, худые и толстые, темноволосые и белокурые, все они имели на лицах нечто, отличавшее людей церкви во все века.
Жильберт стоял молча между ними и мёртвым рыцарем, поникнув головой, с опущенными глазами, бледным лицом и с сжатыми губами. Он глядел на прекрасные волосы своей матери и на её сжатые руки, прислушиваясь к её затруднённому дыханию, беспрестанно прерываемому тяжёлыми рыданиями. Внезапно снова послышался ужасный, звонкий лай собаки, и в то же время громкий, дрожащий голос раздался со двора чрез глубокие своды.
– Сожжём убийцу! В Стортфорд и сожжём его!
Жильберт поднял глаза и посмотрел сквозь мглу, отыскивая, кто говорил. Он не видел, что при этих словах его мать задрожала, откинулась телом, опершись рукой и устремив глаза по тому же направлению, как и сын. Но прежде, чем Жильберт мог ответить, крик был повторён сотней голосов.
– Сожжём изменника! Сожжём убийцу! В Стортфорд! Хворосту и смолы!
Слова следовали, то громкие и ясные, то тихие и хриплые, одни за другими, как некое рычание. Тут и там среди этих грубых людей заблестели в темноте глаза, как у собак.
Тогда среди сумятицы раздался звук отодвигаемых засовов и скрип дверных петель: это конюхи отворяли двери конюшен, чтобы вывести лошадей и оседлать для экспедиции. Один просил огня, другой предупреждал остерегаться ударов копыт его лошади. Леди Года поднялась, протянув руки к сыну с умоляющим видом, инстинктивно повернувшись к нему в первый раз, как к главе дома. Она также ему говорила, но он ничего не видел и не слышал, так как в глубине его сердца возник новый ужас, в сравнении с которым все случившееся раньше было ничто. Он подумал о Беатрисе.
– Остановитесь! – воскликнул он. – Чтобы никто не двигался! Никто не выйдет отсюда, кто хочет сжечь Стортфорд! Сэр Арнольд Курбойль – подданный короля, а в Англии царствует король, так что, если мы сожжём Стортфорд сегодня вечером, они сожгут завтра же замок Сток, вместе с моей матерью. Между Арнольдом Курбойлем и мной – смерть; завтра я отправлюсь его искать и убью в честном бою, чтобы не было ни экспедиции, ни грабежа, ни пожара. Не будем действовать, как действовали бы французские разбойники Стефана, или красноволосые шотландцы короля Давида. Подымите гроб, а вы, – сказал он, оборачиваясь к монахам и певчим, – продолжайте своё пение, чтобы мы могли поставить в часовню тело моего отца и спеть молитвы за упокой его Души.
Леди Года сначала прижала свою левую руку к сердцу, как бы испытывая опасение и страдание, но пока Жильберт говорил, она опустила её, и её лице сделалось спокойно, прежде чем она вспомнила, что оно должно быть печально. До этого дня в её глазах сын был ребёнком, подчинённым отцу, ей и старому капеллану замка, научившему его тому немногому, что он знал. Теперь он достиг возмужалости и был силён; более того: он был хозяином в доме отца, и по одному его слову воины и вилланы отправились бы моментально убивать любимого ею человека и сжигать и грабить все принадлежавшее ему. Она была ему благодарна, что он не произнёс этого слова, и если Жильберт имел намерение встретить Курбойля в поединке, то она не опасалась за любовника, самого ловкого бойца на шпагах в Эссекском и Гартфордском графствах. Она считала себя одинаково обеспеченной и относительно его репутации честного рыцаря, который не пожелает убить противника, на половину моложе его.
В то время, как она думала обо всем этом, монахи снова начали похоронное пение, на дворе прекратилась суматоха, конюхи подняли гроб, и погребальное шествие медленно направилось по широкому двору к больший двери часовни.
Час спустя тело сэра Раймунда было поставлено перед алтарём, на котором горели многочисленные восковые свечи. На самой низшей ступени, сложив руки и подняв глаза к небу, стоял на коленях один Жильберт. Он снял длинную шпагу с груди покойника, поставил её стоймя, обнажённой против алтаря, края лезвия были зазубрены, и тёмные пятна крови, оставшиеся на ней, служили воспоминанием последней кровавой работы её владельца.
В простоте веры того кровавого века, Жильберт Вард перед алтарём Бога, божественным телом Христа и перед чтимым им трупом его отца клялся всем дорогим для него и его домашних, что прежде чем лезвие будет снова вычищено, оно почернеет от крови убийцы его отца.
В то время как он стоял там на коленях, его мать, уж одетая вся в чёрное, вошла в часовню и медленно стала приближаться к ступеням алтаря. Она намеревалась опуститься на колени возле сына, но, когда её разделяли от него только три шага, ужасный страх её собственной лжи снизошёл в её сердце; она упала на колени посреди часовни.
III
Рано утром Жильберт ехал верхом по дороге к Ширингскому аббатству Стартфордского замка. На нем был кафтан, штаны и коричневые кожаные сапоги. С боку у него висела шпага отца, так как он не имел намерения убить своего врага, но драться с ним на смерть в честном равном бою. Жильберт предполагал, что сэр Арнольд должен был возвратиться из Фарингдона, если бы он встретил его прогуливающимся по своим владениям, то в это майское утро он, не подозревая ничего, был бы без кольчуги. Если они не встретятся, то Жильберт доедет до дверей замка, спросит барона и вежливо предложит ему отправиться вместе в лес. Жильберт надеялся, что могло случиться и так: вступив под своды ворот, он, может быть, увидит на минуту Беатрису.
По дороге он никого не встретил. В долине же перед замком с полдюжины саксонских конюхов в открытых грубых и коротких кафтанах учили нескольких больших нормандских лошадей Курбойля. Они сказали Жильберту, что барон дома. Переехав подъёмный мост, Жильберт остановился, прежде чем войти в ворота, и громко позвал привратника. В тот момент вместо него на дворе появился сам сэр Арнольд. Он пришёл, чтобы дать группе громадных дворовых собак сырой кровяной говядины, лежавшей в деревянной чашке, принесённой маленьким босым конюхом, с густыми, почти бесцветными волосами и с круглым красным лицом. Жильберт снова позвал; рыцарь тотчас обернулся и приблизился к юноше, отталкивая громадных собак, бросившихся к нему играя и пробовавших заставить его отодвинуться.
Сэр Арнольд был спокоен. Он улыбался и был, как всегда, старательно одет. Он приблизился со сложной улыбкой, в которой гостеприимство смешивалось ловко с интересом и симпатией, Жильберт, который тоже был настоящим нормандцем по инстинкту и по мысли, как ни один из получивших земли от завоевателя, со своей стороны сделал все, чтобы остаться спокойным и учтивым. Он сошёл с лошади и сказал, что желает говорить с сэром Арнольдом по важному и секретному делу. Утро было прекрасное, и он предложил ему отправиться на прогулку в лес. Сэр Арнольд выказал лишь лёгкое удивление и поспешно согласился. Жильберт, не отступая от своего плана, заметил, что у рыцаря нет при себе шпаги.
– Было бы хорошо, если бы вы взяли вашу шпагу, сэр Арнольд, – сказал он несколько загадочным тоном. – Никто не защищён от воров больших дорог в это время.
Рыцарь встретил глаза Жильберта, и оба молча смотрели пристально друг на друга в продолжение момента. Затем Курбойль послал конюха за шпагой, находившейся в большой зале. Сам же он приблизился к подъёмному мосту и закричал одному из конюхов, чтобы подали лошадь. Менее чем через полчаса после того, как Жильберт прибыл в замок, он и его неприятель ехали спокойно друг возле друга через светлую лужайку Стортфордского леса. Жильберт натянул поводья и пустил шагом лошадь. Сэр Арнольд тотчас сделал то же. Тогда Жильберт заговорил;
– Сэр Арнольд Курбойль, теперь уже прошло целых три дня, как вы изменнически убили моего отца.
Сэр Арнольд задрожал и полуобернулся на своём седле: его оливковая кожа сделалась внезапно бледной от гнева; нежное и свежее лицо Жильберта не изменилось.
– Изменнически? – повторил рыцарь с негодованием и вопросительным тоном.
– Подлым образом! – настаивал Жильберт совершенно спокойно. – Я был менее чем в двадцати шагах от вас, когда вы встретились с ним, и если бы мне не помешал один француз из ваших, который бессмысленно медленно умирал, я спас бы жизнь отца или взял бы вашу, что сделаю теперь.
При этих словах Жильберт остановил лошадь и приготовился сойти, так как газон был ровный, густой, и было довольно места для поединка.
Сэр Арнольд захохотал, оставаясь неподвижно в седле и оглядывая молодого человека.
– Так вы меня завлекли сюда, чтобы убить? – сказал он.
И его весёлость прекратилась.
Нога Жильберта уже была на земле, но он остановился.
– Если эта местность вам не нравится, – сказал он, – мы отправимся дальше.
– Нет, нет, я нахожу, что здесь очень хорошо, – возразил он.
Но прежде чем окончить фразу, он снова разразился смехом.
Они привязали своих лошадей к деревьям невдалеке, на небольшом расстоянии друг от друга. Жильберт первый занял позицию. На ходу он вынул из ножен шпагу отца, снял ножны с пояса и бросил их на траву. Сэр Арнольд тотчас же встал против него, но левая его, рука была только положена на головку шпаги. Он все ещё продолжал улыбаться, когда остановился перед своим молодым противником.
– Я ничего не возразил бы относительно поединка с вами, если бы я убил вашего отца изменнически, но я этого не сделал. Я видел вас, как вы меня. Ваш француз, как вы называли его, заслонял вам сцену; или ваш отец был вне себя, в своём пылу сраженья, или он не узнал меня под моей кольчугой. Он склонил на секунду лезвие, затем бросился на меня, как бульдог, так что я мог спасти себя, только убив его, против моего желания. Я не буду сражаться с вами, разве только вы принудите меня, и вы сделаете лучше, воздержавшись от этого, так как, если вы будете упорствовать, то я уложу вас в два приёма.
– Прекрасное совокупление хвастовства и лжи, – ответил Жильберт, вставая в позицию. – Вынимайте шпагу, прежде чем я сосчитаю до трех, или я распотрошу вас, как курицу. Раз… два…
Прежде чем последнее слово сошло с его губ, шпага сэра Арнольда появилась из ножен, столь же блестящая, как если бы она вышла из рук оружейника, и скрестилась с зазубренным и запятнанным кровью лезвием Жильберта.
Сэр Арнольд был храбрый, но осторожный человек. Он ожидал увидеть в Жильберте неловкого новичка, хвастуна и смельчака, подвергавшегося опасности в надежде нанести хорошо направленный удар или начать отчаянное нападение. Вследствие этого он не пробовал привести в исполнение свою хвастливую угрозу, так как Жильберт был выше его, сильнее и моложе на двадцать лет. Притом на нем не было кольчуги, а только штаны и кафтан. Сильный удар шпаги взбешённого молодого человека мог выбить его из позиции и наполовину заколоть.
Но Курбойль отчасти ошибся, Жильберт, хотя молодой, был одним из тех фехтовальщиков, наделённых природным даром, движения кисти руки и плеча которых безусловно одновременны с сознанием глаза; они не обдумывают каждого своего движения, заботясь о тактике. Менее чем через полминуты сэр Арнольд понял, что он сражается, защищая свою жизнь. Не прошло и минуты, как внезапно он почувствовал, что зазубренное лезвие шпаги Жильберта проникло в большой мускул его правой руки, а его собственное лезвие выпало из его обессиленной руки, скользнув около противника.
В то время не было постыдным нанести удар обезоруженному противнику в поединке насмерть. Когда сэр Арнольд почувствовал, как грубая сталь была выдернута обратно из его раны, он понял, что следующий удар будет для него смертельным. С быстротой молнии левой рукой он вынул длинный кинжал, висевший у него с боку, и Жильберт, поднявший шпагу, чтобы нанести удар, получил впечатление, как будто холод пронзил его грудь; рука его задрожала, и он уронил шпагу. Красный туман спустился перед его глазами; кровавая пена хлынула волной из его рта, и он навзничь упал на зелёный газон. Сэр Арнольд попятился и посмотрел со странным любопытством на распростёртое тело, прищуриваясь, как это делают близорукие. Затем, когда задыхавшаяся грудь перестала вздыматься, а бледные руки недвижно лежали на траве, сэр Арнольд пожал плечами и стал заботиться о своей ране. С помощью дубовой ветки он стянул вокруг своей руки один из кожаных ремней, взятых с седла Жильберта. Потом он сорвал левой рукой горсть травы и попробовал держать кинжал в правой, чтобы вычистить покрасневшую сталь. Но эта рука была бессильна, так что он, встав на одно колено возле тела Жильберта, провёл кинжалом два или три раза по подолу его тёмного кафтана, прежде чем положить оружие в ножны. Он поднял свою шпагу, и ему удалось вложить её в ножны. Затем он сел на лошадь, оставив коня Жильберта привязанным к дереву, бросил последний взгляд на неподвижную массу, распростёртую на земле, и направился к Стортфордскому замку.







