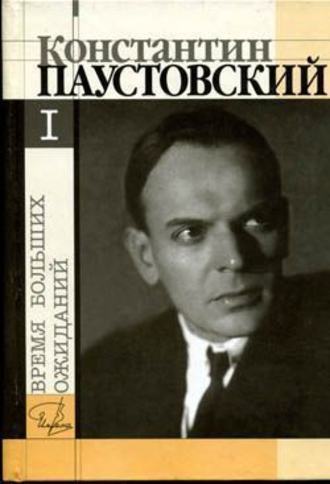
Константин Паустовский
Бросок на юг
По-моему, Мише надо было переходить на портреты Кемаль-паши. В Батуме в то время было довольно много турок. В городе совсем не было ни портретов, ни фотографий Кемаля. В-третьих, не надо корпеть над пожелтевшими карточками, а потом иметь дело со вздорными родственниками. У Кемаль-паши, надо полагать, родственников в Батуме не было.
Батумские турки считали Кемаля своим национальным героем, но вряд ли в городе нашелся бы хоть один человек, который его видел своими глазами.
Миша согласился. Началось с того, что он нарисовал Кемаля в профиль и подарил этот портрет хозяину духана «Бабуля по-рецески».
Успех предприятия с портретами Кемаля, как говорится, превзошел ожидания. Заказы посыпались со всех сторон. Люсьена разработала тариф: за портрет в профиль тушью – одна лира, за анфас – две лиры, за портрет в красках – три лиры, за портрет, изображавший Кемаля на вороном коне, – четыре лиры и, наконец, за портрет, где Кемаль скачет на поле боя по трупам убитых врагов, – пять лир.
В то время как раз шла греко-турецкая война, задевшая мимоходом и Батум. Но об этом после.
Миша так набил руку на Кемале, что мог рисовать его с закрытыми глазами. Снова некоторое изобилие вернулось к нам на террасу на Барцхане.
Но я к тому времени уже начал редактировать морскую газету «Маяк»[6] и переехал в город. Мне дали комнату в «Бордингаузе» – гостинице для матросов, отставших от своих пароходов,
Береговой приют
Почти во всех портах мира есть так называемые «Береговые приюты» для моряков, отставших от своих пароходов. Иначе эти приюты называются «Бордингаузами». Это нечто среднее между ночлежкой, пивной, вытрезвителем и публичным домом.
Был такой «Бордингауз» и в Батуме, но в урезанном виде – без явных признаков пивной и публичного дома.
Когда «Союз моряков побережья Гагры – Батум» под сильным нажимом комиссара Нирка (а на Нирка нажимал я) решил, наконец, издавать свою морскую газету «Маяк», мне, как редактору, дали комнату в «Бордингаузе». Но предупредили, что эта комната будет вместе с тем и редакцией. Меня это совершенно устраивало.
Старый двухэтажный дом «Бордингауза», обитый с фасада погнутым кровельным железом – защитой от тяжелых батумских дождей, – весь проржавел до красного цвета. Дом стоял на набережной, у самого моря. В сильные зимние штормы ветер барабанил морскими брызгами по окнам, как проливной дождь.
Кроме меня, на втором этаже «Бордингауза» жил еще белокурый красавец и спортсмен Нирк с женой – пугливой, пышной эстонкой.
Остальные комнаты занимали моряки, отставшие от своих пароходов, главным образом греки и американцы.
Поскольку моряки отставали от пароходов только «по пьяному делу», то и состав жильцов «Бордингауза» складывался довольно однообразно: это были горькие пьяницы, хрипуны и задиры.
Мы от них никак не страдали, так как ночи напролет они бушевали где-то в пивных на окраинах Батума. Когда же они возвращались в «Бордингауз», то почти никогда до него не доходили, а ложились костьми где попало, преимущественно в подворотнях. Там их не мог достать знаменитый батумский дождь.
Поэтому ночью в «Бордингаузе» было тихо, даже благостно. В вестибюле скромно горела зеленая ночная лампочка, напоминая лампадку. Только рыжие портовые крысы пробегали тяжелой рысью по коридорам на кухню, чтобы напиться под краном. Из испорченного крана капала, меняя время от времени порядок ударов, холодная железистая вода.
Постояльцы появлялись только поздним утром. Протрезвев, они хмуро занимались умыванием, расследованием синяков на теле, чисткой замызганного платья, игрой в кости и время от времени драками на почве темной игры.
Тогда из своего номера выходил Нирк – высокий, в заутюженных брюках «клеш» и чистой тельняшке. Он спокойно вытаскивал из кармана стальной блестящий пистолет и шел усмирять дерущихся.
Нирка матросы слушались беспрекословно, может быть, потому, что он всегда загадочно улыбался и, поигрывая пистолетом, говорил:
– Даром теряете калории, скитальцы морей!
Эти слова он произносил на нескольких языках, в зависимости от национальности дерущихся. Они действовали магически.
Кроме Нирка с женой и меня, в «Бордингаузе» жила еще уборщица Нюся. Перед постояльцами она выдавала себя за глухонемую и при первой же попытке какого-нибудь матроса пристать к ней начинала хохотать таким мычащим и вместе с тем оглушительным басом, что было слышно даже на набережной. Из своей комнаты тотчас выскакивал Нирк со стальным пистолетом. Матрос быстро стушевывался и отступал, радуясь, что дешево отделался от «глухонемой ведьмы».
Внизу под лестницей жил курд – чистильщик сапог. От его синей гофрированной бороды и даже от карих жалобных глаз величиной с конские каштаны пахло сапожным кремом – сложным запахом скипидара и полотерной мастики. Так мне, по крайней мере, казалось.
Курд был кроток, как голубь. Кстати, он никогда не говорил во весь голос, а тоже нежно бормотал по-голубиному.
Курд любил рассказывать свою несложную биографию. Она состояла главным образом из частой резни и скитаний по Малой Азии в поисках спасения от этой резни. «Папу турки резил, – бормотал он, вздыхая. – Маму тозе турки резил. Брата тозе турки резил. Я теперь один на весь свет».
Работы у курда почти не было. Большую часть дня он проводил в дремоте или еде. После еды он долго облизывал свои маслянистые пальцы и чмокал. В этом его занятии было нечто библейское и простое, как заунывная песня номада.
В «Бордингаузе» жил еще черный мохнатый пес с желтыми, чересчур внимательными глазами. Звали его Мономах. Если бы не он, то нас наверняка бы съели крысы, неслыханно злые и наглые.
За ночь они прогрызли насквозь толстую половицу в моей комнате, но не в углах, как обыкновенно, а посередине.
На рассвете все батумские крысы выходили на водопой к ручью за портом. Крысы из «Бордингауза» – тоже. Они шеренгами слезали с чердака по наружной раме моего окна и тяжело прыгали на крышу соседнего сарая. Я просыпался, но не мог больше заснуть от отвращения. Их яростный писк вызывал у меня нервную дрожь.
Во многих каменных домах были устроены ниши с железными дверями и глазком. В этих нишах милиционеры и сторожа прятались от крыс, когда те тысячными толпами шли на водопой. Очутиться в толпе крыс было смертельно опасно: они могли разорвать человека на части.
Начальник батумского порта – элегантный и сухощавый капитан – решил уничтожить крыс одним ударом. Обычно крысы шли по улицам сплошным валом, иногда даже в два яруса в тех местах, где улицы сужались и поток крыс не вмещался в их берега.
По приказу начальника порта во дворах с вечера были расставлены пожарные насосы. Как только крысы запрудили улицы, насосы были пущены и начали поливать крыс керосином.
Но это не остановило движения крыс. Задние напирали на передних, и огромные заторы из разъяренных крыс закружились на месте. Тогда на крыс была сброшена горящая пакля.
Крысы горели заживо. Они метались и визжали, потом ринулись обратно в порт, в свои норы. И тут случилось то, о чем не догадался ни начальник порта, ни пожарные: горящие крысы нырнули под склады, под пакгаузы, и через полчаса в батумском порту начался пожар.
Пожар гасили два дня. Пароходы отошли от причалов. Порт был оцеплен войсками. Элегантнейший начальник порта заплатил за этот пожар несколькими годами свободы.
Единственное, что отравляло существование в Батуме, – это крысы. Но такова участь всех портовых городов. В конце концов, перестаешь обращать на это внимание.
У «Бордингауза» были и свои неоспоримые достоинства. Прежде всего, дом стоял в двадцати шагах от гавани, как раз против старой дощатой пристани со сгнившим наполовину настилом.
У этой пристани швартовались турецкие фелюги и наши шхуны. Чаще всего у причала останавливались шхуны «Три брата» и «Лев Толстой». Они привозили персики и табак Сухуми и контрабандную водку из Туапсе.
В свободное время можно было спуститься прямо из своей комнаты на пристань, захватив самолов, и поудить под кормой у фелюги бычков или султанку. Изредка брали даже морские окуни и ерши.
Не очень жаркое солнце поздней осени освещало мутноватую зеленую воду и разноцветную корму фелюги. Владельцы фелюг украшали свои маленькие корабли, как невест. Иные даже обивали медью планширы и чистили их мелом. Корму обязательно раскрашивали густыми красками.
По существу каждая корма фелюги представляла собой орнаментальную картину, или, как теперь принято говорить, произведение абстрактного искусства. Я не хочу входить в существо споров об этом искусстве, но каждая пестрая корма походила на беспредметный рисунок ковра с фантастическими цветами и изломанными яркими сегментами.
Я не пытался понять эту живопись турецких фелюжных мастеров. Просто она горела на солнце, бросала отблеск на лицо и руки и весело, даже как-то празднично отражалась в воде. При этом отражение соединялось с тем, что происходило под водой, и потому сквозь синие и золотые цветы с квадратными лепестками, нисколько не смущаясь этим, лениво проплывали зеленухи и медузы.
Однажды на пристань пришла Люсьена с Бабелем и его женой Евгенией Борисовной. Бабель беспричинно посмеивался и говорил, как бы оправдываясь, что иногда бывает приятно жить на этом свете и дышать запахом дегтя и морской воды. Он грел на солнце бледные, слегка опухшие руки.
Евгения Борисовна сидела рядом со мной на пристани, свесив ноги. Я дал ей самолов. Она терпеливо ждала поклевки и пристально смотрела в глубину, где качались, дыша, медузы. Её красно-каштановые тяжелые волосы отражались в воде. Она говорила, что очень устала и никуда не хочет уезжать. Бабель в то время как раз собирался переезжать из Батума в Тифлис.
Рыба не клевала, и, помолчав, Евгения Борисовна вновь сказала, что хочет жить только на Зеленом мысу, где в гуще тропической листвы стоял их дом, и читать, читать до одурения. А раз нет новых книг (тогда в Батуме появилась единственная новая советская книга, «Шоколад» Тарасова-Родионова), то хоть перечитывать всего Чехова или даже Болеслава Пруса, – все равно кого.
Бабель украдкой посматривал на Евгению Борисовну. Я впервые заметил выражение растерянности на его лице. Оно сделалось совсем детским. Мне даже показалось, что у Бабеля задрожали губы. Что-то тревожное творилось на душе у нее и у него, и мне тоже стало не по себе, – призрак старых семейных бед моей молодости возник внезапно и не к месту. Я подумал, что нет в мире ничего более счастливого, чем согласие между родными людьми, и ничего страшнее умирания любви, – никем из любящих не заслуженного, не объяснимого, вползающего в жизнь с незаметным упорством.
Они ушли, а я еще долго сидел на пристани, забывая поддергивать самолов.
Огромный, длинный, как железнодорожный мост, океанский наливной пароход ярко-желтого цвета с вишневой трубой проползал мимо меня в Нефтяную гавань со скоростью минутной часовой стрелки. На его носу я прочел надпись «Нинон», а пониже вторую – «Ле Гавр».
Я очень ценил «Бордингауз» за его близость к морской жизни.
Отсюда было видно все, что происходило в порту и на море: все входящие и уходящие корабли, все белые и пенистые шквалы, носившиеся между Батумом и Поти, все многоцветные закаты, похожие на выставку скульптурных облаков или выставку сумрака и света, пламени и мглы, серебра и крови, жаркого золота и оперенья незнакомых птиц.
Закаты были похожи на грозные и безопасные извержения далеких вулканов. Через них летчики совершенно спокойно вели самолеты, не боясь сгореть или задохнуться. Наоборот, воздух закатов был чист, свеж: к нему узде притронулась своими холодными вздохами ночь.
Сжавшись, я сидел тихо, чтобы не пропустить мерцания красок, и испытывал какой-то сумрачный восторг. Я не могу этого объяснить, но закаты казались мне похожими на взрывы вдохновенья (если бы оно могло приобрести видимую форму). И я, конечно, соглашался, что очень хорошо жить на этой старой земле, где есть гнилые сваи и закаты, цветы ромашки и шипение пара в машинах кораблей.
Тогда в Батуме поэзия взяла меня за горло, крепко забрала в свой благодатный плен. С тех пор я уже не мог и не хотел вырываться из ее рук и забывать хотя бы на миг ее голос.
Он слышался издалека так же ясно, как и вблизи. Он доходил до меня с севера и запада, с востока и юга с необыкновенной чистотой, как зов морских вод, зов всех географических пространств и всех очарований, какими была так богата земля.
Тогда еще не было атомной бомбы и черная смерть еще не грозила земле. Земля, воды и воздух были свободны от человеческого насилия. Сознание не было угнетено атомным страхом.
Мне кажется, что еще там, в Батуме, я услышал голос Нереиды, украшавшей некогда носы кораблей, – тот голос «ласковый и томный», какой по ночам тревожил Пушкина.
И в морской темнеющей мгле возникал передо мной высокий нос корабля, и бушприт, опутанный снастями, и девичий нежный профиль, и такой же нежный торс Нереиды на старом носу корабля, плывущий к берегам, – напоминание о беспредельном богатстве мечты и силе любви.
Смутное веяние далеких стран летело вслед за Нереидой. Казалось, сердце не выдержит этих опьяняющих мыслей и ни с кем еще не разделенного счастья, этого ощущения вольного, крылатого, почти нереального и вместе с тем совершенно реального, как любой камень на мостовой, существования.
Однажды с моря до «Бордингауза» донеслась отдаленная канонада.
Тотчас на балкон выскочил Нирк со своим стальным пистолетом и биноклем.
Смятение пронеслось по порту. Со всех вышек и капитанских мостиков люди смотрели на море, в сторону Анатолийского берега, недоумевая и пожимая плечами.
Оттуда доходил короткий гром орудий, и лопались в дыму и тумане вспышки пламени.
По всем признакам в море шел бой. Но кого и с кем? Это было совершенно непонятно, загадочно и напоминало начало детского исторического романа.
Набережная была уже оцеплена. На нее никого не пускали.
Я смотрел вместе с Нирком с балкона на эту неведомую баталию. Если это нападение на нас, говорил Нирк, то почему молчит старая Батумская крепость?
– Кто может напасть на нас? – спросил я Нирка.
– Кто хочет, – ответил он совершенно хладнокровно. – От Великобритании до республики Гондурас. Но никакого нападения нет, потому что ни один снаряд не разорвался на нашем берегу. Снаряды рвутся в море около какого-то сооружения, похожего на плавучий цирк.
– Вы странно шутите, – заметил я.
– Посмотрите сами. – Нирк протянул мне бинокль. Я с трудом увидел далеко в море нечто похожее на большую черепаху, а поодаль от нее – силуэты двух миноносцев.
Миноносцы, судя по всему, нападали на черепаху, а она отстреливалась и лениво извергала из своего нутра жирный и даже на вид зловонный дым. Но миноносцы этим не смущались и продолжали стрелять прямо в дымную гущу.
– Она полным ходом лупит сюда, – заметил Нирк, и в то же мгновение железный гром потряс горы и город. Уходя в морскую даль, провыли у нас над головой снаряды.
– Форты! – крикнул Нирк. – Наша крепость! Теперь все понятно.
– Что понятно?
– Понятно, что какие-то иностранные корабли вошли в наши территориальные воды и крепость не подпускает их.
В дальнейшем морской бой выглядел так: миноносцы отвернули и ушли в море, а черепаха, подняв белый флаг и еще какие-то непонятные флаги, продолжала спокойно ползти к Батуму и стала на якорь около входа в порт. Тогда мы ее рассмотрели и стали постепенно соображать, что произошло.
Черепаха оказалась старым турецким монитором (по русской морской терминологии – броненосцем береговой обороны). Это было нечто плоское, низко сидевшее над водой, заржавленное, со старыми пушками и простреленной трубой.
Когда монитор стал на якорь, флаги на его снастях сразу упали, будто уснули. Из трубы перестал валить жирный дым. Тотчас к монитору помчался наш катер.
Потом к монитору подошел портовый буксир, небрежно втащил его в гавань, в самый дальний и пустынный ее угол, и там монитор пришвартовался наглухо к старым, изъеденным солью чугунным причалам.
После этого в течение каких-нибудь десяти минут все снасти на мониторе покрылись выстиранным матросским бельем, преимущественно тельняшками. Уснувший корабль стал похож на плавучую прачечную. Было ясно, что он отвоевался навсегда.
Нирк ушел в «морские инстанции» и через час принес все сведения о мониторе.
Шла греко-турецкая война. Каким-то образом (никто не мог этого объяснить) война застала два греческих миноносца в Черном море. Эти шустрые миноносцы тотчас же открыли боевые действия против единственного турецкого монитора. Он не успел укрыться в Босфор, под могучую защиту батарей.
Миноносцы гоняли престарелый и больной монитор по всему Черному морю, не давая ему перевести дух. В конце концов, они загнали его в самый угол моря, к Батуму, и в азарте даже влетели с полного хода в наши воды.
Батумская крепость остановила их выстрелами и отогнала подальше от берегов, а монитор поднял сигнал о том, что он просит убежища у нас, соглашаясь разоружиться и быть интернированным.
Действительно, орудия с монитора были сняты. Команде монитора следовало, по международным законам, сойти на берег и оставаться там до конца войны. Но команда не торопилась, как говорили, от лени.
Действительно, в бинокль было видно, как турки ели на палубе плов, пили кофе, играли в кости, штопали свое ветхое обмундирование, искали друг у друга в головах или безмятежно спали, задрав ноги в толстых красных носках на крышки люков.
Иногда после яростных криков боцмана команда начинала подметать палубу. Пыль подымалась над монитором, как вялый пожар.
А иной раз команда даже пела, вернее, тянула под удары барабанов какую-то глухую и грозную, очевидно, военную песню. Она совершенно не вязалась с унылым и бездельным видом матросов.
Чачиков восторгался этой песней, считал ее образцом боевой поэзии, перевел на русский язык и пел под рваные аккорды гитары.
Солнце стоит над горами,
Тает в долинах роса.
Мы все идем, а над нами
Тяжко висят небеса…
Все мы идем из Завета,
Грозен, бесстрашен наш взгляд.
Все мы сыны Магомета,
Мы не вернемся назад…
Но монитором занимались недолго. Вскоре о нем забыли, а потом война кончилась, и он исчез, должно быть, ушел в один из портов желтого, как охра, Анатолийского побережья.
Военнопленный Ульянский
Газета «Маяк» печаталась на «бостонке». Это была маленькая печатная машина. Ее приводили в движение ногой. Надо было сильно нажимать педаль, и машина, похожая на зубоврачебное кресло, выбрасывала с легким грохотом оттиски размером с лист писчей бумаги.
Размер этот назывался альбомным. Он действительно не превышал величины страницы из дамского альбома для стихов.
Из этих коротких технических объяснений вы сами можете понять, как трудно было втискивать в эту газету телеграммы РОСТА, все морские новости, статьи, очерки и даже рассказы. Особенно много микроскопический «Маяк» писал о единении народов Малой Азии. Батум как бы принадлежал к этой Азии, во всяком случае, к Ближнему Востоку.
Эта задача была очень по душе всем нам, сотрудникам «Маяка». Моя старая литературная любовь к Востоку получила неожиданное живое завершение. Все казавшееся очень далеким, к примеру, какое-нибудь полурелигиозное, полуполитическое движение Эль-Бабе становилось близким, соседним. Вчерашние мифы превращались в газетную полемику.
Из-за малого формата и тесноты в «Маяке» господствовал короткий телеграфный стиль.
Недаром единственный молодой наборщик и печатник по имени Ричард (он был курнос и происходил из города Мелитополя) говорил:
– Это же не газета, а конфетти!
Ричард носил на поясе облезлую кобуру от револьвера «наган», хотя самого револьвера у него не было и не могло быть. Эта кобура была для Ричарда атрибутом его воображаемой лихости и источником постоянных недоразумений с милицией.
В конце концов, кобуру у Ричарда отобрали. С тех пор он потерял все свое нахальство, притих и начал задумываться.
Я впервые встретил человека, которого ничто не интересовало, кроме оружия. Носить пистолет – «пушку», по его терминологии, – было единственной целью и усладой его жизни. Иногда он бросал работу, приходил ко мне в редакцию в «Бордингауз», швырял в сердцах на стол кепку и говорил с отчаянием:
– Уйду в милицию, клянусь папашей! Дадут мне шпалер с прикладом. Дубовую доску в дюйм толщиной простреливает навылет с десяти шагов. Шик, дрык, иммер элегант!
Это был человек, о каких в народе говорят, что у них вместо души пар. Вскоре я с облегчением избавился от него. С малых лет я не любил оружия. Оно всегда казалось мне покрытым налетом запекшейся человеческой крови. И люди, играющие с оружием и рисующиеся им, вызывали неприязнь, тем большую, что они часто бывали трусливы и глуповаты.
После Ричарда газету набирал вялый и совершенно глухой юноша. Наборщики дали ему диковинное чеховское прозвище: «Спать хочется».
В «Маяке» быстро возникла галерея сотрудников. Каждый из них, откровенно говоря, заслуживает рассказа.
Первым в редакцию пришел тощий, как жердь, позеленевший от голода человек и назвался бывшим корректором петербургской газеты «Речь». Он просидел два года в немецком плену и, возвращаясь в Россию, попал помимо своей воли в Батум. Фамилия его была Ульянский[7]. В рукав его потрепанной и продувной куртки была вшита, как у всех военнопленных, желтая полоса.
Трудно было понять, как человек, направлявшийся к матери в Рязань, попал вместо этого в Батум.
– Очень просто, – объяснил мне Ульянский, сидя за кухонным столом в редакции и глотая слюну. На столе лежал свежий чурек, кусок колбасы и стоял облупленный эмалированный чайник. – Очень просто, – повторил он. – Наша команда попала в самую заваруху. Сначала нас высаживали из эшелона по нескольку раз в день, вербовали в банды, грозили разменом, а потом выгнали из теплушек совсем: «Идите куда хотите, хоть к такой-то бабушке, только не путайтесь под ногами. Дотопаете до места пёхом, да еще скажете спасибо, что не заставили вас драться». – «С кем?» – спрашиваем. Отвечают каждый раз по-разному и довольно неясно: то с григорьевцами, то с Махной, то с галипийцами, а то еще с какими-то «батьками» – Переплюй-Кашубой и Зинзипером. Тут-то мы окончательно поняли свое бедственное положение. Кто-то из пленных пустил лозунг: «Прибивайся к кому попало, абы давали какой ни на есть паек!» Часть прибилась, а нас, неприкаянных, осталось всего три из всего эшелона. Решили все-таки пробиваться на восток, по домам. Все время петляли, чтобы обойти опасные, взрывчатые места.
Сначала нас медленно отжимало к северу, потом начало жать обратно на юго-запад, но вдруг сдвинуло одним рывком прямо к Дону и за Дон – к станице Тихорецкой. Там нас все-таки забрали на трудовые работы и отправили в Туапсе. А из Туапсе – рукой подать до Батума. Сюда я попал один: товарищи отстали.
Сейчас я не понимаю главного – где я? В старой России или в Советской? И кто я такой? Имею ли я право жить или я уже мертвец и только по недосмотру охраны болтаюсь на этой земле? Это я говорю вам к тому, что мне необходимо понять, что происходит, и почувствовать себя не мишенью, как я себя ощущал последние три года, а человеком. А для этого мне нужна работа, хотя бы самая жалкая. Вот я и пришел к вам. Прочел на дверях «Бордингауза» вывеску и пришел.
Говорил он тихо, убежденно, но не подымал глаз, все время смотрел на свои рваные, заскорузлые бутсы. Кожа на лице и руках у него была тусклая и серая от въевшейся в поры угольной пыли.
– Вы где ночуете?
– На товарной станции. В пустых товарных вагонах.
– Погодите минуту.
Я пошёл к Нирку. Надо было поговорить, чтобы Ульянскому разрешили ночевать в «Бордингаузе».
Нирк тотчас согласился. Он был покладистый и добрый парень. Единственным его крупным недостатком были длинные разговоры о калориях. Нирк переводил все на калории, каждый стакан чаю. Он был просто ушиблен калориями и уверял, что заставит свой организм вырабатывать ежедневно одно и то же количество калорий, не позволит им шататься то вверх, то вниз и поэтому проживет не меньше ста лет.
Я вернулся в редакцию и с удивлением взглянул на Ульянского, – капли пота обильно стекали по его небритым щекам. На столе было пусто. Я не обнаружил ни крошки хлеба и ни единого ломтика колбасы.
Я сделал вид, что ничего не случилось. Но Ульянский, конечно, понял, что внезапное и таинственное исчезновение моего жалкого дневного пайка не может пройти незамеченным. Голова и руки у него дрожали.
Больше всего я боялся сделать какую-нибудь неловкость, чтобы не обидеть Ульянского.
Я показал ему чулан для ночлега, но он отказался ночевать в нем, сказал, что привык к свежему воздуху и потому предпочитает товарные вагоны, благо осень в Батуме очень теплая. Потом он сказал, что хотел бы написать для «Маяка» небольшой художественный очерк о батумском порте. Я согласился.
Через два дня Ульянский принес мне этот очерк. Он написал его синим карандашом на обороте железнодорожной накладной. Текст очерка путался с графами накладной, и в нем ничего нельзя было разобрать. Я дал Ульянскому бумаги и заставил его переписать очерк начисто.
Потом я читал очерк, а Ульянский пил, отдуваясь, чай с черствым хлебом и сахарином и искоса поглядывал на меня.
Очерк напомнил мне лучшую прозу Куприна. Он был так же свеж, сочен, богат живыми подробностями. Трудно было поверить, что этот очерк был первой литературной работой Ульянского, хотя он божился, что это именно так.
Я напечатал очерк, заплатил Ульянскому гонорар, и с тех пор он почти все дни просиживал в редакции и помогал мне во всем. Он даже научился набирать, а когда «Спать хочется» падал от усталости, что с ним бывало нередко, Ульянский крутил за него ногой бостонку.
Писал Ульянский легко, но хорошо. Мне, а потом и Бабелю и Фраерману (он вскоре появился в перспективе батумских улиц) нравилась манера Ульянского изображать характеры людей при помощи внешних признаков, едва заметных примет.
Так, в одном из очерков он описывал капитана английского наливного парохода «Карго». Очерк он назвал «Макинтош». По существу он подробно писал в нем о новом макинтоше, который видел на этом капитане. Но все свойства макинтоша – холодного и чуть липкого на ощупь, пахнущего дезинфекцией, трескучего и неудобного, серого, как дождевое небо, – все эти свойства передавались владельцу этого макинтоша – капитану «Карго».
Лицо его казалось, писал Ульянский, выкроенным из куска макинтоша и невольно вызывало представление о коже, тонкой, холодной и скользкой, как лягушка. Цвет глаз капитана был не отличим от цвета макинтоша, – вся британская скука, холод сердца и плоскость мысли отражались в этих пустых и скучливых глазах. Эти глаза ничему не удивлялись и ни от чего не могли прийти в восторг.
Всюду плавала вместе с капитаном и его макинтошем многолетняя скука и отсчитывала время, как контрольные часы – коротким карканьем немногих английских слов. Их капитан скупо отщелкивал, как на арифмометре, в течение длинного корабельного дня,
Я не ручаюсь за безусловную точность передачи писательской манеры Ульянского, но в общих чертах это было так.
Ульянский вызывал невольное уважение. Он никогда не говорил зря и, видимо, весь плен перестрадал молча, накапливая запасы наблюдений и гнева.
На второй месяц своего сотрудничества в «Маяке» он пришел рано утром и, отводя глаза, сказал, что через час уходит из Батума в Баку, где у него живет тетка.
– Не могу сидеть на одном месте, – признался он убитым голосом. – Противно!
– Вы что же, – спросил я, – собираетесь идти в Баку пешком?
– А то как же! Я уже прошел пешком от Мариуполя до Батума. И меня ставили к стенке всего три раза. Только три раза. Дойду и до Баку.
И он исчез, чтобы неожиданно появиться через два года в Москве по пути из Мурома в Ленинград, – опять от какой-то тетки к другой тетке. Снова он шел пешком.
Я пошутил насчет его многочисленных теток, а он усмехнулся в ответ и сказал:
– Что ж поделать, если это так. Я иду и представляю себе, как милые ленинградские старушки – тетя Глафира и тетя Поля (они живут на Пряжке) будут радоваться мне, давно уже пропавшему без вести, как соберут простой ужин, как окна в домишке запотеют от самовара, каким удобным покажется мне кряхтящий диван под сенью фикусов, какой великолепный сон придет на смену усталости, но и сквозь сон я буду слышать свистки пароходов на Неве и дожидаться утра, когда снова и снова, но как бы впервые развернется передо мной одним взмахом самая прекрасная в мире панорама невских берегов.
– Да, – сказал я, захваченный его сдержанным волнением. – Да… «А над Невой – посольства полумира, Адмиралтейство, солнце, тишина…»
– Я помню, как вы читали эти стихи в Батуме в «Бордингаузе», – улыбнулся Ульянский. – Ну, будьте здоровы. Еще увидимся.
Но увидеться нам не пришлось. Через год я получил почтовую бандероль из города Чигирина с Украины. В бандероли была книга Ульянского. Называлась она, кажется, «Записки из плена» и была издана в Ленинграде.
Из надписи на обложке я понял, что Ульянский снова бродяжит по стране, теперь, должно быть, в поисках какой-нибудь тётки на Украине.
Книга была написана свежо, крепко и, я бы сказал, беспощадно.
Вскоре я купил в Москве новую книгу Ульянского «Мохнатый пиджачок» с предисловием Федина. Из этого предисловия я узнал, что Ульянский недавно умер от тифа в Ленинграде.
Ульянский начал как большой писатель. И было очень горько, что погиб этот человек, не успевший отдохнуть от плена, писавший в полном одиночестве свои превосходные книги. Было горько и оттого, что никогда уже не подует ему в лицо любимый им черноморский ветерок, или, как он ласково и насмешливо говорил, «зефир».







