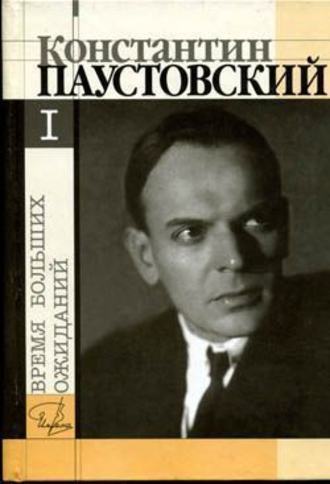
Константин Паустовский
Бросок на юг
Последний луч
Последний луч солнца, падая на землю, показывает се совсем в ином виде, чем под прямыми солнечными лучами. Все становится более выпуклым и весомым. Краски приобретают густоту, приближают к нам первые планы ландшафта, но вместе с тем удлиняют дальние и уводят их в бесконечную прозрачность. Она тускнеет медленно, по мере того как солнце покидает небосклон.
Приближение вечера тем и прекрасно, что придает густоту краскам и необычайную легкость воздушным пространствам.
Этот эффект последнего солнечного света впервые увидели художники, особенно Клод Лоррен, Манэ, Тернер, наш Левитан и многие другие. Следя за их взглядом, мы увидели то же самое, что видели и они.
Сейчас я опять поймал себя на мысли, смущающей меня постоянно. Когда я разрушаю более или менее трезвое течение прозы, бросаясь в излюбленную область звуков и красок, то теряю в некоторых случаях чувство меры.
Желание передать окружающим свое видение мира бывает настолько сильным, что требование соразмерности отступает перед ним.
Вот и теперь я заговорил о закатах, тогда как мне нужно написать об отъезде из Батума и бросить последний взгляд на этот необыкновенный и живописный город.
Я давно заметил (хотя это очень субъективно), что при прощании с каким-нибудь уголком земли он появляется перед нами в самом превосходном и выпуклом виде: именно как пейзаж, освещенный последним светом вечерней зари.
Так было и с Батумом. Мы с Фраерманом назначили уже день отъезда.
Как всегда при расставании, надолго, а может быть, и навсегда, все в Батуме казалось сейчас милым – даже дождь и жирный дым наливных пароходов.
Хмурая и теплая зима поселилась в порту. Иллюминаторы пароходов были освещены изнутри, будто во всех каютах горели елки. Море затихало после бури и сонно пело, задумчиво перебирая гальку. Цвет воды был светло-серый, но удивительно теплый и прозрачный.
Вся преувеличенность южных красок и несколько крикливый цвет моря исчезли и приобрели сдержанность. В красках появились новые сочетания, каких никогда не было летом.
Однажды я видел, как в порт вползал заржавленный до красноты высокий грузовой пароход. По морю шла волна, и пена, облизывая борта парохода, тотчас таяла.
Заходящее солнце светило угрюмо и низко. Соединение белой пены, рыжих бортов и красного солнечного пламени в стеклах палубных надстроек показалось мне одним из живописнейших зрелищ, какие я видел на земле.
Солнце село. Вечер, подернутый лиловым налетом, принес тишину. Только где-то далеко от порта она была украшена едва слышным пением сазандари.
Когда последний луч падал на Батум, то город каждый раз казался нагромождением ржавого дымящегося железа, брошенного к подножию сумрачных гор.
Никогда я не видел на батумском закате того знаменитого «зеленого луча», о каком слышал много разговоров. Кстати, о нем писал Куприн.
В последние дни я часто ездил на Зеленый мыс и в Чакву. В зарослях Зеленого мыса было просто жутко от обилия растительности. Казалось, что лавина листвы, в конце концов, остановит маленький дачный поезд с игрушечными открытыми вагончиками.
В последний вечер все собрались у Синявских на Барцхане. Пришли Фраерман, Чачиков, Мрозовский, Довгелло, корректор Семен Акопович и Нирк.
Люсьена жарила пирожки с камбалой. Чачиков принес гитару.
Мы пели под нее множество песен, большей частью печальных, но они не вызывали у нас грусти. Очевидно потому, что Батум для нас всех (кроме Мрозовского) был только «почтовой станцией» на той огромной жизненной дороге, какая еще лежала перед нами. Она звала нас дальше, сулила неожиданности – правда, туманные, но, безусловно, заманчивые, – новый труд, новые встречи, новые беды и удачи.
Странно устроен человек: несмотря на интересную жизнь в настоящем, мы жаждали будущего и без конца говорили о нем. Мы жили будущим. В настоящем и прошлом мы искали только доказательств неизбежного прихода этих будущих времен. Они придут. В этом мы были уверены, несмотря на то, что подчас жестокие препятствия задерживали их приход.
Наутро на закруглении железнодорожного пути у Зеленого мыса в окна вагона широко сверкнуло Черное море, и у меня забилось сердце: я расставался с морем надолго, может быть, навсегда.
Но мои лирические и печальные размышления у окна вагона были прерваны внезапным яростным криком:
– А ну, покажи билет!
Я быстро обернулся. Позади меня стоял черный горбоносый человек с унылым лицом неудачника. На нём были пыльные черные галифе с оранжевым кантом, стоптанные чувяки, сиреневые носки. Чтобы они не падали, на ногах у этого странного человека пониже колен были надеты подвязки ярко-красного цвета.
Позади этого человека стояли два ухмыляющихся солдата с винтовками в таких же сиреневых носках, чувяках и подвязках.
Я молчал, пораженный. Тогда унылый человек снова прокричал яростным голосом, но на этот раз уже покраснев от нетерпения:
– А ну, покажи билет!
Тогда я догадался, что это обыкновенный поездной контролер. Окончательно я понял это, когда заметил около вооруженных юношей несколько смущенных безбилетных пассажиров. Они с интересом и сочувствием смотрели на меня, как на товарища по несчастью.
Я протянул билет. Контролер скучно посмотрел на пего, пробил щипцами и вдруг кинулся, как коршун, на моего соседа – старика с кошелкой яиц:
– А ну, покажи билет!
Старик ласково улыбнулся, но билета не показал. Вместо этого он встал и молча присоединился к толпе безбилетных.
Юноши с винтовками погнали, посмеиваясь, безбилетных, как отару овец, в соседний вагон. Туда же ушел и контролер.
– Они всегда так кричат, – горько пожаловалась нам старая грузинка в черной круглой шапочке «кеке» и с кисейной фатой позади. – Можно просто оглохнуть на этой железной дороге, пока доедешь до Зестафони. Ой, горе! Ой, горе!
– На пушку берут, – объяснил веселый матрос. – А зачем, непонятно. Будто от ихнего крика билет сам по себе возникнет.
– Все бывает, – вздохнул старый грек в очках. – Плохой человек как крикнет, так даже земля может остановиться, кацо!
Вскоре я привык к удивительным нравам на Закавказских железных дорогах. Но в первый раз мы смеялись с Фраерманом до слез.
Намёк на зиму
Два года я не видел льда и снега. Вернее, я их не замечал. Правда, в Одессе зимой мостовые изредка покрывались льдом, но зимние дни были такими угрюмыми и лишенными света, что даже не хотелось смотреть по сторонам. Поэтому я плохо запомнил одесские лед и снег.
В Тифлисе же прямо с вокзала мы с Фраерманом вошли в разнообразный свет солнца, в его отражения от окон домов, в блеск маленьких луж, покрытых тончайшей пленкой льда, в воздух, какого я еще не видел. Он весь переливался, вспыхивал, гас и снова блестел и как бы разгорался, будто он состоял из миллионов ледяных чешуек.
Этот свет и льдистый блеск воздуха вызвали у меня первое впечатление о Тифлисе как о городе таинственном и увлекательном[10], как о некоей восточной Флоренции.
Я представлял себе Тифлис менее интересным, чем он оказался.
Я не знал, что в Тифлисе бывает хотя и очень слабая, но все же зима. Вернее, намек на зиму. Она напоминает наш ясный и прохладный сентябрь. Запах льда в тенистых палисадниках и оттаявших луж на согретых солнцем тротуарах относится к довольно явным, но коротким признакам этой зимы.
Кроме того, то тут, то там просачивался из домов на улицы слабый запах дыма и угля от каминов и мангалов.
На вокзальной площади мы остановились, пораженные зрелищем гористых кварталов города. В них тихо и свежо лежало утро.
Я почему-то подумал, что в этом городе возможны, а может быть, и неизбежны всякие интересные истории.
Это ощущение было в какой-то мере сказочным и веселым. От него то возникало, то затихало под сердцем глухое волнение.
Я знал уже много мест и городов России. Некоторые из этих городов сразу же брали в плен своим своеобразием. Но я еще не видел такого путаного, пестрого, и легкого, и великолепного города, как Тифлис.
В течение тех нескольких минут, что мы простояли с Фраерманом на вокзальной площади, я решил, что жизнь в Тифлисе не пройдет для меня даром и что этот город не может не отозваться на моей судьбе. Конечно, я тотчас же посмеялся над этими своими мыслями, но не смог прогнать их. Они спрятались в глубине сознания и часто напоминали о себе.
Уверенность, что в этом городе случится со мной милое и неожиданное событие, осуществилась через короткое время после приезда в Тифлис.
Пока мы с Фраерманом смотрели на город и обменивались несколько восторженными впечатлениями, к нам неслышно подошел в мягких чувяках старый, седой муша, быстро схватил наши чемоданы, ловко вскинул их себе на спину, на «горб», и побежал, приседая, прочь от вокзала в тесную и извилистую боковую улицу.
Мы оторопели. Первым пришел в себя Фраерман. Он вскрикнул и побежал вслед за мушей. Я бросился за Фраерманом.
Муша, не переставая бежать, оглядывался и кричал:
– Не пугайся, кацо! Добежим до угла, там отдохнем. Пожалуйста, не пугайся!
Мы ничего не понимали. Мысль о том, что муша – вор и уносит наши чемоданы, тотчас исчезла после его озабоченного крика.
Но добежать до угла нам так и не удалось. Из нескольких подворотен сразу выскочили молодые мути. С отчаянными гортанными криками они окружили нашего мушу, отняли у него чемоданы, швырнули их на мостовую и начали толкать старика назад, в сторону вокзала. Они так кричали и так гневно вращали глазами, что казалось, вот-вот произойдет убийство.
Мы бросились на помощь старому муше. Тогда молодые муши перестали кричать и начали смеяться, а старый муша, ласково улыбаясь, снял шапку и попросил заплатить ему хоть немного за эту пробежку от вокзала до угла.
Я заплатил. Муши вытерли пот, вытащили папиросы, все сразу закурили и, посмеиваясь, угостили старика. Потом они объяснили нам, что Тифлис поделен артелями мушей на участки и ни один муша не имеет права перехватывать работу не на своем участке, как это сделал наш старик.
Оказывается, что как раз за углом начинался его участок. Поэтому старик и торопился добежать до угла, но попал в засаду. За углом он был бы уже в безопасности. Это подтвердил милиционер, появившийся на шум. Он был очень доволен этим происшествием, возможным, конечно, только с людьми, впервые приехавшими в Тифлис. При этом он изысканно извинился за «маленькое беспокойство».
– Люди хотят жить поровну, – объяснил он нам. – Равенство! Завоевание революции, генацвале! Здесь я отвечаю за всех мушей и за каждую вещь. Головой отвечаю. Милости просим ко мне на участок! Всегда рад оказать приятельскую услугу.
Двое молодых мушей взяли наши чемоданы и, поигрывая ими, как пустыми кошелками, пошли впереди нас по адресу, который я им сказал.
При каждой, даже самой ничтожной возможности они присаживались на ступеньки передохнуть, а потом, осмелев, начали заходить в маленькие подвалы-духанчики и выпивать вместе с нами по небольшому стакану красного вина.
С каждым новым стаканом настроение у нас становилось все легче и беззаботнее.
Мы болтали без умолку, встречные улыбались нам. Тифлис шумел, как водопад (это, оказывается, шумела у Верийского моста мутная Кура), продавцы кричали нараспев теноровыми голосами: «Салат, шпинат, лук зеленый, редис молодой!» Тифлисская зима сверкала нам в глаза тоненькими пластинками разбитого пешеходами Льда, густым небом, блеском начищенных медных блях на сбруе черных ишаков, тащивших аттические кувшины с мацони. Нестерпимо сверкали окна и лакированные стенки трамваев. Они мчались вдоль Головинского проспекта и напоминали передвижные ярмарочные оркестры – столько звона, треска, лязга, смеха и крика они волочили за собой, сбивая с толку таких северных новичков, как мы с Фраерманом.
Маленькие стаканы вина, отмечавшие наше медленное, но верное продвижение по Тифлису, сыграли счастливую роль: они уничтожили следы моей обычной застенчивости.
Дело в том, что Мрозовский списался со своими родственниками в Тифлисе и заочно снял для меня комнату в их доме. У Фраермана уже была готовая комната, где жила Соня.
Я немного стеснялся въезжать в комнату, снятую Мрозовским, так как знал, что родственники Мрозовского были известные на Кавказе футуристы, братья Зданевичи – поэт Илья и художник Кирилл. Я знал, что у них останавливался Маяковский, когда бывал в Тифлисе, что у них постоянно бывали все грузинские художники и поэты: и Ладо, и Гудиашвили, и Тициан Табидзе, и многие другие. Это обстоятельство меня, конечно, смущало.
Но сейчас мое смущение растаяло без остатка в легком кахетинском вине.
Зданевичи жили в старом доме с большими запутанными деревянными террасами, выходившими во двор, с полутемными, прохладными комнатами, с выцветшими персидскими коврами и множеством рассохшейся мебели. Лестницы на дрожащих террасах качались под ногами, но никого это не смущало.
С террас был виден на горизонте снег Главного хребта. Из комнат Зданевичей с утра до позднего вечера доносились аккорды рояля, женское пение, чтение стихов и шумные споры и ссоры.
По всем террасам и коридорам ходили, прихрамывая, голуби. Когда люди замолкали, то весь дом глухо и страстно ворковал.
Кроме того, с утра во всех углах квартиры была слышна зубрежка французских склонений и спряжений. Это старик Зданевич – бывший учитель гимназии – занимался французским языком сразу с несколькими недорослями и неучами. У всех недорослей, как на подбор, были унылые, бубнящие голоса.
Каждые полчаса, а то и чаще, где-то падала и разбивалась посуда. На место происшествия тотчас спешила хромая такса и долго лаяла на виновника этого события.
Такса была со странностями. Она никогда не входила ко мне в комнату, а только приоткрывала мордой дверь, просовывала голову и неподвижно и тщательно смотрела на меня томными, восточными глазами. Так она могла стоять часами, но все же время от времени вдруг подпрыгивала, изгибалась и, изловчившись, начинала что-то выгрызать у себя на боку, страшно клацая зубами.
В первый же вечер моего приезда ко мне пришла хозяйка дома, старушка Валентина Кирилловна Зданевич. Она попросила разрешения немного посидеть у меня, чтобы отдохнуть от этого, как она выразилась, «цыганского табора». Моя комната, правда, была самая тихая.
С тех пор так и повелось: Валентина Кирилловна часто приходила ко мне посидеть и поговорить, и я был очень рад этому.
Через короткое время я уже полюбил эту маленькую старушку в пенсне, родом имеретинку, бывшую певицу, ученицу Чайковского.
Валентина Кирилловна поражала меня своей проницательностью, живым умом и спокойствием. Она вырастила двух сыновей – поэта Илью и художника Кирилла. Сыновья были воинствующими футуристами. Илья по праву считался одним из вождей футуризма вместе с Бурлюком и Крученых. Он учился в Петербургском университете. Газеты тех лет часто писали о его скандалах на петербургских литературных вечерах.
Он основал в Тифлисе общество «левых» поэтов и художников. Называлось оно «Сорок первый градус» (по географической параллели, которая проходила вблизи Тифлиса).
Но Илья Зданевич, так же как и Кирилл, заслуживает отдельного рассказа[11]. Пока же я хочу закончить описание квартиры Зданевичей и ее обитателей.
Я переступил порог этой квартиры и оторопел. Стены во всех комнатах, террасы и коридоры, даже кладовые и ванная были завешаны от потолка до пола необыкновенными по рисунку и краскам картинами. Много картин, не поместившихся на стенах, было свернуто в рулоны и стояло в углах.
Все эти картины принадлежали кисти одного и того же художника, но очень редко можно было найти на них его грузинскую подпись: «Нико Пиросманишвили».
О Пиросманишвили я тоже расскажу несколько позже[12]. Сейчас же я хочу передать, если это мне удастся, то странное состояние, которое вызвали у меня его картины. Два месяца я не мог привыкнуть к ним и жил в очень конкретном, но вместе с тем и полуреальном мире.
То был главным образом Кавказ, одновременно и причудливый и точный. И не только Кавказ, но и самые разные явления жизни, увиденные совсем не так, как мы привыкли их видеть. Так наивно и свежо может видеть человек, только что прозревший после слепоты. Или человек, внезапно проснувшийся, когда действительность еще не избавилась от налета сновидений.
В моей комнате тоже висели картины Пиросманишвили (Зданевичи звали его для краткости Пиросманом). Поэтому у меня было время изучить их и полюбить.
Рядом с этими картинами совершенно терялась нарядная орнаментальная роспись на стенах моей комнаты. Она была сделана персидскими художниками по заказу квартиранта Зданевичей – персидского консула в Тифлисе, жившего здесь до меня.
Кроме картин, в комнатах было много цветов. Квартира походила на оранжерею.
Цветы часто опрыскивали свежей водой. Поэтому в комнатах пахло сырой землей и листьями.
Когда в окна ударяло солнце, квартира напоминала летний день после ливня: со всех листьев, веток и цветов торопливо падали, поблескивая, капли теплого комнатного дождя.
Срезанных и собранных в букеты цветов в доме почти не держали. Вместо них всюду лежали куски коры, похожие на корытца. Они были наполнены разными свежими цветами: фиалками и крокусами, эдельвейсами и камелиями – и мхами всех цветов: изумрудно-зелеными, рыжими, черными, золотыми, красными и лимонными. Мхи пахли йодом.
Кроме цветов и мхов, в коре держали мелкие папоротники, хвощи, всякие интересные вещи из растительного и животного мира, вплоть до корней в виде рыцарей и стыдливых купальщиц. На мхах сидели уснувшие бабочки. Они походили на беспредметные рисунки «левых» художников.
Жившая у Зданевичей экспансивная полька, художница Мария, составлявшая все эти необыкновенные «букеты», называла их «супрематистскими мотыльками» и вкрадчиво, чисто по-польски спрашивала нараспев:
– Что-о? Разве не-ет? Правда, это так похо-оже?
По всей квартире было разбросано много книг, главным образом тоненьких, с крикливыми названиями и такими же крикливыми обложками. На них были нарисованы цветные полукружья, женские груди и изломанные лучи.
Самой популярной считалась книга стихов под титлом «Цвети, поэзия, сукина дочь!». Она была набрана всеми шрифтами, какие нашлись в Тифлисе, – от афишного до перля и от курсива до эльзевира. Между отдельными словами были вставлены разные линейки, многоточия, скрипичные знаки, буквы из армянского, грузинского и арабского алфавитов, ноты, перевернутые вверх ногами вопросительные знаки, графские короны (эти клише держали до революции в типографиях только для визитных карточек), виньетки, изображавшие купидонов и гирлянды роз.
Я с удовольствием изучал эту книгу, как своего рода коллекцию типографских шрифтов.
Было много книг на заумном языке. Одна из них называлась только буквой «Ю»[13]. На столах горами были навалены рисунки, главным образом кубистические. Все женщины на этих рисунках были похожи на подруг неандертальского человека. Иногда огромные молнии с широкими хвостами разрубали на этих рисунках падавшие во все стороны дома. Очевидно, так было изображено землетрясение. Я не решался спросить Кирилла Зданевича, что значат эти рисунки. Кирилл был неразговорчив.
Брат Кирилла – Илья – уже второй год жил в Париже и подружился там с Пикассо. Об Илье у Зданевичей говорили так, будто он только что вышел за дверь.
Все делалось, как любил Илья. Никто не смел трогать его вещи. К этому все, особенно Валентина Кирилловна, отнеслись бы как к кощунству.
Первое время я добросовестно читал поэмы Ильи – и «Осла напрокат» и «Янко, круль албанской», – но мало что понимал в них. У меня начинала болеть голова. Но я не мог признаться в этом: непонимание стихов Ильи было для его родных и друзей признаком полной бездарности и мещанства.
Я вскоре заметил, что только Мария – дерзкая и насмешливая – имела право не восхищаться Ильёй.
– Я отдала долг футуризму и теперь свободна, как птица, – говорила она нараспев.
– Какой долг? – спросил я.
– Хотите, я вам покажу? – спросила она и, не дожидаясь моего ответа, вышла в соседнюю комнату. Когда она вернулась, то на ее щеке пылал смело и широко написанный масляными красками цветок розы.
– Хорошо-о, да-а? – спросила она, стараясь не улыбаться, чтобы не испортить свежий рисунок. – Вот так я ходила по Головинскому проспекту со всеми поэтами. Смешно? Правда-а?
Этот разговор с Марией был почти через месяц после того, как я поселился у Зданевичей. Первое же знакомство с Марией было и странным и смешным.
У меня в комнате был камин. В день приезда я пошел вечером на террасу за дровами для камина. По нашим московским понятиям, это были не дрова, а мелкие ветки, к тому же еще и колючие.
Мне надо было пройти через столовую. Там за обеденным столом пили чай Валентина Кирилловна, старик Зданевич, высокая молодая женщина, тонкая, как змея, и вторая молодая женщина, с бледным, как бы от сдержанного волнения, немного надменным лицом, совершенно прозрачными зелеными глазами и яркими смеющимися губами. Тяжелый серебряный браслет звенел у нее на руке.
– Вот, – сказала мне Валентина Кирилловна и показала на эту женщину, – познакомьтесь. Это наша Мария. Пожалуйста, не пугайтесь ее разговоров.
Мария порывисто встала и протянула мне руку. Звякнул браслет. Она усмехнулась, глядя мне в глаза, и вдруг, будто без всякой надобности, нервно и быстро оглянулась – за ее спиной висел на стене ее портрет, написанный броско и вместе с тем нежно.
– Работа поэта Терентьева, – сказал старик Зданевич. – Он у меня в гимназии шел по французскому на пять с плюсом.
Мария чуть улыбнулась. Она молчала. Я тоже молчал.
– Извините, – вдруг спохватилась Валентина Кирилловна; – А вот эта черная женщина, прелестное существо, – наш общий друг, черногорка Живка.
– Черногория по-сербски выговаривается Црна Гуpa, – сказал старик Зданевич. И вдруг продекламировал с пафосом: – «Черногорцы, что такое? – Бонапарте вопросил. – Правда ль, это племя злое не боится наших сил?»
Все опустили глаза. В соседнем доме слабый тенор пел:
Белых лилий Идумеи
Белый венчик цвел кругом…
– Цветут не венчики, а лепестки! – сердито сказал старик Зданевич.
Опять никто не отозвался на эти слова.
– Садитесь, – сказала мне Мария. – Я вам налью чаю.
– Сейчас. Я только принесу из кухни дрова для камина.
Я пошел в кухню. Там было темно. За окном были видны одиночные и слишком яркие звезды над неясными вершинами гор.
Я набрал дров и пошел обратно. Теперь в столовой сидели только Мария и черногорка. Старики ушли.
Мария внимательно посмотрела на меня. В то же мгновение вся вязанка дров рассыпалась и полетела на пол.
– Мария, это свинство, – равнодушно сказала черногорка.
– Я так и знала, – грустно сказала Мария и встала. – Иначе и не могло быть. Погодите, я вам помогу.
Она быстро собрала дрова, но не дала их нести мне. Она сама отнесла их в мою комнату и разожгла камин.
Она стала на колени перед камином и, низко наклонив голову, почти лежа щекой на полу, раздувала слабый огонь. Ветки трещали и стреляли искрами.
Я хотел сказать ей, чтобы она встала. Ее волнистые каштановые волосы все время падали на пол, и она нетерпеливо отбрасывала их назад рукой в звенящем серебряном браслете.
Мы долго молчали. Потом я спросил ее:
– Вы сказали, что иначе и не могло быть. Что это значит?
Она подняла голову, посмотрела на меня снизу, и я вдруг вздрогнул от блеска ее встревоженных глаз.
– Это значит, что я взбалмошная дура, – ответила она, вскочила и вышла из комнаты. – Идите пить чай.
Так случилось то неожиданное и милое событие, о котором я впервые подумал на площади Тифлисского вокзала.







