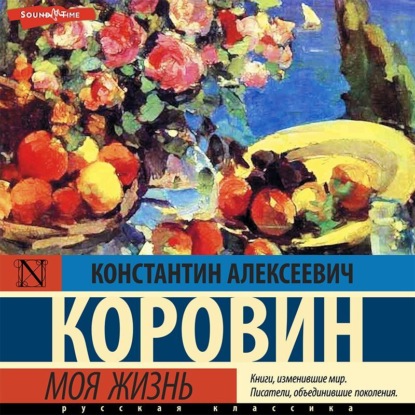- Рейтинг Литрес:5
- Рейтинг Livelib:4.6
Полная версия:
Константин Алексеевич Коровин То было давно…
- + Увеличить шрифт
- - Уменьшить шрифт

Константин Коровин
То было давно…
© «Захаров», 2021
* * *В России, до революции
Львы
Давно то было. Помню, жарким летом в Москве пришел я писать декорации для оперного театра в мастерскую на Садовой улице, в дом Соловейчика. Завернул в ворота – большой двор, а в конце двухэтажное деревянное здание: декоративная мастерская. Рядом, за забором, виднелись верхушки деревьев большого сада, в котором к вечеру гремела музыка. Там был театр, оперетка, открытая сцена – певицы, паяцы и всякие представления.
Подходя к крыльцу мастерской, я услышал за воротами заднего двора рычание львов. В мастерской я спросил главного мастера по составлению красок Василия Харитоновича Белова:
– Василий, что это тут, на заднем дворе, львы рычат?
– И-и… – отвечает Василий Белов, – столько львов этих, прямо стадо! Приехали представление давать – вот, в саду у Лентовского. Они в клетках на колесах, вагонами стоят на дворе. Их утром кормили – как орут, ужасти! На улице слыхать. Извозчики, у кого лошадь прямо кляча, и та, услышит – вскачь лупит. Боится, конечно: сожрут. Да и верно, чего начальство глядит? А ежели они из клеток невзначай выскочут, дак пол-Москвы народу передушат. Вот ведь что… – И Василий показал рукой, что, мол, взятки берет начальство, а то бы львов не пустили.
Я начал писать декорацию и опять услышал, как за стеной мастерской, на заднем дворе, рычат львы. Василий подает мне в горшках разведенные краски.
– Главное, это самое, – говорит он, – их хозяин – укротитель, мадьяр, из немцев, так он с ими вместе в клетке спит. Потому, говорит, что тут у нас, в Москве, мух оченно много – одолевают. Так он к львам спать уходит. Мухи не летают к львам, боятся. Там с ими спать-то покойней.
«Вот здорово», – думаю. И говорю, смеясь:
– Ты, Василий, врешь чего-то.
– Вы ведь ничему, Кинстинтин Лисеич, не верите, вам только смешки. Я верно говорю – сорок львов, а он с ими спит.
– Что же, ты это видел, что ль?
– Чего видел. Вот в портерной хозяин Митрохин говорил, а ему околоточный сказывал, Ромашкин: тот сам видел. Я хотел тоже поглядеть, ну и пошел. А клетки брезентом закрыты, не видать, а туда, в нутро, не пускают, гоняют. Пусти-ка, народу что соберется, да и опасно. Гляди – выскочит лев, ну и ау, мигом сожрет.
Выйдя к вечеру из мастерской, я зашел на задний двор и действительно увидел много вагонов, соединенных вместе и покрытых брезентами. Около стояли какие-то люди, видимо, иностранцы.
У себя дома, на Долгоруковской улице, я застал Серова и рассказал ему про львов. На другое утро Серов пошел со мной, взяв альбом и карандаши, хотел просить разрешения рисовать львов.
Когда мы пришли на задний двор, где стояли вагоны-клетки, около них сидели двое в рубашках и зашивали большие полотна брезента, а другие, в рабочих блузах, разводили в больших низких лоханях мыльный порошок и клали большие трубки, которыми садовники обрызгивают цветы. Всё это они подняли и унесли внутрь, за брезенты.
Серов обратился к одному из сидевших по-немецки. Тот крикнул, кого-то позвал. Из-за опущенного брезента вышел небольшого роста крепкий человек с широкой шеей и голубыми глазами. Во рту у него была трубка. Он, слушая Серова, смотрел ему в глаза и кивал головой, как бы соглашаясь, а потом позвал нас за собой.
Он отвернул полу брезента, и мы увидели стоящие покоем длинные клетки во всю площадку открытых товарных вагонов. Слева, в клетках, соединенных вместе, была бурая масса львов, больших, покрытых густыми гривами, а в середине и справа их было меньше, по одному в клетке, без грив.
Хозяин зверинца, укротитель, взял меня за плечо и сказал:
– Не стойте близко к этим, – он показал на небольших львов без гривы, – нельзя близко подходить, могут схватить лапами из клетки. Это молодые и очень злые, дикие, недавно пойманные львы. А вот эти, – показал он на массу больших львов, – мои дети. Они смирные. Это вот мой друг, старик-красавец… – И он протянул руку в клетку, погладил морду огромного льва, который открыл пасть и, как бы зевнув, прорычал «Гы-уа…»
В его огромной пасти были большие темные старые зубы.
– Посмотри, какая громада, – сказал мне Серов. – Какая голова, грива… Грозный красавец.
В это время отвернулся полог, вошли люди в блузах, таща плоские круглые зеленые лохани с водой – в них белой пеной клубилось разведенное мыло.
Укротитель, подойдя к клетке, схватил рукой железные брусья, и стена клетки покатилась вбок на роликах.
Между нами и львами клетки больше не было.
Мне так и ударило в голову со страху, я почувствовал, что у меня ноги обмякли. Я не мог бежать. А львы стояли перед нами…
Укротитель по железной лесенке прыгнул в львиную клетку, на площадку. Львы посторонились, и люди начали подавать ему туда круглые плоские лохани. Львы медленно отходили в сторону, в глубину. Укротитель потянул за прутья, клетка опять закрылась, скрипя по роликам. Он посмотрел на нас из клетки и, увидев, что мы стоим бледные, сказал по-немецки:
– Не бойтесь. Любая кошка опаснее этих львов.
Он крикнул что-то львам, скидывая с себя желтую кофту, бросил ее на пол, оставшись по пояс голым. К нему подошел огромный лев-старик. Немец, нагнувшись к его голове, что-то ему сказал. Старик-лев, подойдя к самой решетке клетки, где мы стояли, и смотря на нас, старался пропихнуть лапу между брусьями клетки.
– Это он вам руку подает в знак дружбы, – сказал укротитель. – Пожмите ему лапу, не бойтесь.
Серов и я еле дотронулись до огромной львиной лапищи.
Лев открыл пасть и как бы сказал: «Ы-ы… а-а…» И, растопырив лапу, выпустил когти. Ну что это была за лапа – ужас! Подняв голову и сверкнув глазами, он снова зарычал. Как будто хотел сказать: «Вот я какой зверь…»
А укротитель подошел к куче львов, взял одного за гриву и повел с собой к лоханям, сказал что-то, ткнул в бок рукой. Тот сразу лег на пол. Немец сел на него, на шею, спиной к голове, достал из лоханки широкую щетку, обмакнул ее в разведенное мыло и стал обеими руками мыть льва… Он вымыл одну сторону, встал, и лев повернулся на другой бок. Мытье продолжалось. Львов, покрытых мылом, из-за клетки поливали водой из трубки.
Стукнув льва по заду, отчего тот прыгнул, укротитель вел мыть следующего. И так одного за другим… Львы подходили к решетке, и люди, стоявшие около нас, чесали им гривы большим деревянным гребешком, что, видимо, царям зверей очень нравилось.
Мы посмотрели и простились с укротителем. Он сказал из клетки Серову:
– Приходите рисовать от часу дня.
– А струсили мы с тобой, когда клетку-то он открыл… – говорил мне Серов по дороге в мастерскую.
– Ах, не говори! У меня даже как-то ноги обмякли…
Серов приходил рисовать львов каждый день.
– Странная история эти львы, – говорил он у меня в мастерской. – Знаешь, ведь верно: он спит у них в клетке. Сегодня он разбежался и бросился в кучу львов, они его все покрыли. У меня от страху закружилась голова. Эти львы родились в клетках, он их, оказывается, сам выкормил всех из рожка, и они, когда еще львятами были, спали с ним вместе. А когда их кормят сырым мясом, он уходит из клетки: львы дуреют от крови, нечаянно могут ударить лапой. Убить. Но ведь и у собаки нельзя отнять кость.
Мы пошли смотреть, как кормят львов.
– Стойте тут, за брезентом, – сказал укротитель, – а то они стервенеют, когда посторонние смотрят. Они думают, что вы тоже пришли есть мясо, отнимать у них, у них есть эта дурацкая штука. Но только я их отучил драться друг с другом. А вот людей не отучишь… – И он рассмеялся.
Видно было, что этот сильный и добродушный человек любил своих львов. Он рассказал нам забавный случай: в клетку случайно забрел маленький котенок, увидав львов, ощетинился и зашипел. Львы бросились от него во все стороны как угорелые, перепугались до смерти, тряслись, орали как бешеные…
А после представления укротитель со служащими обычно сидел в портерной на Садовой и пил пиво. Ему нравилось русское черно-бархатное пиво и русский портер. Старик-лев тоже любил черное пиво и русский мед.
Как-то укротитель показал мне одну львицу, которая ходила неустанно по клетке взад и вперед, худая и скучная. Около нее лежал на полу львенок.
– Молока у ней нет, – сказал мне укротитель. – Это добрая мать, она уже дала мне много львов. – И он внезапно открыл передо мной клетку, прыгнул к львице, нагнулся, взял львенка и подал его мне из клетки.
С перепугу сердце у меня разрывалось на части. Львенок оказался тяжелым, как налитый свинцом, тонкая шейка, большая голова, большие лапы. Он сейчас же открыл рот и стал кусать мне руку. Но у него не было еще зубов.
Укротитель взял у меня львенка и подошел к деревянной закутке, отодвинул полог из грязной тряпки. Там на сене лежал большой дог – самка, и два львенка сосали у ней грудь. И этого львенка он положил к догу. Львенок сейчас же, взяв в рот сосок, уперся лапами догу в живот. Дог полизал его голову. «Мать…» – подумал я.
– Вот, – сказал укротитель, – собака их кормит, и я из рожка, а то у собаки не хватает. – Смотрите, как она смотрит, – показал он на львицу. – Она понимает. Она собаку не трогает. Львы любят особую породу собак, а кошек боятся…
Вечером в саду у Лентовского гремела музыка. Масса народа. Рычали львы. За огромной железной загородкой, на открытой сцене, тридцать львов. Я увидел большого старого льва, знакомого, который давал нам лапу. Он открывал огромную пасть и глухо рычал, негодуя. Львы были в возбуждении.
В клетку вошел укротитель, одетый в светлое трико и в ярко-голубой камзол, обшитый блестками. Лихо завитой, румяный. Голубые глаза его улыбались. Публика аплодировала. В руках у него был маленький серебряный хлыстик, через который высоко прыгали львы, потом они прыгали и через его голову. Он изящно помахивал хлыстиком. Львы кружились вокруг, быстрее и быстрее, вдруг они все бросились в сторону, заревели и, рыча, медленно стали приближаться к укротителю. Он сделал вид, что испугался, пятился от них задом, смотрел на них в упор, всё отодвигаясь. Он как бы хотел уйти в дверь и остановился и уперся задом в испуге в железную загородку.
В публике прошел тревожный шепот. Кто-то крикнул. А львы приближались, рыча, к укротителю, всё ближе и ближе – вот-вот бросятся. В это время старик-лев, загородив укротителя, встал на задний лапы, открыв пасть и подняв обе лапы, в которых был пистолет, выстрелил в львов. Те все упали как убитые…
Укротитель рукой посылал публике поцелуи.
Когда кончились представления зверинца и львы уехали с укротителем из Москвы, Василий Белов мне как-то в мастерской сказал:
– Да, вот этот мадьяр – хозяин, что львов показывал, и… и денег с публики нагреб. А какие это львы? Телята. Он ведь что… Вот спросите дворника, Миколая Тихонова, он знает, он сам видал… Он у всех что ни на есть, у этих львов, все зубы и когти повыдергал клещами… Ну и что… Тада его хочь за хвост тащи. Лев!.. Чего он такой может? Зверь умный, он видит… чего ему без его оружия делать? Ни зубов, ни когтей… Вот ведь что, плутня какая… Человек-то хитрее зверя, набивает карман. То-то он с ими как с телятами, – спит, и всё такое. А у их чего – ни зубов, ни когтей, чем им жить? А то бы они его давно сожрали, только бы косточки хрустели… – Василий сердито налил в стакан пива и выпил разом с досадой. Он бойко надел картуз и, уходя из мастерской, сказал: – Смешного в этом самом мало, одна плутня…
Мельник
Камин пылал, веселил всю большую комнату дома моего – мою мастерскую.
На больших фарфоровых вазах горело золото контрастами с темно-синими высокими окнами и розовым штофом драпировок. Большие тени ложились от шкафов и стола по деревянным сосновым бревнам мастерской. Силуэты огромных елей торжественно глядели в окна. Горизонт далеких лесов был таинственен…
Как прекрасна Россия, какая музыка в образе твоем, в холмах твоих, в дорогах, бегущих туда, туда, где будто счастье! Там, за этой далью, другая жизнь. Там что-то оставлено, забыто, что-то манит, зовет несбыточной радостью, родной, ласковой, чудесной, которой не было в жизни, но будет, будет, подожди. Что это? не смерть ли?
Когда дни стали короче и последние поблекшие листья падали с обнаженного леса, когда снегири в красных жилетах чирикали у окон на ветвях обнаженной сирени, когда в прохладе осеннего воздуха пахло хлебом и дымом овинов, когда приветливей глядел огонек в окне соседа, как-то к ночи приехал ко мне приятель и вошел в мою мастерскую. Сказал: «Здравствуй! Господи, как хорошо у тебя».
Собаки мои бросились к нему, поднимаясь, клали на него лапы, урчали, взвизгивали от радости. Я сейчас же распорядился о чае и закуске. Подали маринованную щуку, утку, вальдшнепов, бруснику, моченые яблоки, рыжики в сметане, грузди, жареного леща, окорок ветчины и водку, настоянную гонобобелем[1], деревенские лепешки на масле, варенье.
Приятель мой был голоден. При свете лампы я заметил, что он похудел.
– Ты сильно похудел, – сказал я ему.
– Похудеешь, – ответил он. – Хочу отдохнуть у тебя от всего этого веселого, от Москвы. Какая закуска! Грузди, рыжики, красота! Да ты Крез! Ах, если бы на душе было столько добра, сколько у тебя на столе! Как здесь осенью хорошо… Люблю ее, в ней есть бодрость. И зеленое небо горизонта, и эти лиловые облака с синими краями. Вчера все деревья – и березы, и липы – покрылись сотнями каких-то маленьких птичек. Это они собираются стаями и хотят лететь за границу, далеко. Как весело чирикают и прыгают по обнаженным веткам! Все веселые такие, толстенькие, какие-то чижики. Хорошо, брат, на этом свете. Да и страдаем-то мы от потери созерцания природы, от ненужных трудов, и непонимания.
Приятель мой развеселился. Он стал весь сразу каким-то другим. Лицо сделалось красным, и весело смотрели его желтые смеющиеся глаза.
В мастерскую вошел низенького роста старик. Звали его Дедушка. Другого имени у него не было. Жил он у меня по случаю того, что ему негде было жить. А раньше, давно, был он мельником, охотником, рыбаком.
– Кискинкин Лесеич, – обратился он ко мне. – Выдь-ка! В моховом-то болоте как волки, чу, воют.
– Да что ты?!
И мы вышли с приятелем на лужок перед домом. Через ели было видно моховое болото. Почти над головой светил полный месяц. Мы стояли молча. Тишина, ели, темная, осенняя земля, ее бугры в тенях были почти черны. Ночь молчала. Глубокий свод неба сиял в звездах, и посреди – полный месяц ясный.
И вдруг таинственная ночь покрылась звуком, странным и протяжным. Где? Не то в земле, не то близко, далеко, и откуда идет – не поймешь. Его подхватил другой, третий, и, всё повышаясь, вой слился в странную гармонию, отвечавшую настроению ночи. Он как бы дополнял ее. Сразу сделалось жутко и печально. Как смерть, как кончина любви! Звуки воя были сильны. В них слышался дружный протест. И сразу оборвались. Сразу наступила тишина.
– Их боле пятка, – сказал Дедушка. – Во где, у Остеева или у Грезина.
Мы стояли долго. Ничего. Приятель сказал:
– Перестали.
– Да ты спицу зажег, папиросу раскурил, – сказал Дедушка. – Они, брат, видят, хитрая тварь, понимают, боятся. Враги – сами знают.
– А вот летом-то, Дедушка, – их не видать, – сказал я. – Никто не встречал.
– Они тут смирней овцы, около стада ходят, хоть что, пастух-то знает. Хитры они. В чужой стране работают. Верст за сорок. А живут здесь. Так уж, чтоб их здесь не замали. Потому выводок у них здесь, молодые. Берегут их, что люди.
Мы вошли в дом, подали самовар.
– Как у тебя хорошо, – сказал приятель. – Живешь ты замечательно. Правда, в чем дело? Никто так не живет!
– Это верно, – сказал Дедушка, – точно. Киститин Лесеич живет очень хорошо. Потому он от рук своих живет, и никому от этого обиды нет. И вот в округе говорят: ён, говорят, от рук своих живет, боле ничего. Планты спишет, и денежки пожалте, боле ничего. Щуку списал и корзину мою. Ну вот – как живая! Наши в деревне говорят: «Видали? Сто рублев ему за картину рыбник дал – деньги. Чего ж не жить? Рука такая, за руку платят».
– Это верно, – сказал приятель. – Но вот скажите, Дедушка, отчего это он, этот Киститин Лесеич, не все время списывает? А то так просто шляется. Рыбу удит. Вот и сейчас без дела зря сидит. Ежели бы он все время списывал, то денег бы много нагреб. Богатей бы стал. Почему он зря время много теряет?
Дедушка пристально посмотрел на моего приятеля и сказал:
– Да, вот что, видишь! Ишь ты, что! Ну вот скажи, барин хороший: ежели одному человеку всё золото отдать, что с ним будет?
– Что будет? Будет он самый богатый человек, – отвечал мой приятель.
– Нет, – сказал старик, – его не будет. Его сгубят, убьют.
– Почему ж? Он защитится, наймет защиту.
– Нет! Вот эта-то самая защита его и сгубит, убьет.
– Особенный ты человек, Дедушка, – сказал мой приятель.
– Я-то какой? Никакой. Таракан я малый. Был я, барин ты мой хороший, мельник. Мельницу держал в Кержачах, что на Волге поодаль. И был самый что ни на есть волк. Мошенством займался. И наказал меня Бог как надо. Да, вот что.
– Как же это? На тебя что-то непохоже, – возразил приятель.
– Да вот… Знаешь, за помол-то мы мукой берем, мельники-то, ну и отсыпаем. Мужик прост. И отсыпал я почем зря. А в доме вино держал. Помольцу-то рюмку, а то две, три. Он и рад, лучше меня нет. И помолу у меня конца нет… – Он помолчал. – Только сын у меня был, Андрюша, десяти годов. Я его тоже научил отсыпать-то, да… Только в Покров Андрюша – где? Пропал! Помольцев много. Никто – ничто. Нет Андрюши. Туда-сюда, не утонул ли? День, ночь, Андрюши нет, беда! Помольцы приезжают, уезжают, мельница большая, восемь постав, кулей муки куча. Утонул, значит. Я за становым, объявляю – не ушел ли, аль что, утонул? Становой приехал, с ним подручный, народ смышленый. Смотрели, глядели, ну везде. И за овином всё, и за кулями, а его-то сподручный, шустрый такой, пришел и говорит: «Неладно дело». Утром пришел, становой еще спал. Пошли. От одного-то куля дух идет. Посмотрели, а в куле Андрюша мукой засыпан. Так, померши, и голова проломлена.
Старик помолчал и положил кусок сахару на перевернутый стакан.
– Ну, я, денег у меня гора. Пошел в церковь и отдал, мало взял себе. Жена всё скорбит, к родным отправилась в Заозерье, родина ее. А я бросил мельницу – на кули, муку смотреть тяжко – и ушел на Мурман, в Печенский монастырь, обет дал на три года. Меня Трифоном звать. Отец Ионафан – праведный человек. Утешал меня и сети плести научил. И вот давно-то я один. Жена померла.
– Ну что же, нашли убийцу?
– Кто знает? Нет. Говорили, будто не нашли. Да кто виноват, нешто он? Нет – я. Не отсыпай! Волк я был. Из-за мошенства всё, вот что.
– Нет, Дедушка, ты не виноват. Виноват, да не очень. Это, брат, убили душегубы, злые люди. Твой сын невинно пострадал, – сказал я. – У них было право жаловаться на тебя. Но убить они не смели. Это были подлые убийцы.
– Вот и Инофан так мне говорил, но и меня не прощал. Епитимью на меня наложил и ночью на колени, кажинную ночь на камень, ставил. «Молись, – говорил, – а как Святого Трифона увидишь, прощение, значит, тебе пришло».
– Ну что же, видел?
– Видел.
– Как же так, скажи, – спрашивает мой приятель.
– По ночи стою на коленях в тундре, на камени. Молюсь. И так тяжко-тяжко мне. Чую, вина во мне есть. На лестовице третью тысячу считаю: «Помилуй мя». Гляжу, а сбоку-то идет этакий согбенный. А на спине жернов большой. Остановился да ко мне повернул лицо, такое белое, и глядит – строго. Думаю я: «Пошто мельник идет, и хлеба не родит земля здешняя…» Вдруг голос: «Прия зависть, яко Дух Свят, много крови невинно лиаху дурость ваша. Не спасетесь хитростью во тьме дьявола. Стерва тленная, дураки вы все!»
И пропал. И голос его грозный прошел во мне, и затрясло меня всего. Упал я оземь и сказал только:
«Помилуй!»
– Вот так история, – заметил мой приятель. – Так и сказал: «Дураки вы все»?
– Да, родной, так и сказал. А голос у его – как у начальника какого или царя. И вот встал я, и стало мне так легко сразу и ясно вдруг, кто я. Вот – пылина, таракан малый, ну вот – ничто. А ране думал: «Кто я! Умный, какой такой!» И совести своей не слушал, и других за людей не почитал. Волк я был. А теперь – кто? Таракан… И рад, да!
Старик встал, перекрестился на угол, на икону, поклонился и пошел спать.
– Ну, страшную штучку рассказал старик, – сказал мой приятель. – Вот совесть что делает, какая история! Жернов на спине несет: в жернове-то пудов десять, поди. «Дурость ваша!» Вот так! А пожалуй – верно.
Вышитое сердце
Опушками лесов и проселками бродил я с двустволкой и пойнтером.
Был бодрый, хотя и серый, осенний день. Я вышел к большому стогу сена. Кругом было сухо. Я лег под стогом и стал опоражнивать ягдташ от копченой колбасы, печеных яиц и черных деревенских лепешек.
Хорошо, тепло, хочется есть, опрокинуть рюмку рябиновки! В душе бодрость и созерцание, а кругом бесконечные дали, мелколесье, красные осины, темный ельник и нежно-желтый березняк – синие дали, воздух прозрачный. Не шелохнет. Тихий день.
Мой Феб с удовольствием ест со мной лепешки, а я осматриваюсь и далеко перед собою, над толпой деревьев, вижу высокую крышу дома. Темный дом полуспрятан деревьями. Должно быть, чье-то поместье. Я тут никогда не бывал и не знаю, чей там дом. Одинокий, высокий, среди лесов, он как бы поет что-то, рассказывает о чем-то.
Я встал. Феб запрыгал от радости и расфыркался: пойнтера любят охоту. Я пошел прямиками к дому, сквозь частый осинник. Буро-желтые папоротники и красные листья осины горели пятнами в темной траве. Феб что-то почуял. С треском вылетел черныш, темным кружком быстро и ровно полетел над лесом. Я шагал по кочкам и болотам, в высокой траве. На стволах сосенок обглодана кора. Видно, тут угощались лоси.
Лес кончился, и открылся ровный луг. За лугом я увидел сад и деревянный дом, огромный дом с заколоченными окнами. К саду были обращены фальшивые окна, их черная краска сильно полиняла. Я увидел боковое крыльцо с колонками, забитое досками. В саду, куда я вошел, огромные серебристые тополя касались ветвями обвалившейся крыши дома. Темный сад, такой же темный пруд, заросший ивами, разрушенная терраса – всё впечатляло тут унынием, печалью и тайной. Ни души кругом, ничто не говорит о жизни!..
Я обошел дом, взобрался по сгнившей, иструшенной лестнице на террасу. Точеные белые столбики, кое-где оставшиеся, говорили о былой роскоши. Я посмотрел сквозь ставню в окно.
В сумраке его мне открылась большая комната с изразцовой белой печью до самого потолка. На стене – внушительные зеркала в карельской березе, в углу – ободранный длинный диван. Обои упали грудою с оголенных стен.
У окна, близко ко мне, я увидел ветхое кресло и перед ним – пяльцы. На пяльцах – красное пятно. Я всмотрелся и увидел, что на пяльцах вышито большое сердце. Кругом сердца – узор зеленых потемневших листьев, а сверху вышиты большие латинские буквы «adoremus»[2].
Вдруг страх охватил меня, и я быстро пошел к повисшим на петлях воротам, к давно заросшей дороге.
С дороги обернулся к дому: сад снова спрятал его. Только высокая крыша печально возвышалась над вершинами дерев.
На проселке слышу, кто-то едет сзади. Я остановился. Подъезжает телега. Сидит в ней крестьянка. Я говорю:
– Подвези меня, тетенька, до деревни.
– А ты чей будешь?
– Охотник, – говорю. – Из Старого.
– Ишь ты. Далече зашел. А Блохина знаешь?
– Как же, – отвечаю. – Василия Иваныча.
– Ну, садись.
– Чей это дом, тетенька?
– Дом-то? Осуровский дом, господской.
– И никто в нем не живет?
– Нет.
– И сторожа нет?
– Теперя нет, допрежь был: Семен Баран. Он и нынче в нашей деревне. Баран. Состарел.
– Вот ты меня к нему и вези.
– Во, сичас завернем тутотка. Он вдовый, Баран, он тебе будет рад. Он тоже на охоте был ловкий. Знатно лосей бил. Таперя состарел.
Семен Баран, высокий старик, встретил меня у крыльца. Я залюбовался его седой курчавой головой и веселыми голубыми глазами.
– Ты Коровин, а? – сказал Баран и засмеялся.
– Чего ты смеешься? – удивился я.
– Ты один?
– Один.
– Ишь ты!.. Одному тут и не выйти. Плутал, чай, по лесам.
– Верно, плутал.
– Ну, иди в избу, я самовар тебе вздую.
Изба у Семена была чистая, покойная, на стене портреты в резных рамах и ружье. Скоро появились на столе лампа, самовар, грибы, оладьи, чай со сливками… Словом, то, чего нигде нет на свете, а только в России: ни оладьев таких, ни сливок, ни Семена – нигде нет!
Пьем мы с ним анисовую и едим лосиновую солонину, с огурцами свежего просола… Вы, пожалуй, читатель, и не пробовали никогда лосины-то с огурцами. Вспомнил я, и вот стало мне грустно: загрустил о России, какой теперь нет…