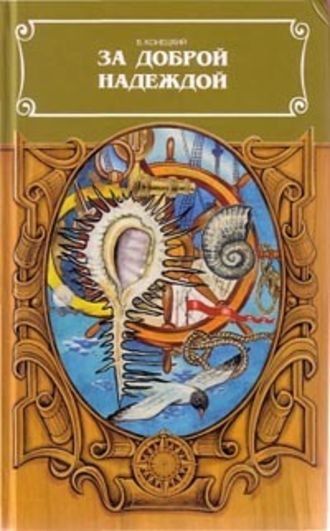
Виктор Конецкий
За Доброй Надеждой
Елки в Сенегале я увидел, а где баобабы?
Такое вкусное на слух дерево, великан-симпатяга, которое обнять могут только дружные люди, потому что им надо будет взяться за руки: не меньше пятнадцати друзей на один баобаб.
В сухой сезон он кажется совершенно мертвым, хуже саксаула. Притворяется, подлец. Чуть брызнет дождик, на толстяках-сучьях выбрызгивают листья. И быстро рождаются в кроне огромные цветы, похожие на водяные лилии.
Баобабы живут в саванне. Их не удается приручить. Они не могут без одиночества. И терпеть не могут современный город. И я их не видел в Дакаре.
Но тамтамы услышал.
Вахты у нас были стояночные – сутки на брата.
Около полуночи я отправился в обход по судну.
Было воскресенье, порт не работал.
По носу спал американский теплоход, по корме – испанец.
Особенное чувство отрешенности появляется, когда ночью один обходишь судно. Сталь палуб, кажется, пружинит под ногами. Самый слабый звук за бортом будит четкое эхо в трюмах. Обычные и привычные предметы на баке – брашпиль, цепи, стопора, флагшток, – лишенные человеческого обрамления, выглядят самостоятельными, живущими сами по себе, как киплинговский кот.
Пнешь ногой швартов на кнехтах – несколько тонн стальных проволок и не подумают шевельнуться.
Положишь руку на рукоять разъединителя, подивишься мощи якорь-цепи.
Без всякой нужды ляжешь грудью на фальшборт, перевесишься, глянешь на сам якорь, торчащий из клюза. Молчит якорь. Спит. Как чуткая собака. Готов залаять в любой момент, ухнуть в суету волн, вцепиться в грунт мертвой хваткой.
Безмолвно работают Золушки-стопора – ни сна, ни отдыха их чугунным мышцам.
Желтые лучики вырываются из клетки штагового фонаря, летят не меньше трех миль во все стороны...
Зевнешь, плюнешь на окурок, выщелкнешь его за борт.
Водичка бормочет между бортом и причалом, колышется у свай, полощет тинную слизь на сваях.
Смотришь почему-то на окурок, ждешь, когда утонет.
И никакого тебе дела нет до чужой земли, возле которой живешь в этот миг своей жизни. Гудок буксира, далекий лязг буферов, шумок стравливаемого пара не слышишь – привычны и везде одинаковы портовые звуки.
А в Дакаре в воскресную ночь из привычности на мягких и хищных лапах подкрались таинственные звуки.
Теплый ветер тянул с северо-востока, и они вплетались в него, несли тени саванны, свет луны на морщинах древних баобабов, низкий гул занимающегося пожара, топот толпы – тысячи голых ступней в едином ритме делают медленные шаги.
Всем там быть!
Всем!
Там!
Быть!
Тамтамы проснулись в ночном Дакаре.
Тамтам изваянный, тамтам напряженный;
Рокочущий под пальцами победителя-воина;
Твой голос, глубокий и низкий, – это пенье возвышенной страсти, -
так написал президент этой страны еще до того, как стал политиком.
Я не знал, что тамтамы загудели в ночном Дакаре в честь возвращения президента Сенгора из заграничной поездки.
О чем подумает вахтенный штурман, когда ночью услышит гул барабанов? Война, бунт, революция, дворцовый переворот, землетрясение? Не позвонить ли из полицейского поста возле портовых ворот в посольство? Не начать ли сматывать удочки, то есть готовить машину? Ведь стреляют и вешают по всему огромному Африканскому континенту. Об этом подумаешь, а не о лунной тени баобабов в саванне и не о женщине, охваченной возвышенной страстью.
Но мирно продолжали похрапывать суда у причалов и пирсов. Мирно дышала вода за бортом. Театрально-занавесно колыхался тропический мрак вокруг редких фонарей. Неспешно совершал очередной круг почета роскошный Орион в небесах. И корабельный металл впитывал сонное воркование голубей, притаившихся на карнизах пакгаузов.
Гул тамтамов креп, не нарушая торжественной тиши дакарской ночи, существуя помимо нее, как существует без человека якорь на грунте.
Есть певцы, которые, обладая даже сильным и хорошим голосом, усиливают впечатление страстности при помощи раздувания ноздрей. Особенно неловко видеть их ноздревскую чувствительность на экране телевизоров. А есть певцы, которые стараются не использовать при пении даже такой благородный инструмент, как руки.
Тамтамы не рвут занавес африканской ночи. Они колышутся вместе с ней, пульсируют пульсарами из глубин вселенной. Это касается даже тама – самого маленького барабана, величайшего из болтунов. Потому-то у тамтамов нет эха. Оно может родиться только в тени баобаба, освещенного луной. Только тень способна отразить и вернуть голос тамтама.
Тамтам ищет в африканской ночи надежды для своей мечты. Разве найдешь ее среди пакгаузов?
Тамтамы – это ладони, которыми Африка ударяет себя по груди, вспоминая древние ритмы и древнюю мудрость. И духи древности откликаются на зов лунной тени баобабов.
Живые спрашивают глухо и безнадежно:
Гаснет ясный день,
Сохнет в саваннах трава,
Всему приходит конец?
Всем там быть?
Из древней тьмы ночи:
Все идет на лад!
Все идет на лад!
Все идет на лад!
Н'донг! Н'донг!
Подумалось о всех пастушьих свирелях, о всех песнях, спетых человечеством в те времена, когда еще не знали нот. О всех словах, молитвах и симфониях, которые улетели на воздушных волнах еще до века граммофонов и магнитофонов. Сколько их, незримых, но телесных и теплых, витает вокруг нас. Они зашифрованы в каждом дуновении ветра, и в каждой капле дождя, и в каждой снежинке. Ничто совсем не исчезает в этом мире. Под саваном древних напевов живет человек, пасмурной тенью облаков и солнечным лучом они сопровождают нас всегда.
Всем!
Там!
Быть!
Ба!
О!
Баб!
Я чувствовал, как голоса тамтамов приближаются, обволакивают огромное судно, бродят по пустынной штурманской рубке.
Чужие голоса чужой страны.
На спящей воде в пространстве между судами в такт тамтамам вспыхивали лунные блики.
Корабельный пес Пижон поскуливал. Чужие голоса в ночи пугали его. А может, он успел узнать от здешних собак свою родословную и возгордился. Катч-собаки получили мудрость от Луны. Они проникли в жилище человека тысячи лет назад, чтоб изгнать оттуда злых духов. Когда-то собаки получали здесь от людей первое животное, убитое в новолуние. Может, Пижон требовал от меня жертвоприношения?
Я дал Пижону таинственный кусок сахара.
В лунном свете сахар был зеленым. Лиловые искры вспыхивали на зеленом рафинаде.
– Черт! – сказал я. – Пижон, что я наделал? Я не хочу, чтобы ты выгонял из этой стальной коробки злых и всяких других духов. Пожалуйста, ешь сахар, но не изгоняй их, о Сын Дворника! Не выметай их метлой черного хвоста, Дворняга!
Я никогда не видел гномов.
И духи избегают меня.
Для других бьют тамтамы в лунной тени баобабов.
Таинственность бежит из сказки моей жизни.
Даже в детстве я не читал сказок.
Я начинаю их читать только теперь.
Но они не даются мне.
Что делать?
Я хочу сковырнуть с души коросту, промыть ее морщины марганцовкой и ощутить мир целиком – всю круглость Земли и безотчетность космических сил.
Гаснет ясный день,
Сохнет в саваннах трава,
Всему приходит конец!
Всем – там – быть!
Там – быть!
Там – быть!
С другой стороны причала под эстакадой спали плакучие тропические деревья, опустившие ветви до воды. Они жили посреди современного порта, между автокаров, погрузчиков, электромоторов, но привыкли не замечать новых ритмов. Тамтамы навевали деревьям веселые, дождливые, мокрые сны.
А ведь и мне предстоит начать все с начала, подумал я.
От этой мысли стало страшно. Громадность работы впереди ужаснула. Громадность работы впереди была ужаснее самого ужасного лика Бога, какой только мог присниться Ионе.
Чтобы сделать что-то серьезное, мне надо начать все с самого начала, подумал я. Надо опять прожить детство, отрочество, юность, возмужалость. А настоящая, сегодняшняя моя жизнь – что же, она будет стоять на месте? Даже если я не побегу от лика ужасной работы, если я решусь на нее, то кто будет платить мне? Кто будет платить за то, что я зачеркну все сделанное мною в жизни? Кто гарантирует, что, раз остановившись, я смогу когда-нибудь сделать еще хотя бы шаг?
Наша юность начиналась на площадях.
Два раза училище участвовало в общевойсковых парадах на Красной площади. И раз пятнадцать на Дворцовой.
Ба!
Ра!
Бан!
Идешь, пронизанный ритмом, накрываешь барабанную дробь тяжелым шагом, рука под винтовкой онемела, синкопы медных труб крутятся в черепе электронными орбитами, ленты бескозырки стреляют в ухо, брови клещами сжали лоб, подбородок форштевнем рассекает воздух, правая рука вперед до бляхи, назад до отказа; двенадцать стальных подков на подметках кресалом ранят гранитную брусчатку, белые жала штыков распарывают воздух, крутится и качается цветная пирамида трибун, – все ближе, ближе – скорей бы! скорей бы! Тысяча труб извергает «Варяга»: «Наверх вы, товарищи, все по местам! Последний парад наступает! Врагу не сдается наш гордый „Варяг“! Пощады никто не желает!»
Сводный морской батальон – четыреста штыков – не попросит пощады у самого сатаны. Мороз дерет по коже. Только бы не слетела бескозырка – хвать кончик ленты зубами! Только бы не поскользнулись дурацкие подковы! Тяни, браток, носок! Падай вперед на всю подошву! Истерический шепот: «Петька, куда вылез!.. Витька, винтовку завалил!..»
Фуражка главнокомандующего на Мавзолее. Камнепад с небес – тяжелые бомбардировщики проходят над Красной площадью одновременно с морским батальоном. Исчез в грохоте «Варяг». Где ритм? Где барабан? Козырек главной фуражки зенитным орудием следит головной самолет.
Восемьсот ног, восемьсот рук, восемьсот глаз – четырехугольная туша бронезавра катится по каменной пустыне площади, готовая и к смерти, и к бессмертной славе.
Прощайте, товарищи! С Богом, ура!
Кипящее море над нами!
Не думали, братцы, мы с вами вчера,
Что нынче уснем под волнами!..
И – тишина.
И – спад.
Ритм начинает выходить из клеток, как газ из лимонада.
В ушах булькает, лицо размякло, голова опустилась, подбородок уткнулся в ворот шинели, штыки дрожат и колыхаются.
Шире шаг! Танки на площади! Шире шаг!
Батальон вливается в проезд между Василием Блаженным и стеной Кремля. Танки идут в затылок на полном газу. С ними не пошутишь. Уже не «шире шаг!» – обыкновенной рысью сводный морской батальон выносится на набережную Москвы-реки...
... Я слушал тамтамы в порту Дакара. В какой-нибудь сотне километров жили еще совсем дикие племена, которые испытывают своих юношей адской болью на экзаменах мужества. И юноши поют при этом и улыбаются: значит, они стали взрослыми людьми – ведь никакой лев и тигр не способны терпеть боль с ухмылкой. На это способен только феномен природы – человек.
Праздничные танцоры здесь приходят в исступление и могут изрубить на куски зрителей. Сирена джипа в джунглях для белого звучит сладостным сигналом спасения и цивилизации. Здесь целые племена не имеют часов, и гул рейсового самолета над саванной служит им кремлевскими курантами и Биг-Беном. Здесь нищий, случайно разбогатев, может заставить родного брата вылизать свои ботинки. Здесь солнце сжигает поля арахиса, и тогда миллионы людей голодают, как голодали их далекие предки, жуют гусениц и траву, умирают в канавах, и гиены разгрызают хрупкие безвитаминные кости. Гиены и вороны здесь питаются энциклопедиями, ибо, когда в Африке умирает старик, с ним исчезает целая библиотека. Накопленная мудрость здесь веками передавалась только через звуки. Потому звук необходим любому ритуалу и стал фетишем.
Тамтам – дитя фетиша. Тамтам будит в человеке прошлое.
Это я узнал на своей шкуре.
Мелькнувшая мысль, а может, и приказ: «Надо снова пережить детство, юность, возмужалость. Надо начать все с азбуки, с барабана на площадях моего сознания» – были не только измышлены, но прочувствованы.
Утром послали на теплоход «Литва» за 10 кг манной, 20 кг гречи и 30 кг пшена. Вернее, сам вызвался.
Я люблю болтаться на шлюпках и вельботах. Люблю воду близко. Люблю, когда она бесится и вертится между бортом шлюпки и судном. Даже на мнимое утеснение вода отвечает хуками, апперкотами, свингами и ударами под дых. Своенравное существо вода. Однако если ее совсем не утеснять, а просто скользить по волнам, чесать их спины винтом или веслом, она только мурлыкает.
Хорошо со шлюпки ощущать, какой ты крошка, пигмененок среди природы и наверченного поверх природы человеческого мира – причалов, элеваторов, океанских судов.
Много навертели пигменята. И красивого много сделали. Пройди под форштевнем современного судна с бульбой, посмотри на развал бортов снизу, увидишь на фоне небес ноктюрн или даже фугу.
Акватория порта Дакар огромна. «Литва» стояла в самом далеком закоулке. Мы за гречкой бежали на вельботе полчаса.
Греки гречку придумали, к нам в Крым завезли, сами ее есть давно перестали, а мы жуем и жуем. Слава древним грекам!
«Литва» – пассажир, там бар есть, там на валюту рассчитывал пивка выпить, пока завпрод будет с крупой делишки обделывать.
Подошли к «Литве» – все на ней белым-бело от форменок и кителей. А с другой стороны пирса стоит старенькая подводная лодка. Подлодка приспособлена для гидрографических целей.
Когда я носил военно-морские погоны, нам и не снилась Африка и даже в бреду не слышался рокот тамтамов...
У вахтенного офицера, которого вызвали к трапу по знакомой и близкой до слез цепочке: вахтенный у трапа на пирсе – вахтенный на верхней площадке трапа – вахтенный рассыльный – помощник вахтенного офицера – сам вахтенный офицер, – я спросил:
– Уважаемый коллега, нет ли у вас на борту офицеров – выпускников пятьдесят второго года Первого Балтийского высшего военно-морского училища?
Каптри сделал физиономию, о которую разбился бы в пух и перья бронебойный снаряд, и процедил:
– Зачем вы сюда явились и почему интересуетесь такими вопросами?
– За гречкой, – сказал я. – За греческой гречкой. Двадцать килограммов. Попутно надеюсь встретить однокашника по пшену и по манной. Хотя, кажется, в мои времена манной военным морякам не было положено.
Каптри было лет тридцать. Он взглянул на меня с подозрением и снисходительным сожалением.
Под солидным эскортом я и завпрод были доставлены в каюту директора ресторана «Литвы».
Директор оказался моим читателем. Он, как и вахтенный офицер, но по другому поводу, проявил недоверие. Никак не укладывалось в его мозгу, что автор «Соленого льда» сидит в его каюте с накладными на гречку. Подозревая однофамильца, он пытал меня вопросами о каком-то приятеле, редакторе издательства в Москве. Я про этого редактора не слышал. Наконец директор сел писать акты на безналичную передачу манной и гречи. Попутно поведал историю своей жизни. Она начиналась в Нахимовском училище под бой барабана, но привела в пищеблок, где он с утра до вечера вынужден слушать стук ножей и скрип мясорубок.
Рассчитывая использовать почтение читателя к писателю, я попросил у бывшего нахимовца копировальной бумаги. Он стал дрожать от патологической жадности. И предложил не пачку, а всего несколько листков. Пришлось послать своего читателя к его маме и идти к третьему штурману. Тот копирку дал, но в обмен на три карты побережья Бразилии, которые забыл выписать в Ленинграде, а «Литва» собиралась в Рио.
Без пива и в усталом состоянии я уже шел к трапу, когда встретил Марию Ефимовну Норкину. Как родную тетю увидел! Мы с ней плавали вместе, и я о ней чуть очерк не написал, когда копался в материалах о морских десантах в Стрельне, и мы с Петей Ниточкиным ее из-под пятнадцатисуточного ареста в Одессе высвобождали, и она у Пети в домработницах жила, когда ее из горничных в морской гостинице уволили по собственному желанию после драки с администраторшей.
– Господи! Ефимовна! – сказал я.
– Черт возьми! Викторыч! – сказала Мария Ефимовна. И мы рухнули в объятия друг другу. А фоном нашей встречи была Африка. И сенегальские пальмы торчали из мазутной портовой земли. И на пирсе грелись под африканским солнцем негритянские идолы – таинственные, кривоногие, большеухие, длиннорукие, толстобрюхие; и сидели торговцы, ожидая, когда северяне раскошелятся на их сувениры. С таким же успехом они могли ждать здесь полярной пурги или белого медведя.
Последнее соображение высказала Мария Ефимовна. Она велела мне отпустить вельбот и обещала проводить домой по сенегальскому сухопутью. Разве будешь спорить с женщиной, награжденной медалью «За отвагу»?
Я отправил вельбот под командой завпрода и подождал Ефимовну на причале. Ей надо было переодеться.
Старик негр в лохматой шапке-ушанке пытался соблазнить меня чучелом рыбы-шара. Он отдавал товар за флакон одеколона «Шипр». Другие одеколоны, включая тройной, старик отвергал. Из чего ясно становилось, что парфюмерия нужна ему для перепродажи.
Шапка-ушанка на негре меня не удивляла. Я уже знал, что в Дакаре меняются экипажи наших рыбаков. Сюда они летят самолетами в ушанках. Здесь меняют ушанки на идолов. И с идолами уходят в море. Может быть, все происходит в обратном порядке.
С Марией Ефимовной мы познакомились на Диксоне.
Вскоре после войны и демобилизации я начал работать в одной экспедиции по перегону рыболовных судов на Дальний Восток. Гоняли эти суда и севером и югом. Югом визированные гоняли, а севером – те, которым «мешок завязали», то есть лишили заграничной визы. Моряки, у которых виза, жарились в тропиках. А у кого нет – плавали Великим Северным морским путем.
Вот принимали мы однажды новые сейнеры на судостроительном заводике в Петрозаводске и готовили их к арктическому рейсу.
В те времена на северном перегоне неразбериха была страшная. Дизельное топливо, которое переправляло для нас министерство, захватила себе Карело-Финская Республика и отдала своему сельскому хозяйству: их тракторам пахать было не на чем; теплое обмундирование доставали чуть ли не в Одессе. Словом, то одно, то другое, то третье...
Голова кругом идет, и очень ругаться хочется. А тут еще кока у нас нет, и приходится водить команду несколько раз в день на берег, в столовую.
Этим всем и воспользовался старший помощник, чтобы уговорить меня взять в рейс коком того беспалого Ваську.
– Кок, сами знаете, сегодня вещь дефицитная, – сказал мне старпом. – Кока надо брать за жабру и тащить на пароход. А вы отказываетесь. Нельзя таким разборчивым быть, товарищ капитан. Всякий дефицит всегда за жабру хватать надо.
Старпом у меня был хороший. Молодой, правда, и не очень грамотный, но умение хватать вовремя развито в нем было чрезвычайно. Помню, когда мы уже пришли в Беломорск, чиф однажды ночью три автомобильные покрышки где-то стащил. Из таких покрышек самые хорошие кранцы получаются, а кранцев на судне у нас недоставало.
Заботливый был старпом. Тут ничего не скажешь. Ему за эту заботливость и «мешок завязали» накрепко. Да еще грубоват был, на глотку очень сильный. Матросы между собой звали старпома горлопаном.
Вот он мне и сказал, что этого Ваську надо брать за жабру, пока другие этого не сделали. Я объясняю Василию Михайловичу, что кок больно молодой и никогда не плавал в море. К тому же уголовник – год в тюрьме просидел. Совпадение у него еще такое нехорошее: на руке нет двух пальцев, а фамилия Беспалов.
Старпом ударил себя кулаком в грудь и говорит:
– То, что Беспалов, – это ничего. Его Васей зовут. Тезка он мой. А это что-нибудь да значит. Мальчишка? Да. Против факта не попрешь. Но уже в три геологические экспедиции поваром съездил. Желание работать ну прямо-таки крупными буквами у него на морде написано. Боевой в общем парень. А в тюрьму по неопытности попал в молодости. В цирке был как-то. В первом ряду сидел. А на манеже – тигры. У одного хвост из клетки высунулся и вот по опилкам извивается. Вася за хвост ухватил, на руку его намотал и ждет: что дальше будет? Тигр сперва удивился. Потом стал на свою укротительницу зубами щелкать. А Вася все держит. Скандал получился. Васю за хулиганство и упекли на годик. Интересный он парень. И характер в нем есть, как видите...
Ну что тут скажешь? Действительно, симпатичный вроде парень.
Вызвал я его к себе в каюту для обстоятельного разговора.
Входит парнишка в замызганной спецовке, смущается, переступает рваными ботинками и старается не смотреть мне в глаза.
– Сколько у тебя, морской бродяга, классов? И какова твоя специальная подготовка?
– Да я еще не морской бродяга. Хочу только. А классов чуть меньше пяти.
– Что ж так мало?
– Не удалось у меня с учебой, – говорит. И впервые мне в глаза посмотрел. Открытый взгляд, чистый. – Батьку, – говорит, – немцы убили. Матка состарилась чего-то рано очень. И все болеет, болеет. Хворь из нее вовсе не уходит лет уже пять, как война случилась. Сестренка зато у меня уже в седьмой класс ходит. А я вот подрабатываю. Давно уже подрабатываю.
Ну, я, как это начальству в таких случаях и положено, говорю, что учение – свет, а неученье – тьма, и надо всем учиться.
Он сразу согласился, что это правильно, и стал просить:
– Я учиться когда-нибудь буду. А пока вы меня на работу примите. Как вернусь с вашего плавания, может, сразу куда-нибудь и учиться пойду – на курсы какие-нибудь. Возьмите меня. Возьмите в море.
– Ну а пальцы свои где оставил? – спрашиваю.
Он вздохнул, потеребил вихры, потом махнул рукой: мол, была не была.
– Проиграл, – говорит, – в карты.
– Так-так. Это уже в лагерях, что ли?
– Там. Из-за фамилии. Чтобы в соответствие привести. Заставили урки.
– Зачем же ты, Вася, тигра за хвост трогал? Нехорошо ведь это. Аморально как-то.
– Трудно мне вам рассказать, – говорит Вася. – Не умею я хорошо рассказывать.
– Нет, – требую, – сядь вот сюда на диванчик и объясни. Мне очень интересно знать.
Вася сел, расстегнул воротник. Я дал ему папироску.
– Скучно мне тогда было как-то так, знаете. Скучно, товарищ капитан. Вот и все.
– Как так: все?
– Ну, вернешься из экспедиции домой. А там все скучно так, кисло как-то. Матка болеет. Ругает, что денег мало присылал, что непутевый я у нее народился. Верка все клянчит чего-нибудь. Ребята-дружки поразъехались или учатся. Отстал я от них, отвык. А учиться... ну не лезет ничего в башку, товарищ капитан. И получается, будто кто окошко в комнате заколотил. Вот и я... Получилось как-то так...
– Все понятно, – говорю я. – А теперь отвечай мне честно. Значит, как вышел ты из тюрьмы, тебя на прежнюю работу не взяли? Вот ты на северный перегон и подался. Здесь, мол, всех берут, люди нужны. Так?
– Так, товарищ капитан. Они – геологи мои – алмаз ищут. Секретное это дело. И не берут меня. Морально я разложился, – так мне объяснили. А я хочу путешествовать. Я с детства хочу путешествовать.
– Готовить-то умеешь?
– Умею я, товарищ капитан. Очень даже хорошо готовлю, – сказал Вася быстро и убедительно. – И щи, и кашу, и лепешки.
Вечером я стоял на палубе, глядел на онежские сумерки и думал о том, что до отхода остается двое суток. Впереди длинные переходы, трудное плавание во льдах, а дух у меня уже не тот, чтобы всему этому радоваться. Я и не заметил, как рядом очутился наш новый кок. Он стоял в той же позе, что и я – нога на кнехте, локти на леере, – и тоже смотрел, как сгущаются над водой сумерки. Не люблю я смотреть на такие вещи с кем-нибудь вместе.
– Товарищ капитан, у меня труба дымит, – сказал мой новый кок и сплюнул за борт.
– Ну, – сказал я, – и что?
– Дымит у меня труба, товарищ капитан.
– Наверное, надо прочистить.
– А и верно! – почему-то обрадовался кок и поддернул свои новые синие штаны. Старпом уже выдал ему робу.
Я ушел на берег и вернулся поздно. Там от города до судостроительного завода километров пять. Автобус не ходил: весенняя грязь по колено. Пришлось пешком. Ботинки после этого похода можно было в местный краеведческий музей ставить.
Пробираюсь я от трапа к себе в каюту мимо камбуза, слышу – там железо звякает. Вот, думаю, прав старпом: молодой кок, но старательный. Трубу чистит даже ночью.
Ранним утром кто-то стал дергать меня за ногу. Открыл глаза и вижу, что это наш судовой механик.
– Что вы, – говорю, – спятили, что ли, механик?
– Полундра, – отвечает. – Разобрал ваш уголовник весь пароход на части. И клотик с мачты отвинтил уже, и киль теперь начинает из шпангоутов выбивать.
– Вы, Роман Иванович, в своем уме?
– В своем. В своем собственном. – И смотрит на меня, как тюлень на белого медведя: с тоской и злобой. Надо сказать, Роман Иванович был очень недоволен своей судьбой. Он думал, что по солидным годам, по солидному опыту его на какой-нибудь большой пароход назначат, а его засунули ко мне на сейнеришко. Вот он и злился на все и раздувал все неполадки. Как говорят – нездорово их преувеличивал. Ну, думаю, и сейчас преувеличивает. Не мог мальчишка за одну ночь весь сейнер разобрать на части. Невозможно это.
– Разобрал ваш новый кок пароход на части, на мелкие кусочки, – повторяет механик со злорадством. – Из водопроводной трубы на камбузе теперь бьет артезианский фонтан!
– Воткните, – говорю, – в артезианский фонтан пробку и не мешайте мне отдыхать. Ваше это дело – забивать пробки, а не мое.
– Конечно! Ваше-то только их выковыривать.
– Это уже намек какой-то нехороший. Идите, забейте пробку, а днем мы еще побеседуем. Сами вы подписывали приемочный акт, сами принимали такой пароход, который за два часа мальчишка может на части разобрать.
Тут механик еще посердился немного и ушел. А я прислушался – и действительно, вдруг слышу: шумит где-то вода, сильно так шумит.
Еще потонем прямо здесь, у причала, думаю. Обидно как-то: прямо у причала потонуть в грязной воде.
Быстренько встал, оделся, прихожу на камбуз. А там дымовые и всякие другие трубы на полу лежат. Только одна плита и цела. На плите кок сидит. Увидел меня и облизывается от возбуждения.
– А вы, – говорит, – товарищ капитан, не правы были. Вовсе даже и не надо было трубу чистить. Я теперь, как разобрал все, то и понял. Это просто наверху крышка есть в трубе. Чтобы дождь и снег не попадал. Так она, эта крышка, наполовину прикрыта была. Вот и дым.
– Какого же лешего ты другие трубы трогал? – спрашиваю я у кока.
– Раньше-то, в поле, все проще было, – оправдывается он. – Там костерчик разведешь – и все тут. А здесь устройство. Я его изучал на практике.
В это время появился старпом.
– Войдите, – просит, – в коковое положение, не сердитесь на него. Я знаю, что вам давеча механик наговорил про Ваську. А я вам скажу, что выхлопные газы из главного дизеля вместо атмосферы почему-то на камбуз попадают, так это механику ничего...
И пошел-поехал на Романа Ивановича говорить всякие штуки. Не любили они друг друга почему-то.
В общем, пришлось до самого выхода в море камбуз ремонтировать и команду кормить по-прежнему на берегу в столовой.
А Васька, чтобы показать, как он старается, все сложные обменные комбинации с продуктами устраивал. Мы последние дни ходили от причала к причалу: то воду брали, то топливо, то балласт. И приходилось стоять рядом с разными судами. Вот Вася это и использовал. Еще швартовы не закрепили, а уже слышно:
– Эгей, дядя! Ползи сюда поближе! – кричал наш кок соседнему коку. – Ползи, ползи сюда. Успеешь миски помыть.
– Чего ты гавкаешь, щенок? – отзывался какой-нибудь поседевший над кастрюлями повар. – Чего ты, щенок, гавкаешь?
– Дядя, ты, случаем, раньше в ресторане не работал?
– Да, а что? – спрашивал повар и, вытирая руки, спешил к борту. Ибо каждый корабельный кок работал когда-нибудь в первоклассном ресторане и любит вспомнить об этом.
– А в каком ресторане, дядя?
– В «Приморском» во Владивостоке.
– Ух ты! В «Приморском»! Это хорошо. А томатный соус у тебя есть?
– Есть, а что?
– Давай на томатный сок менять?
Кругом собирались матросы. Они у меня были совсем молодые – курсанты из средней мореходки, практиканты. Приходил и старпом. Внимательно (как бы не продешевил чего кок) слушал, потирая небритые щеки. Василий Михайлович твердо верил, что небритые мужчины нравятся девушкам больше. Правда, в море, где девушек нет совсем, он еще реже беспокоил себя бритвой.
В перебранке и торговле проходил час. Потом Вася тащил к себе на камбуз бутыль томатного соуса и от радости напевал что-нибудь.
Занятный он был парень, Васька. И пел задушевно. Особенно удачно у него получалось: «Я цыганский барон! У меня много жен...» Но что бы Вася ни пел, песня ему в работе не помогала. То клейстер из фигурных макарон у нас на обед, то тюря из сушеной картошки.
Он очень старался приготовить что-нибудь поприличнее, наш новый кок, часто показывал всем свое свидетельство об окончании поварской школы в Ленинграде. Мне даже стало казаться, будто он не кончал ее. Плохо еще было, что Вася не имел привычки к морю, и когда у Святого Носа прихватило нас хорошим штормом, так даже клейстер из фигурных макарон он не смог приготовить. То у него все сгорит, то перевернется, то плиту чаем зальет, и угли уже не раздуть.
Двое суток мы только консервы и сухой хлеб ели. Сам же Вася вообще ничего не мог взять в рот. Тяжело он переносил море – едва ноги передвигал. Но моряк мог бы из него получиться. Душевные данные для этого были у Васи: в койку он не лез – прятаться под одеяло от своей слабости не хотел. Чуть живой ползет по трапу в кубрик к матросам.
– Ребята, – хрипит, – а что я вспомнил сейчас! Очень даже веселая история. Посмеетесь, может быть.
В кубрике выбрасывает от качки ящики из рундуков и мигает свет. А Вася уцепится за поручни на трапе и рассказывает слабым голосом:
– Вот был у нас в экспедиции один парень. Двухлетнего оленя сшибал с ног. Зайдет с бока, как фуганет олешу плевком в морду! Тот – брык – и с копыт долой. И не шевелится больше. Это, значит, нервный шок называется. Здорово, ребята? Или вот еще случай...
Ну, ребята и заулыбаются. Будто не было бессонных ночей, промокших сапог и сырых простынь на койках. А пока Васька про оленя рассказывает, у него в кастрюльках только пепел остается.
Но ребята не злились на него за плохой харч. Полюбили его ребята. Не знаю за что, а полюбили. И прощали многое – и сухомятку и тюрю из сушеной картошки.
Да, так вот. Поддаваться морю Вася не хотел. Боролся со слабостью. Дым из камбузной трубы задувало ко мне на мостик и в самую непогоду. Но одного дыма-то мало. Дымом не пообедаешь. Механик делал мне по десять сцен на дню.
– Что ваш кок коптит? Только пачкает небо этот уголовник. А я есть хочу! Я в том уже возрасте, когда надо питаться регулярно. Мне по договору нормальная пища положена, а где она? Где пища, я вас спрашиваю?
– Вы же видите, – растолковываю ему, – кок прилагает усилия. А это и есть главное. Кок даже по ночам не выходит из камбуза.
Вася действительно по ночам в камбузе сидел. Это однажды сослужило нам хорошую службу.
Я еще на стоянке механику говорил, что надо грузовую стрелу смайнать до самого трюма и закрепить в лежачем положении намертво. А Роман Иванович уперся и говорит: «Нет!» Показывает мне заводской чертеж, на котором походное положение стрелы указано под сорок пять градусов к мачте.







