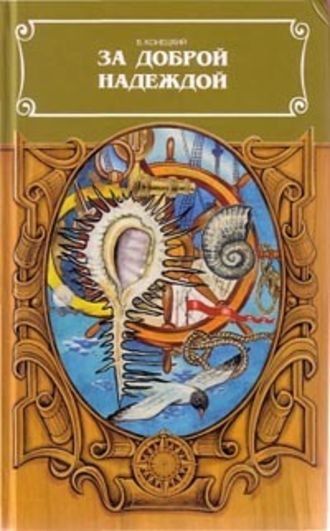
Виктор Конецкий
За Доброй Надеждой
А за столом, сдвинув наушники на виски, сидела немолодая женщина – наш пекарь.
Она много лет назад была радисткой и теперь пыталась вернуть забытую специальность, потому что за нее больше платят. Волосы пекаря были намотаны на бигуди, по щекам текли слезы, она всхлипывала.
– Ох, зверство какое, Виктор Викторович! – сказала она, не стыдясь слез. – Он раненый был, обожженный летчик, а немцы его к хвосту лошади привязали...
– С чего вы?
Пекарь сунула мне «Огонек» и опять запричитала:
– Ох, зверство какое! Ироды!
– Будешь ты работать? – цыкнул на нее радист. – Или тренируйся, или выгоню к чертовой матери! Здесь не изба-читальня!
– Ох, зверство какое! Он осетин был – летчик... Осетины добрые-добрые люди, я жила с ними, они родственникам не дают покойников хоронить. Считают, родственникам и так горя хватает. Все заботы друзья берут... Вы почитайте...
– После вахты почитаю, – сказал я. – Мы пеленговаться будем. Минут пять нам надо.
– Есть, – сказал радист.
– Старпом не спит? – спросила пекарь, утирая косынкой щеки.
– Ну?
– Вы ему передайте, что электропечь перегорела. С утра ремонтировать надо. Без хлеба останемся.
Старпом брал пеленга, а я прокладывал их на карте «От порта Нью-Йорк до порта Галифакс».
В глазах рябило от красной туши корректорских надписей и значков. «Путь следования подводных лодок „Эхо“». «Путь следования подводных лодок в подводном положении „Чарли“, „Зулу“, „Янки“, „Фокстрот“, „Экс-Рой“, „Уилки“...» Районы артстрельб, зенитных стрельб, бомбометания, противолодочных учений, неразорвавшихся глубинных снарядов, невзорвавшихся мин, свалки взрывчатых веществ... И везде: «Мореплавателям надлежит соблюдать осторожность!» От карты пахло чертом, его матерью и даже бабушкой. Сколько усилий, талантов, средств. И самое смешное – все это направлено против меня. Я враг номер один для Америки. И ведь они так думают всерьез. Или нет? Вот они тут, рядом, на острове Нантакет, в курортном местечке Сайасконсет, где торчат небоскребы и водонапорная башня; спят себе. Быть может, тут спят и внуки Мелвилла, и внуки Торо, и генерал Лесли Гровс, который сказал: «Мне часто приходилось наблюдать, что символы власти и ранги действуют на ученых сильнее, чем на военных». Лесли знал, что говорил, – он был главным администратором работ по созданию атомной бомбы. Первую бомбу он назвал симпатичным словом «Малыш», вторую симпатичным и смешным словом «Толстяк».
Когда самолет с атомной бомбой вылетел на Хиросиму, у Лесли выдалось свободное время – от вылета до атаки должно было пройти несколько часов. Он пишет черным по белому: «Донесения запаздывали, и я решил пойти поиграть в теннис». На корте, где играл в теннис Лесли, был установлен телефон, возле телефона дежурил офицер. Потом Лесли пообедал с женой и дочерью. Когда доели десерт, ему сообщили, что бомба взорвалась.
Двадцать третьего – двадцать седьмого апреля 1945 года французские войска вели тяжелые бои в пригородах Хайгерлока. Город входил во французскую зону оккупации. Спецотряды американцев с помощью английских ученых демонтировали атомный немецкий реактор, нашли и вывезли самолетами запасы тяжелой воды и металлического урана, реактор и знаменитого физика Гана.
Французы дрались на подступах к городу, американцы возились с реактором.
Тогда же с нейтральной территории между нами и американцами в районе города Штасфурт было вывезено тысяча сто тонн урановой руды.
Этими операциями командовал Лесли Гровс.
Я хочу быть объективным. Я знаю, что спасение человечества, нашей планеты – в объективности.
Я мог бы понять генерала во всем. Даже в том, что он швырнул атомные бомбы на вражескую страну. Война есть война, и на войне как на войне. Генералы получили новое оружие и применили его.
Я могу понять все, кроме того, что генерал Лесли играл в теннис, обедал, кушал десерт. Я даже мог бы понять его, если бы генерал Лесли после вылета самолета ушел в церковь и молился. Но он не молился.
– "Воровский"! Я «Пирятин»! Прошу на связь!
– Я «Воровский», слушаю вас.
– Дайте «малый вперед». Шланги провисают. Дайте «малый вперед», и все будет тип-топ!
– Хорошо, дадим, – сказал я, как всегда испытывая некоторую неловкость оттого, что голос мой коробит эфир. – А пока скажите, в честь кого названо ваше судно?
Я услышал, как «Пирятин» вздохнул в тумане:
– Вроде есть на Украине такой провинциальный городишко. Так дайте «малый вперед», и все будет тип-топ.
– Как зовут беременную? Фамилия, год рождения, должность?
Он сказал данные нашей будущей пассажирки. Я записал их и спросил:
– Вы бывали на берегу в Нантакете?
– Ну?
– Чего-нибудь интересное есть?
– Холмы, церковь, башня, скука.
– Спасибо. До связи.
– До связи.
На свою беду, забрел в рубку электромеханик Сансаныч. Он болел гриппом и выспался еще днем.
– Сансаныч, – сказал старпом. – Перегорела секция электропечи. Надо ее в строй вводить. Без хлеба останемся.
– Ха! – взорвался электромеханик. Всякие упоминания о неполадках в электрическом хозяйстве вызывали у него возмущение и оскорбляли до глубины души. – Директор ресторана и вся его компания жарят в хлебных печах цыплят табака! А теперь: «секция перегорела»! Конечно, перегорит, если в ней цыплят табака жарить! Это не «Арагви». Пускай сырую муку жуют! Или надо в Канаду зайти и там печь ремонтировать. Я своими силами не могу!
Мы немного посмеялись, потому что ночью не очень смеется.
Утром закончили смену пассажиров, снялись с дрейфа и пошли домой.
Я жевал селедку с картошкой и пересмеивался с буфетчицей Тамарой, которая мыла пол в кают-компании и ругала меня за опоздание на завтрак.
Америка оставалась уже далеко за кормой, но я все-таки включил телевизор.
Так просто включил, почти без надежды еще раз увидеть Америку. Но экран замерцал. Появилась авторучка, суперэкстракласса авторучка. Мужчина с волевым подбородком улыбнулся и взял винтовку. У винтовки был оптический прицел. Мужчина засунул в винтовку авторучку и прицелился. Пиф-паф! Авторучка поразила мишень в яблочко. Мужчина с волевым подбородком вытащил ручку из мишени и написал ею несколько слов. Очевидно: «Покупайте наши авторучки – они крепче пули, ими можно стрелять из винтореза!»
Я ел селедку с картошкой и смотрел на Америку.
Пять мужчин с волевыми подбородками выстроились в линию у входа в гигантский магазин. На спинах мужчин были номера. Перед каждым стояла тележка. Судья поднял стартовый пистолет. Пиф-паф! Пять мужчин сорвались с места и рванули в гастроном, толкая перед собой тачки. Мужчины неслись в проходах между грудами продуктов, хватали пакеты, швыряли их в тачки и мчались дальше. Мужчины сталкивались друг с другом, тачки переворачивались. Мужчины подбирали пакеты и мчались дальше по лабиринту гастрономических проходов.
Тот, кто первый наберет заданный ассортимент товаров и на заданную сумму, – тот победитель. И вот победитель выносится из дверей гастронома. Аплодисменты. Пять герлс танцуют в его честь. Он вытирает пот с мужественного лица. Судья поднимает его руку...
Изображение бледнело – мы были уже далеко от Америки. Она махала нам вслед соблазнительными длинными ножками стандартных девиц.
«Прощай, Америка! До новых встреч, Мелвилл!» – подумал я и чуть не подавился селедкой. Грохот, вой и стон потрясли судно. Тарелки подпрыгнули на столе.
Реактивный четырехмоторный самолет-разведчик прошел над «Воровским». Я видел, как мелькнули размалеванные жуткими стрелами его плоскости. Через минуту он промчался опять, обрушив на судно чудовищный грохот. Он шел так низко, что я заметил голову штурмана в нижнем фонаре кабины.
Если сравнить историю Америки и нашу за последнее столетие и задаться вопросом: кто больше накопил народного духовного общественного опыта? – то ответ будет в нашу пользу. Страдания нашего народа, неповторимость пережитых исторических периодов, бесконечное разнообразие общественных коллизий – больших и малых – все это не пройдет бесследно для нации. Все это пусть дорогой ценой, но укрепит нашу будущую историю, напитает ее способностью преодолевать неожиданные и крутые повороты.
Быть может, многие нации распадутся, растерявшись в хаосе и сложностях современности. России не грозит это.
За столетие мы углубили себя страданиями. А что произошло за это время в Америке? Конечно, она продолжала копить богатства и делала это много успешнее нас. А еще? Я не хочу сказать, что Америка ничем не помогала миру, что она не обогащала его теми или иными идеями. Я про другое. Про будущее. И здесь мне кажется, что мы подходим к перевалу, а Соединенные Штаты еще только у подножия горы.
Без соли
1
Иногда бывает ощущение, что все мы на планете – гости. Как в детстве, когда привезли тебя на елку в состоятельный дом и ты чужой всем.
И такое я в очередной раз пережил, когда впервые увидел айсберг.
Уже за два дня американский ледовый патруль сообщил о появлении айсбергов у нас по курсу. И мы нанесли их координаты на карту. И я боялся, что вдруг айсберги унесет течением.
Мы попросили механиков чаще замерять температуру воды за бортом. Никто из штурманов и капитан с айсбергами еще не встречались. Туманы там густые, часты снежные заряды. И мы не знали, как радар обнаруживает эти айсберги. И конечно, пошли разговоры о «Титанике» и «Гансе Гедтофте».
Первый айсберг показался часа за два до заката. На экране радара он казался сперва судном. Но потом очертания отметки увеличились и размылись. Капитан подвернул, и мы пошли на сближение, чтобы познакомиться с айсбергами.
Они плыли сюда от берегов Гренландии два года. Два года они раздавливали волны и обыкновенные льды. Они презирали ветра и подчинялись только глубинным течениям, потому что сидели в воде на триста метров.
Они плыли сюда два года, храня в себе тайны ледникового периода. В них жило эхо голосов пещерного человека. И они слышали последний, предсмертный вопль замерзающего мамонта.
И вот они приплыли сюда, чтобы встретиться со мной и потом исчезнуть без следа в волнах океана.
И я тоже шел к ним длинным и сложным путем.
Торжественная тишина стояла в рубке.
Мы вплывали в храм.
Его куполом были небеса. Айсберг был алтарем.
Мы измеряли его высоту секстаном и радаром – по вертикальному углу и дистанции. Получилось семьдесят метров.
Мы были жалкими гостями мироздания, блохами, водяными блохами.
Айсберг имел две вершины, с ущельем между ними. Заходящее солнце уперло в вершины свои лучи. Неизъяснимые краски мерцали в гранях и поверхностях льда. Глубинный шум покорно смиряющихся волн окружал айсберг. Зелено-белый кильватерный след оставался за ним.
Мы перестали замечать время. Судно лежало в дрейфе и тоже благоговейно слушало шум двигающегося сквозь храм алтаря.
Намного ниже его вершин летал альбатрос.
А позади было еще два маленьких айсберга, очевидно соединенных с ним под водой общей подошвой.
И я все думал о тщетности усилий человечества достичь величия и о том, что мы гости здесь, что планета и мироздание только терпят нас – и больше ничего...
– А что это красное? Белого медведя убили, что ли?
И мы все заметили странные кровяные подтеки на огромной высоте, у самых вершин.
– Братцы, так это же номер! – заорал кто-то. – Номер восемнадцать!
Айсберги оказались пронумерованными. Ледовый патруль метил их из ракетных пистолетов, как метят овец. На айсберге был номер, как инвентарная бирка на канцелярском столе. Чтобы не путать их друг с другом, чтобы они не разбежались, не ушли в кусты от пастуха.
Благоговейная тишина рухнула. Капитан приказал давать ход и чертыхнулся, потому что мы потеряли на знакомство с айсбергами не меньше часа. В рубке спорили о том, как называются маленькие айсберги – «айсбержата»? – от жеребят? Или еще как, по-иному? Все изощрялись в остротах и веселились. Всем как-то легко стало. Величие перестало давить души, и мы бессознательно обрадовались этому.
Так с наслаждением разрушали храмы солдаты и дикари во все века.
2
Если выпарить всю соль океана, она покроет планету слоем в девяносто метров.
Почему вода в морях соленая, не знает никто. Идут жаркие научные споры.
У нас исчез запас соли в двух сутках от Ла-Манша. Нам было мало дела до научных споров: откуда берется соль в океане – из пресных рек выщелачиванием твердых пород земной коры или она разом выпала из атмосферы, когда миллиард лет назад Земля стала остывать.
Нам морская соль вообще не годилась, ибо от нее слабит. Нас интересовало, как исчезла наша поваренная соль. Ответчик – директор ресторана Жора – утверждал, что соль была уничтожена рассолом. По его теории, бочка с солеными огурцами не выдержала шторма, раскололась. Рассол проник в ящики с солью, растворил ее, унес в шпигат кладовки, а затем в Атлантический океан. Таким образом, директор ресторана Жора внес свой вклад в девяностометровый солевой слой планеты.
На борту больше четырехсот человек. Чтобы их кормить, надо пятнадцать килограммов соли в сутки. И вдруг оказалось, что без соли так же невозможно жить, как без пресной воды.
Радисты застучали ключами. Радиоволны понесли над планетой необычный SOS. Пароходство метало громы и молнии. Нам давали координаты ближайших судов, и мы вертелись в океане, чтобы сблизиться с ними. Умора была сидеть в радиорубке и слушать разговоры с коллегами.
– Теплоход «Невалес»! Я «Воровский»! Сообщите ваши запасы соли.
– "Воровский"! Я «Невалес»! Имею на борту две тысячи тонн глауберовой соли, следую Геную, что вам нужно?
– Срочно нуждаемся поваренной соли.
– Повторите!
– Срочно нуждаемся столовой соли!
– Какой у вас груз?
– Имеем на борту триста двадцать пассажиров.
– Протухли они у вас, что ли?
– Почему протухли?
– Зачем вы собираетесь их солить?
– В штормовых условиях потеряли запас своей соли. Сообщите, сколько можете дать?
Откуда на обыкновенном грузовом судне может быть лишняя соль? Там экипаж максимум тридцать-сорок человек.
Наши пассажиры привыкли питаться хорошо, и далее слабые попытки перевести их на сухой паек закончились скандалом.
И мы начали благословлять директора Жору – в сложившейся ситуации пароходство должно было разрешить заход в Англию или Францию.
Мы уже шесть раз пересекли Атлантический океан и имели моральное право передохнуть денек в симпатичном заграничном порту.
Неуверенная мечта о таком заходе давно жила в экипаже. И к осуществлению мечты прилагались даже усилия. Например, в прошлом рейсе было отмечено, что вода, которую мы брали на промысле – канадская или американская вода, – имеет не наш вкус и цвет. Были высказаны предположения, что водяные танки водолея недостаточно чисты. Если бы нам удалось доказать дурное качество воды, заход в симпатичный заграничный порт стал бы неизбежной реальностью. Поэтому авторитетная комиссия в составе старпома, доктора и предсудкома нацедила воды в бутылку из-под рома, опечатала, составила акт и вручила бутыль капитану.
Михаил Гансович принял от комиссии бутыль с водой и торжественно поставил ее в свой холодильник, чтобы в Мурманске сдать воду на анализ.
Дней через пять старпома осенило.
Мы играли в «козла» спокойным вечером, когда он вдруг схватился за голову и застонал:
– Пареньки, что мы сделали!
– Что?!
– Нельзя было в холодильник! Теперь от холода микробы сдохли!
И все мы вспомнили, что питательный бульон для микробов специально подогревают, чтобы микробы лучше размножались.
Спокойный, как катафалк, Михаил Гансович отправился в каюту, вытащил бутыль из холодильника и поставил ее за грелку отопления.
Михаил Гансович был удивительно добрый и покладистый человек. Вот уж кто никогда не трепал нервы экипажу без нужды, так это он. За исключением английских команд, конечно. А получить разрешение на заход в загранпорт ему было важно, чтобы поупражняться в произношении с настоящими англичанами.
Но, очевидно, было поздно. Очевидно, эти подлые микробы оказались нежизнестойкими и сдохли в холодильнике, потому что анализ ничего для нас положительного не дал.
Теперь наш малосольный, многострадальный теплоход получил шанс передохнуть денек в Плимуте или Гавре.
Встречный «Ржев», который мог дать нам приличное количество соли, попал в туман на подходах к Зунду и застрял у Борнхольма.
Оставался «Северодвинск». Он шел в Кильский канал впереди. Капитан «Северодвинска» оказался ворчливым и непокладистым. Он сообщил, что может дать любое количество соленой воды, но ему скоро направо, а нам налево и ждать он не будет, потому что торопится в Ригу на ремонт. Ясно было, что в Риге капитан собирается удрать в отпуск и ему важен каждый час. Но пароходство велело ворчливому капитану ждать нас у Булони.
Была глухая ночь, кромешно черная. И глаза так привыкли к темноте, что слепил огонек сигареты. И слепил даже слабый отблеск палубных огней на пене волны, отброшенной носом судна. И слепили вспышки маяков на морском проспекте Па-де-Кале.
В небе метались между Францией и Англией маленькие самолетики, неся на крыльях красные огоньки. И чего им не спалось? По-моему, это были частные самолетики и летали они из закрывшихся английских ресторанов в ночные французские. Летали пареньки, как у нас говорят, «добавить».
А по проспекту плыли бессонные трудяги корабли, цугом, как лошади в обозе.
И Михаил Гансович не уходил спать, белел рубашкой у окна рубки.
За восемнадцать миль Булонь появилась на экране радиолокатора сигналом, отраженным каменными молами.
С запада в Булонь следуют створом городского собора и форта на горе Ламбер. Почти посредине этого прохода лежит затонувшее судно с опасной глубиной пять метров. Над судном горит вечный огонь, то есть оградительный буй. Называется буй «Офелия». Набережная в городе носит имя Гамбетты. Возле набережной толкутся борт к борту рыболовные суденышки.
К востоку от Булони есть город с самым коротким названием – Э. К городу ведет канал Э. Дарю эти сведения составителям кроссвордов. В городе Э, конечно, есть церковь и замок, видные с моря.
Боже мой, сколько построили люди церквей, соборов, часовен, кирх, костелов, мечетей, минаретов, колоколен! Неимоверное количество. И моряки это знают лучше других, потому что все эти церкви и соборы нанесены на карты и тянутся шпилями и крестами в небеса. Мне кажется, церкви в определенном смысле заменяли прежним людям кино. Они давали какое-то развлечение в средневековом вкусе. Правда, кинотеатры не тянутся в небеса, и я еще ни разу не видел кинотеатра на штурманской карте. А церкви и соборы до сих пор помогают водить вдоль берегов корабли.
Но об этом не написано в лоциях, все это я сам придумал. А в лоции прочитал название местных, булонских ветров: «сюэ», «биз», «вандуэз», «нароэ». Сюэ, конечно, теплый ветер, а нароэ – холодный. Это ощущается в их звучании.
Я вышел на крыло мостика в ночь. Дул сюэ. Впереди видно уже было зарево огней Булони. Зарево мерцало, как теплое северное сияние. Сюэ тянул с берега, и казалось, я слышу запах Бретани – запах цемента, автомобилей, фруктов, овощей и вина. Берег не был виден. Там, за дюнами, спали в своих домишках французские крестьяне, среди весенних рощ и лугов, чередующихся мелкими возделанными участками земли. Такой пейзаж на полуострове Бретань называется «бокаж».
И близок был Париж, праздник, который всегда с тобой, – часа два на автомобиле по пустынному ночному шоссе.
Из открытой двери ходовой рубки доносился голос старпома, он пилил доктора Леву.
– Не мог найти какой-нибудь аппендикс? – сетовал старпом. – Вот я чешусь весь рейс. Может, это опасное мозговое заболевание. Доложил бы Щуке (Щука – фамилия начальника санинспекции), что Самодергин чешется и ты ничего не можешь своими силами... Викторыч, ты куда пропал?
– Здесь я, Алексеич.
– Пойдешь на вельботе?
– Пойду.
– Печать не забудь тогда. На накладной печать поставить надо будет. Эти волосаны с «Северодвинска» без печати прошлогоднего снега не дадут.
– Есть, понял.
Он вышел на крыло и стал рядом со мной.
Зарево Булони было уже близко, но зыбко, и на фоне его видны были огни «Северодвинска», который ожидал нас на якоре.
– И не надоело тебе быть писателем? – спросил Алексеич.
– Надоело.
Мне действительно надоело. Столько сил уходит, чтобы заставить людей позабыть, что ты их вдруг возьмешь да и опишешь. Будь оно неладно.
– "Северодвинск", я «Воровский», это вы стоите?
– "Воровский", я «Северодвинск», это вы идете?
– Да, это мы подходим.
– Понятно, это мы стоим.
– Добрый вечер. Как слышите меня?
– Доброй ночи. Отлично слышу. Кто у рации?
– Старший помощник.
– Капитана попросите.
Тихий, как катафалк, Михаил Гансович взял микрофон и прокашлялся. Он не мог вспомнить имя и отчество своего коллеги с «Северодвинска». Они были какие-то очень заковыристые, особенно отчество, вроде «Святополковича».
– Гм, кх, капитан у аппарата. «Воровский» говорит.
– Михаил Гансович, доброй ночи, откуда идете?
– Гм, кх, м-м-м-м... доброй ночи, Свет... Митич, от Америки идем, от самого Нью-Йорка.
– А как вас сюда занесло, Михаил Гансович? Чего южнее Англии идете?
– Гм, кх, Фед... Митич, погоды, говорю, штормовые, три шпангоута треснули... Треснули, говорю, три шпангоута... Тут еще просьба. Директор ресторана просит семь палочек дрожжей, кроме, гм, кх, соли... Как у вас с дрожжами?
– Да я, Михаил Гансович, дрожжами как-то не занимаюсь сам. Сейчас выясним... У вас радиооператор Тютюлькин есть?
– Есть у нас Тютюлькин? – спокойно спросил Михаил Гансович окружающую темноту и попутно приказал: – Слоу хид!
– Есть Тютюлькин, – доложил я. – Первый рейс идет, из демобилизованных.
– Гм, кх, Вов... Митич, есть Тютюлькин.
– А у меня невеста его плавает буфетчицей. Вот она тут стоит, просит, чтобы Тютюлькина на вельбот взяли, когда к нам пойдете, целоваться хочет.
– Это можно, гм, кх, можно. Пойдет Тютюлькин, поцелует.
– Будут дрожжи, Михаил Гансович. Есть дрожжи. Как поняли?
– Понятно, понятно. Спасибо. Ну, я в дрейф ложусь, вельбот будем спускать.
Несколько секунд из микрофона слышался далекий английский разговор, потом эфир щелкнул и сочный бас спросил:
– Это кто тут по-русски заливается?
– А вы кто такой? – спросил «Северодвинск».
– "Тижма", идем с Конакри на Ленинград.
– Банановоз, что ли? – поинтересовался «Северодвинск».
– А вы кто?
– Я «Северодвинск», даю соль и перец теплоходу «Вацлав Воровский».
Сочный бас засмеялся и поправил, потому что, очевидно, уже давно подслушивал:
– Соль и дрожжи, а про перец не было. Ну, счастливо вам!
И проплыл где-то там в темноте, в обозе других судов по морскому проспекту Па-де-Кале.
К рассвету дело было сделано, вельбот вернулся в привычные объятия шлюпбалок; Тютюлькин, нацеловавшись, спал; повара сыпали в котлы соль; пекариха-радистка радовалась свежим дрожжам, и все мы скользили по зеленой воде мимо Дувра, мимо мыса Дайджес. А потом, когда поисковые нефтяные вышки, похожие на марсианские сооружения, остались за кормой и берега Англии исчезли в легкой дымке, мы легли на чистый норд, увозя с собой голубя, голубку и маленького воробья.
Голуби держались вместе. Они перелетали с носа на корму и садились где-нибудь под ветром, тесно прижавшись плечом к плечу. Голуби были розовато-голубые, очень чистые и изящные. Они не подпускали близко, взлетали, делали полукруг и опять садились. Они поехали с нами путешествовать из Франции в Норвегию бесплатно, как туристы с «автостопом». Было приятно видеть этих молодых, путешествующих бесплатно влюбленных. У молодых влюбленных часто нет денег на билет.
А француз-воробей был мал да удал. Он чихать хотел на семейную жизнь и ехал в одиночку. Шатался по теплоходу, совал нос даже в окно рулевой рубки, доклевывал остатки пшена, которое мы сыпали голубям, и чувствовал себя отлично. Очевидно, это был уже старый морской бродяга.
Они переплыли с нами Северное море и высадились в Норвегии, чтобы посмотреть фиорды и горные водопады и потом вернуться во Францию на другом попутном судне.







