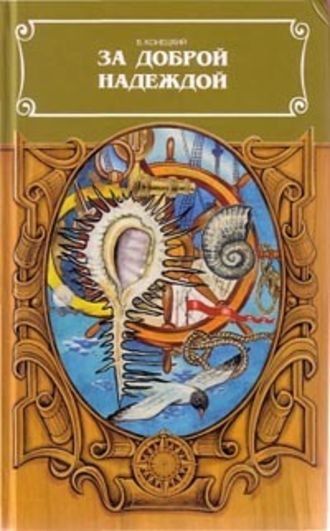
Виктор Конецкий
За Доброй Надеждой
Опять мимо Доброй Надежды и Монтевидео
08.10.69
Маврикий, Реюньон, Мадагаскар, отмель Этуаль уже за кормой.
В Порт-Луи простояли около двух суток – брали воду и продукты. Было там славно, по-домашнему. Местные люди уже привыкли к нам, лоцман поставил к причалу, близко росли южные кусты, их цветы покачивались в вечернем бризе, цветы красные, белые, зеленые, желтые. И сильный запах лаванды.
Пальмы и нефтяные баки вездесущей «Шелл». Под пальмами и между кустов бродил и блаженствовал Пижон. И я ночью, проверяя швартовы, сошел на берег и побродил среди спящих, неподвижных кустов, в рассеянном свете редких фонарей. Наломал веток с красными и белыми цветами. Они оказались долговечными. И сейчас еще у цветов лепестки сильные, плотные.
Получили письма и газеты. Мой сардинский кактус прибыл домой и испугал мать – такой он большой и колючий. Да и железное ведро, подобранное на сардинской свалке, вероятно, производит сложное впечатление. Еще когда я засовывал в это ведро кактус, из ржавых дыр уже высыпалась земля, вернее песок. Я рад, что кактус жив и что он наконец завершил плавание. Он был мне другом в трудные моменты на «Челюскинце». И хорошо, что ребята сдержали обещание, доставили его на Петроградскую сторону. Значит, газ, смертельный для суринамского мукоеда, не убивает кактусы. Только бы дома его не залили водой...
В «Литературке» отличная статья Платонова о девочке и Короленко, как девочка придумывала и стирала ошибки в рукописи, чтобы Короленко не прогнал ее от себя. Статья Шима о телевидении. Завидно, что Шим не теряется перед сложностью сегодняшнего мира, что ему все ясно и в жизни, и в проблемах развития средств массовой информации.
Статья Гейдеко в «Литературной России», где автор с лютой злобой кусает Горышина.
Странно с такого большого расстояния наблюдать столь знакомый мир. Во всяком случае, он не делается значительнее от перспективы.
В иллюминатор заглядывает сиреневое утреннее светание. В сиреневом по горизонту горбатится темно-сиреневый Мадагаскар, зарево маяка. Почти полный штиль. Идем по 15 миль – самым полным.
В Порт-Луи зашли со старпомом в китайский книжный магазин. Покупателей не было. Только старик китаец сидел за конторкой под самым большим портретом Мао. Все стены обвешаны Мао поменьше. Все книги ярко-красного цвета – тысячи цитатников на различных языках. Издания очень хорошие, добротные, ясно, что делались на экспорт. Ради любопытства хотел было купить цитатничек величиной с коробку спичек на английском, но раздумал.
За все время не встретили ни в портах, ни в море ни одного китайского судна. Японцы шуруют везде, где есть вода. Китайцев как будто и на свете нет.
Каюта – сплошной натюрморт и кунсткамера. Висят и качаются кокосы разных возрастов. Везде насованы раковины всех видов и кораллы. Из этих богатств выбираются на свободу и ползают по мне раки-отшельники, крохотные крабы и улитки. И от йодистого запаха моря трудно дышать. Густо пахнут морские дары.
В Порт-Луи ранним утром мы спустили вельбот и поплыли на отмель, которая начинается за мысами гавани. Бывалые ребята утверждали, что там самое добычливое место, что кораллы с острова Сайрен – чепуха рядом со здешними. И оказались правы.
Мы бросили якоришко на метровой глубине. Ребята ныряли в бирюзовую воду с ножами и молотками. Оленьи рога, ветки сказочных растений, что-то похожее на огромные розы; нежные, как сыроежки, полусферы; плоские кружевные лепестки... Я принимал богатства в вельбот, штиль был, тишина, пахло рыбным рынком, виднелось близкое дно, мир был в душе, спал рядом старинный форт, торчало над водой брюхо какого-то неудачливого парохода, с парохода удил афроазиат и таращил на нас глаза...
Вельбот был загружен до предела, ошвартовались мы с набережной, выгружали добычу на теплые каменные ступени, опять под недоумевающими взглядами местных людей. Так глядели бы у нас на человека, вытаскивающего из Невы булыжники.
Кораллы в свежем виде имеют цвет бурый, серый, грязно-зеленый; покрыты слизью, водорослями. Технология обработки простая. В бочках разводят хлорную известь и опускают в раствор кораллы на день-два. Затем их следует тщательно промыть пресной водой. Можно и соленой, но считается, что цвет тогда не такой снежно-белый. Судовое начальство строго запрещает промывку кораллов пресной водой, а экипаж правдами и неправдами старается обмануть начальство. Еще одна сложность в том, что стащить хороший коралл у друга-приятеля – не воровство, а этакое невинное баловство.
Экипаж разбивается на группки, группки объединяются вокруг добычи хлора, бочек и источника пресной воды. Хлор хранится у боцмана, и боцман делается центральной фигурой на добрую неделю. Важно еще иметь какое-нибудь служебное помещение, куда следует поместить банку с хлорной известью, чтобы не отравиться хлором и не испортить известью мебель, штаны и каютные ковры.
У меня есть такое помещение – маленькая кладовка в корме, где томятся флаги всех государств планеты, добрая тысяча томов старых лоций и дип-лот. От развившейся патологической жадности и страха, что похитят мои ценности, ни в какие группки я входить не стал. Одиноким шакалом после каждой ночной вахты, под покровом мрака, в качку обливаясь на трапах крепким раствором извести, я таскал банки с носа в корму и, закрыв дверь каюты на ключ, промывал кораллы в умывальнике.
Часть даров я оставил без обработки. От них каюта и пропахла запахами моря на долгие месяцы. Ящики с дарами, проложенными наворованной ветошью, газетами, старыми флагами государств нашей планеты, я распихал под стол, под диван и в шкаф-бар, который традиционно пустовал у меня.
12.10.69
И вот мы опять проходим Добрую Надежду, где «Жанетта» в кейптаунском порту с какао на борту «поправляла такелаж». А над нашими головами в ближнем космосе проносится «Союз-6» с двумя спящими в нем космонавтами. И антенны ведут его через зенит, а судно тяжко раскачивается на встречной штормовой волне.
Шторм делается жестоким. В такой шторм судно кажется птичкой, которая трепыхается в ладонях великана. Индийский океан передает нас Атлантическому.
Теплоход «Невель» – и два океана. Отличная компания.
Я пою песни военной поры и вспоминаю сорок пятый год, как перегружали дрова из железнодорожных вагонов на трамвайные платформы, костер в порту... Да, я повидал мир, думаю я. Но он не кажется мне ни веселым, ни отчаянным. Быть может, потому, что сам я никогда не буду ни веселым, ни отчаянным, а мир проходит сквозь меня. Я устал, хочу спать и чтобы не снились плохие сны. И я уже забыл про космический корабль «Союз-6» над головой. Но я хочу верить, что другим достанутся и достаются кусочки весело-отчаянного мира. От веры в это мне легче жить.
Продолжаем работать полным ходом. Крупная зыбь от юго-запада. Удары тяжкие. Скорость упала до сорока трех миль за вахту. Лопнул кронштейн с сигнальными огнями на фор-брам-рее, болтается на проводе, выискивает, кому на голову свалиться. Мало шансов успеть в точку работы к назначенному сроку. Да, для скоростных гонок через океаны наш бывший лесовоз не годится. От каждого удара судно содрогается и корчится, как эпилептик. И над черным носом встают белыми привидениями фонтаны брызг до самых звезд.
– Фрам! – командую я «Невелю». Мне нравится звучание этого норвежского слова. Так Нансен назвал свое судно: «Вперед!» И Амундсен тоже прокатился на этом слове в Антарктиду. – Фрам!
Стоит только подумать, что зыбь стихает, как «Невель» сразу находит особенно здоровенную зыбину, втыкается в нее, вздыбливается и этим заявляет, что категорически не согласен с предположением. При этом он еще поносит тебя своими корабельными словами – скрипами и грохотом. «Ну ладно, дружище, прости, я ошибся», – подхалимничаешь ты. И он идет некоторое время по волнам равномернее и плавнее. Вот они какие, эти пароходы. С ними тоже надо искать хитрый общий язык.
В космосе носятся уже три «Союза».
Космонавты Шаталов, Шонин, Кубасов, Филипченко, Волков, Горбатко, Елисеев чувствуют себя хорошо, кровяное давление и давление в кораблях нормальное, они уже передали привет народам Европы и передали наилучшие пожелания народу Соединенных Штатов. Утром они провели физическую зарядку, сопровождавшуюся медицинским контролем, затем позавтракали. Все это сообщило ТАСС. ТАСС не забыло и о нас. Мы, то есть научно-исследовательское судно Академии наук СССР «Невель», ведем непрерывную работу по приему и обработке информации, поступающей с борта космических кораблей, и поддерживаем постоянную связь с мужественными космонавтами. Короче говоря, мы вносим свой вклад в мировую научно-техническую революцию. И члены нашей экспедиции держат нос высоко.
Нам стало известно, что в небесах также занимаются астрономией. Один из «Союзов» имеет датчик автоматической ориентации по звездам, другие имеют секстаны. Мы качаем секстаны над мокрым океаном, космонавты, очевидно, над искусственным горизонтом. Просочились слухи о том, что лампочка подсветки горизонта одного космического секстана перегорела. Бортинженеры беседовали в небесах о том, из какого другого прибора можно вывинтить эту проклятую лампочку, чтобы заменить перегоревшую. Все там происходит точь-в-точь как в нашей квартире или на экспедиционном судне «Невель».
К очередному витку выходим на крыло и дружно пялим глаза на полоску неба над горизонтом с той стороны, откуда должен вознестись «Союз» с двумя спящими героями. Несколько раз все синхронно вздрагиваем – это падают метеориты, они падают на наши натянутые нервы. Антенны вдруг тоже вздрагивают и начинают подниматься к зениту. Они «повели», а мы ничего не видим. В роли комментатора выступаю я:
– Они там замаскировались. Флагман космической бригады Владимир Шаталов отдал приказ ввести светомаскировку, чтобы американцы их не увидели и не засекли.
– Этого не может быть, – сдержанно и снисходительно объясняет старший научный сотрудник. – Корабль светит отраженным солнечным светом, а высота двести километров...
Сотрудник упоен очередным рывком в космос, ему не до шуток. Токует, как глухарь на току.
– Они покрасились светопоглощающим составом, – упорствую я. – Или, может быть, они дрейф не учитывают? Толя, ветер там сильный?
– Там нет воздуха, а значит, и ветра, – объясняет ученый среднего звена. – Там только ионы, понял?
– А вдруг у них тоже шторм, – продолжаю я валять ваньку, чувствуя, что сейчас возможен взрыв.
Но появляется кто-то из экспедиции и сообщает, что космонавты ввернули лампочку в «сектант». Он так и говорит: «В прибор ручной астроориентации – сектант – ввернули хорошую лампочку». Я объясняю молодому научному работнику, что прибор называется «секстан» – от слова «секс», а не «секта»...
Раздается традиционная команда:
– Курс на Москву! Всем долой с палуб! Будут работать «рога».
А корреспондент ТАСС Дмитриев передает из Центра репортаж «Ритм космических вахт», который заканчивается словами: «Корабли-спутники, подобно небесным светилам, прочертили свои очередные витки над антеннами Центра и ушли за горизонт...»
Интересно было бы спросить корреспондента, думаю я, слушая его репортаж, какие это небесные светила чертят витки над антеннами? Похоже, мы начали забывать, что сами вертимся вокруг светила. Пора вспомнить о Копернике. Он учил людей быть скромными, как сказал Эйнштейн. А скромность и юмор создают равновесие. Кто-то из физиков сострил, что физик – это человек, который всю жизнь тратит гигантские общественные средства для удовлетворения своего любопытства. Почему бы не заимствовать у физиков чуточку юмора? Тогда и наши члены экспедиции смягчили бы таинственно-многозначительные выражения своих физиономий и стали бы славными ребятами – такими, какие они и есть на самом деле.
15.10.69
Все крутятся и не падают клотиковые фонари на фоке. Оказывается, кронштейн фонарей ломается второй раз. В прошлом рейсе он тоже лопнул. И его приварил в Бомбее работяга-индус за хорошую порцию выпивки. А недавно мне пришлось расписаться на таком циркуляре: «От нашего агента в Индии получено сообщение о том, что впредь угощение индийских граждан спиртными напитками на борту судов будет расцениваться местной таможней как беспошлинный ввоз в страну данных напитков, что является нарушением существующего законодательства. Ответственность за такие нарушения может выразиться не только в наложении штрафа, но и в возбуждении судебного дела против виновных лиц».
Сегодня за кормой осталось 21 360 миль – виток по экватору вокруг планеты. Третий штурман объявил об этом перед обедом.
Занятно было бы взять у нас функциональные пробы и задать психофизиологические тесты. Мы продолжаем работать полным ходом на 8 – 9-балльный ветер в мордотык.
В районе Дурбана исчез без вести самолет. Дурбан каждый час дает сигнал повышенного внимания и: «Все проходящие в пятидесяти милях суда ищите настойчиво воздушный аппарат и экипаж». Дурбан уже далеко у нас за кормой. Судя по всему, ребята на воздушном аппарате улетели в вечность.
18.10.69
Пересекаем Аргентинскую котловину, вошли в зону распространения айсбергов. Граница зоны указывается на картах с запасом, и шансов встретиться с ними у нас нет. Айсберги выносятся сюда Фолклендским течением и течением Западных ветров.
Чем ближе к Огненной Земле, тем мрачнее океан. Шторм 9 баллов в лоб. Ход падает. А Москва нас подгоняет и подгоняет.
Читаю Стендаля параллельно с дневниками Кука и на вахте листаю лоцию южной части Атлантики. Получается забавная каша.
Фолклендские острова присоединил к Британии в 1764 году Джон Байрон – дед пиита, английский адмирал, прозванный за отчаянный нрав «Джеком бурь». Своим присоединением дед принес хлопот родной короне больше, чем даже внук. Ибо внук давно вплелся в лавровый венок Британии, а Фолклендские острова приносили и приносят Британии одни неприятности и войны. За этот тоскливый клок земли царапались Франция, Испания, а сейчас Аргентина.
«Джек бурь» наткнулся на острова, так как ошибся в счислении на пять градусов широты – почти расстояние от Москвы до Ленинграда. Такая ошибка представляется невозможной даже по тем временам. Особенно для моряка, который затем благополучно обошел вокруг планеты. Скорее всего англичане хитрили.
Я как раз читал о том, что поэт Байрон поддерживал себя в ночные творческие часы смесью можжевеловой водки с водой, когда по трансляции торжественно объявили о прекрасном качестве связи между тремя космическими кораблями и кораблями в Мировом океане, то есть и нами. Затем были объявлены благодарственные радиограммы от Келдыша, Госкомиссии и даже начальника нашего пароходства.
Два огромных безмолвных фрегата плыли рядом с рубкой в соленом ветре. Огромная тяжесть их тел, когтей, клювов. И ни единого крика, и неколебимость крыл. Как они находят друг друга в океанах, если даже не кричат? Каждое крыло фрегата – размах двух моих рук. И куда они деваются ночью? Ведь с первым лучом рассвета они уже рядом с нами. Сутки за сутками.
– Можно бы пульнуть, – сказал капитан задумчиво. – Но кто чучело сделает? И еще вопрос: в какую квартиру чучело поместится? У меня две крохотные комнаты в коммуналке...
– Да, – сказал я. – Вопросов больше, чем ответов, Георгий Васильевич.
Он посмотрел на небеса, где сидели в брюхе «Союзов» космонавты, кивнул головой, точно боднул низкие тучи, и пробормотал:
– А мы? Так и сдохнем здесь, в сороковых или пятидесятых!
Георгий Васильевич терпеть не мог сороковые и пятидесятые широты. Здесь ему вспороли живот, здесь он слишком долго играл в гляделки со смертью.
– Так и сдохнешь в сороковых или пятидесятых! – с некоторым даже удовлетворением повторил мой капитан.
Да, ощущается уже кое в чем время. Скоро четыре месяца, как мы в этом рейсе. Сто двадцать ночей подряд я уже провел без сна. Кто еще, кроме двигающихся в пространстве людей, или стариков, или больных, ночь за ночью думает о мизерности, неудачливости судьбы, жизни? Где-то спят нормальные люди, а ты все задаешь себе идиотские вопросы и наконец сам становишься идиотом. Или погрязаешь в мелкой текучке судовых будней: «А что сегодня на обед?..» Я решительно не нахожу в себе сил, чтобы хоть как-то осмыслить существование.
23.10.69
Точку приблизили миль на двести. И мы отработали с очередным объектом, но антенны в этот раз прошли не через зенит, а под острым углом к горизонту. Серое небо, низкие тучи, темно-серый с сединой океан – как шкура старого ишака. Безрадостный, пустынный океан, который еще раз доказал, что человек предполагает, а он располагает.
И сразу легли на курс в район Рио-де-Жанейро. Там есть банка Альмиранти-Сальданья с глубинами около семидесяти метров. Можно под теплым солнцем в дрейфе лежать, греться и рыбу ловить.
Прямо в рубку на ночную вахту позвонили мне ребята из экспедиции, пригласили после смены в четыре утра к ним. У ребят отличное настроение – работу они выполнили хорошо, Москва похвалила. И еще всем нам было приятно, что идем мы почти на чистый норд – все-таки домашнее направление. Слухи, конечно, по судну, что месяца через два, к Новому году, ошвартуемся в гавани Васильевского острова.
Я сидел у ребят, пили разбавленный спиртик тайком от высокого начальства, слушали магнитофон, трепались за жизнь, спорили... Пришла радиограмма: лечь на Монтевидео, сдать материалы на самолет, который прилетит за ними туда, и возвращаться в Индийский океан.
Главная тяжесть нашей работы – в неопределенности: не знаешь, куда повернут через минуту, не знаешь, сколько времени будет рейс. Зимовщик засел на Антарктиде и сидит, ждет, когда за ним «Обь» приплывет, ему есть для чего дни считать. А здесь и считать нет смысла, хотя мы, ясное дело, все равно считаем. И используем самые простые способы улучшать настроение. Например, вспомнишь, что сейчас в Ленинграде продают из деревянных загородок арбузы... Или заметишь в волне черепаху. Год назад в Средиземном море видел. Но средиземноморская сразу ушла на глубину виражом, как планер, испугалась шума винтов. Здешняя только голову приподняла, покачиваясь на волне.
26.10.69
Если бы сегодня глухой ночью в кромешной темноте кто-нибудь притаился в рулевой рубке теплохода «Невель», то смог бы подслушать такой диалог:
– Ну, что-нибудь видно?
– Нет. Они, очевидно, прячутся.
– Машина чего-нибудь изображает?
– Рисует на пятидесяти, а надо двадцать пять.
– Глубь материка?
– Да. Горы нет на карте. Есть три речки – Хосе-Игнасио, Гарсон и Роча. Они вытекают в разные стороны из одной точки.
– И машина рисует эту точку?
– Да, а они все попрятались – это очевидно.
– Залезли в норы и затаились?
– Да, но им это не поможет.
– Мы их все равно найдем?
– Я в этом убежден.
– Они хорошо окопались, эти мерзавцы!
– От уругвайцев можно ожидать чего угодно.
– Я тоже думаю, что они способны поставить дымовую завесу над всем материком.
– С них станется! В лоции написано, что они состоят из смеси индейцев, испанцев и итальянцев. Представляете, какие у них женщины?
– Они прячутся вместе с женщинами?
– Я сейчас уточняю.
– В таком случае я еще придавлю часок, а вы меня разбудите, когда обнаружите первую дамочку.
Под такой диалог мы входили с капитаном Семеновым в залив Рио-де-ла-Плата. Перевожу на человеческий язык главное в этом диалоге:
– Очень плохая радиолокационная видимость.
– Да, береговая полоса, вероятно, сплошное болото. И какая-то водяная пыль в воздухе.
– Глядите в оба.
– Гляжу в четыре.
– Если до берега двадцать пять миль, а идем мы по двенадцать, то я могу полежать на диванчике в штурманской рубке около часа. Когда я лежу на диванчике, то могу и задремать. Если это произойдет, не вздумайте беречь мой сон и обязательно разбудите.
– Есть, товарищ капитан, я вас разбужу, как только обнаружу берег или у меня возникнут малейшие сомнения...
Мне нравятся жаргонные диалоги. Невольно вспомнишь академика Конрада, который заметил, что суть не в звуковых обозначениях понятий, а в том, чтобы одинаково эти понятия понимать. И рано или поздно возникнет всемирный язык – хотим мы этого или нет.
Через часок мы обнаружили уругвайцев в скалах – целый островок Родос пробился сквозь муть экрана на радаре, островок украшали два погибших на его скалах корабля и маяк. За островом замерцало зарево городов Макдональдо и Сан-Карлос. Левее этого зарева, на подходах к Монтевидео, догнивал на обсушке немецкий карманный линкор «Адмирал граф Шпее», загнанный сюда англичанами четырнадцатого декабря 1939 года. С двадцать шестого сентября тридцать девятого года он действовал на коммуникациях в Атлантике и потопил девять судов общим водоизмещением пятьдесят тысяч тонн. Когда англичане подтянули (подключили) к облаве линейный крейсер и авианосец, «Шпее» укрылся в нейтральном Монтевидео. Командир «Шпее» добился от уругвайцев продления срока пребывания здесь с положенных двадцати четырех часов до семидесяти двух, а затем, получив согласие Гитлера, взорвал свой линкор семнадцатого декабря 1939 года. Говорят, что потомки командира «Шпее» – его фамилия Лансдорф – живут здесь и поныне. Еще говорят, что в 1516 году матрос с корабля главного пилота Кастилии Хуана Диаса Солиса, увидев по носу землю, заорал: «Вижу холм!» – «Монте видео!» И крик того давно превратившегося в прах матроса застыл на века.
До полудня мы простояли на якоре в мутных водах Ла-Платы. Мутные они потому, что река Парана, впадающая в залив, собирает муть с доброй половины Южной Америки. Над рыжей водой синел контур города Монтевидео. Он чем-то напоминал контур Таллина.
Прибывшие власти вручили капитану инструкцию. От нее попахивало дореволюционным русским языком:
"
Чтобы избежать высоких штрафов и лишних расходов, просим Вас покорно принять к сведению следующие пункты:
а) Ждать лоцмана на рейде и, по принятию на борт, следовать его инструкциям.
б) У причала немедленно надеть «накрысники».
в) При заходе в порт просим покорно поднять все флаги, в том числе "Q", "Н" и уругвайский (если имеется).
г) Необходимо пользоваться услугами буксиров при входе и выходе.
д) Не выносить из порта пакеты или другие вещи без особого разрешения.
Лоцмана заказываются с утра на после обеда и с вечера на утро; срочный заказ стоит в 2 раза дороже.
Пиньон Саенс Видал, Агент, порт Монтевидео".
Это было написано блеклыми фиолетовыми чернилами, от руки. Так и хотелось увидеть живое «ять».
Блажен, кто стоит у причала, а не болтается в море. Не сразу ощутишь, как это хорошо – стоять, и все тут. Не двигаться, черт побери. И прямо в окно каюты – кирпичные стены пакгаузов с прослойкой бетона по перекрытиям, с узкими бойницами вентиляционных дыр.
Некрасивые и пошлые пакгаузы, но они – просто прелесть, когда заслоняют и воду, и небо. В воротах пакгаузов вбиты номера. Мне пришлись ворота "7". Правее ворот лежит на цементном полу и спит, сунув под голову свернутый пиджак, работяга докер.
На судне какая-то тупая тишина – не работает главный двигатель и даже вспомогаши доведены до минимума. Голоса звучат неожиданно и громко, гулко, по-вокзальному:
– Доктора к капитану!
– Спустить «карантинный»!..
Вылезаю на свежий воздух, оглядываю пейзаж.
По носу стоит здоровенный пассажирский «Сабо-Сан-Винсен», порт приписки Севилья, Испания. По корме уругвайский буксирчик «18 июля». На противоположной стороне гавани англичанин «Дарвин».
Вдоль борта шатается много бездельничающих по случаю воскресенья любопытных уругвайцев. Приехала первая, смешанная из разных кровей, как коктейль, уругвайка. Смуглая, в короткой юбочке, стройная, в черных очках.
Свежую воду мы начали принимать из рожка на причале. Швартовщики выполняют и обязанности водолеев – разводят на грузовичке шланги, открывают рожки и засекают время. И я, увидев водолеев, машинально поднял глаза на часы – четырнадцать часов. И дернулся, чтобы заметить отсчет лага и записать его. Условный рефлекс: в это время я обычно на вахте.
Сухопутные птицы чирикают! Вот что дошло вдруг до сознания. Это не тоскливый крик бродяг и драчунов – чаек. И уж никак не гробовое молчание крылатого льва – фрегата. Нашенский, родной земной чирик. Последний раз я такое чириканье слышал на Киле в тишине умиротворенного июньского вечера среди сирени и зеленых склонов канала...
Наш героический пес Пижон сидит на верхней площадке трапа и ноет. Он уже побывал на берегу и получил крепкую взбучку от уругвайских собак. Собаки-хулиганы принадлежат кладовщику соседнего пакгауза и не сводят с Пижона бдительных глаз, мерзавцы. Трагическое положение у Пижона. Приплыл из за тридевяти океанов и не может обнюхать столбики и углы, а они так близко! Когда матросы стаскивают Пижона на причал, он начинает дрожать всем телом. И от страха перед неизведанным, перед чужими собаками, к которым его, конечно, тянет. И от возбуждения.
Уругвайские псы – кобель и сучка, – измочалив Пижона, вернулись к хозяину. Он притворно жучил их, ибо наши матросики подняли хай. Уругвайские псины суетились и подхалимничали перед хозяином, отлично зная, что он доволен, но делая вид, что виноваты, как и положено вассалам перед патроном.
Я спустился на причал, стащил за собой Пижона на веревке. Он понял, что теперь защита есть, прыгал, как резиновый. Мы с ним прошлись от носа до кормы – просто так, размять ноги.
И вдруг на русском:
– Господин, вы плохо пострижены!
Оборачиваюсь. Старый человек в дешевом плаще. Бледное, одутловатое лицо, обтрепанные брюки, в руках маленький чемоданчик.
– А, собственно, вам какое дело до моей головы?
– Я знаю, вы не любите тратить валюту на пустяки, – говорит он хмуро. – Я за так вас постригу, без денег. Покормите, может быть, ужином... Недавно поляк приходил, я у них за харчи работал...
Вот она, эмиграция. И жаль старика, но мы не грузовик – специального назначения судно: лишних пускать на борт не рекомендуется.
– Спасибо, папаша, – говорю я. – Мы работаем в море очень подолгу, по многу месяцев. И потому на судне есть свой специалист. Вот он, кстати говоря. Зайцев, видишь, у тебя здесь коллега нашелся...
Матрос Зайцев, который неделю назад обкорнал меня, как бог черепаху, прилаживает беседку, чтобы красить борт, и радостно-наивно брякает:
– Вот и хорошо! Мне-то самому надо когда-нибудь подстричься!
– Ладно, я тебя сам подстригу, – говорю я сурово и многозначительно.
Старик хмыкает, разглядывает мою непокрытую голову.
– Я мастер высокого класса, – говорит он. – Покормите обедом... или ужином...
Он настырен. Ему нечего терять.
Я даю ему пачку сигарет. Он еще битый час стоит у трапа. Надеется на что-то или, может быть, выполняет специальное задание? Разве разберешься?
Вон медленно проезжает по причалу машина. Из нее женщина спокойно, в открытую фотографирует «Невель» – по частям, кадр за кадром, отдельно прицеливается по антеннам, проезжает еще раз обратно...
Бесит это нас, конечно, но она имеет полное право заниматься своим делом.
К вечеру собрались со старпомом в город. Чиф задержался. Я ждал его на портовой площади. Там было нечто вроде сухого фонтана – круглая дыра в асфальте, окруженная невысоким поребриком. И вот в эту дыру въехал уругваец, зазевавшись на живого большевика.
Старый «мерседес» уругвайца был битком набит наследниками. И еще две дамы. И вот пока уругваец медленно рулил по причалу, уставившись на меня, неуверенно улыбаясь и посасывая сигаретку, пока все его семейство тоже пялилось на меня, а я на них, – старый «мерседес» подъехал к сухому фонтану, на миг споткнулся, потом преодолел поребрик и свалился передними колесами в дыру. Проваливание сопровождалось, как и положено, скрежетом и другими неприятными звуками, которые обычно издает автомобиль, когда он въезжает не туда, куда ему положено. Зад «мерседеса» задрался, головы семейства опустились, мотнулись, мотор заглох.
– Компец, приехали! – сказал я фразу из бессмертного анекдота.
Уругваец, сидя в яме, никак не мог понять, куда он провалился, ибо площадь была обширная и совершенно гладкая, а видеть сквозь пол «мерседеса» он не мог.
Никто из семейства вылезать из машины не стал, все продолжали сидеть и пялить глаза на меня. Левое переднее крыло машины было погнуто. Человек пятнадцать мужчин-зевак неторопливо подошли к провалившемуся «мерседесу», взяли его за передний бампер и вытащили на руках из фонтана. Все это происходило как-то странно – без шуток, без подначек, без слов сочувствия – в полном молчании. Провалившийся уругваец, так и не вылезая из машины, – хоть бы на погнутое крыло посмотрел, дурак, – дал задний ход, развернулся и уехал, увозя загипнотизированное семейство.
А мы с чифом пошли в город.
Навстречу ехали через ворота порта мимо охранников другие уругвайцы, большинство на старых, допотопных машинах, которые у нас называются «антилопа-гну».
Я вспомнил Колдуэлла, его «полным-полно шведов», и бормотал: «Полным-полно уругвайцев!» Их было множество вокруг. Но уже метрах в ста от ворот порта улицы опустели: узкие припортовые улочки, засыпанные по водостокам бумажной рванью, с закрытыми дверями маленьких магазинов, где под слоем пыли на витринах лежали подержанные вещички, оказались безлюдными – было воскресенье.
И мы шли по пустым улочкам и слышали эхо своих шагов – как в военном городе в комендантский час. Ни одно дерево не украшает припортовые улочки Монтевидео, если идешь от главных таможенных ворот перпендикулярно линии причалов. Мутные какие-то дома, мутное, серое небо, мутные потеки в водостоках, мутные обтрепанные афиши. А мутность превращается в перламутр только в одном городе мира – моем родном, – так я считаю.
Мы смотрели витрины закрытых магазинов. Цены оказались ужасными, в два раза выше сингапурских. Правы одесситы, которые готовы рулить куда угодно, кроме Уругвая.
– Невозможно работать! – шепелявил чиф, переводя уругвайские песеты в английские фунты и фунты в американские доллары, а американские доллары в сингапурские доллары и сравнивая таким образом стоимость синтетических женских пальто на разных континентах с их стоимостью в ленинградском комиссионном магазине.
За припортовым районом город ожил. На стенах расцвели яркие афиши конкурса красоты «Мисс 69». И я подумал, что когда-нибудь будут конкурсы пожилых людей. Например, конкурс дам, родившихся в 1900 году. Кто в старости сохранил благородство, духовную красоту, чистоту и здоровье тела, элегантность походки? Правда, для этого надо немного – равность условий жизни... Когда это будет?
А пока на площади Виктории, под могучими, державными, похожими на колонны Фондовой биржи пальмами, сидят старые чистильщики сапог. Работы нет. Старики молча бездельничают. Потертый и неудачливый народ эти чистильщики сапог.







